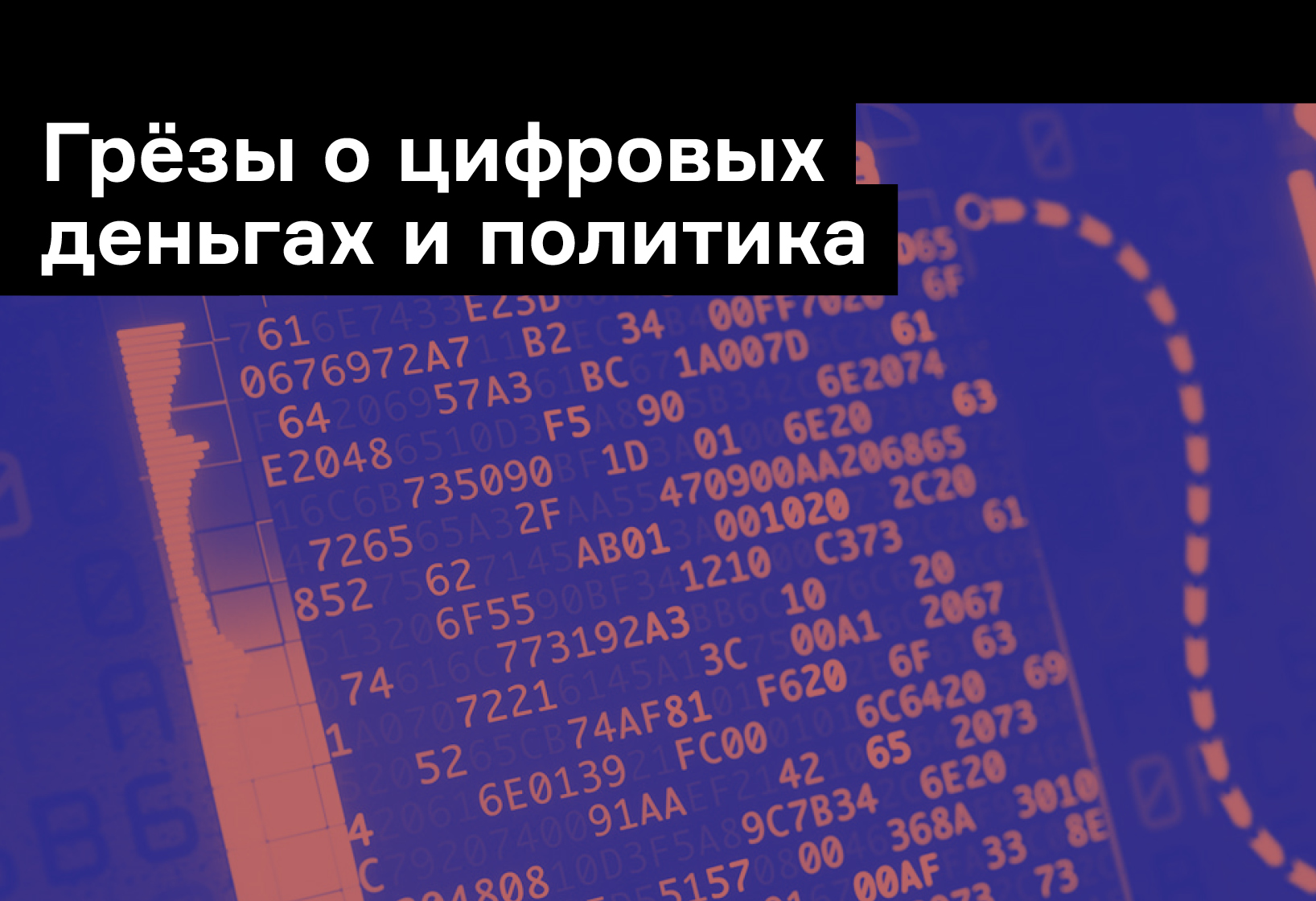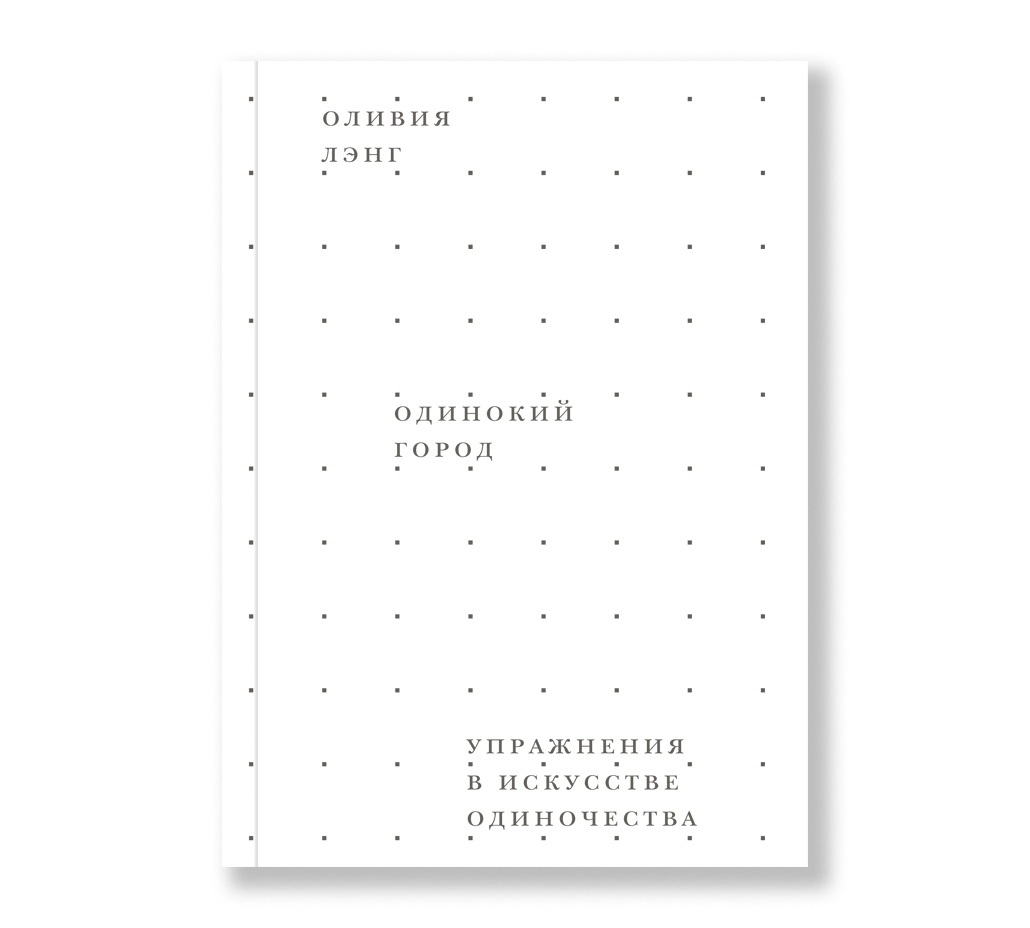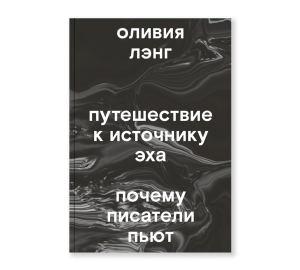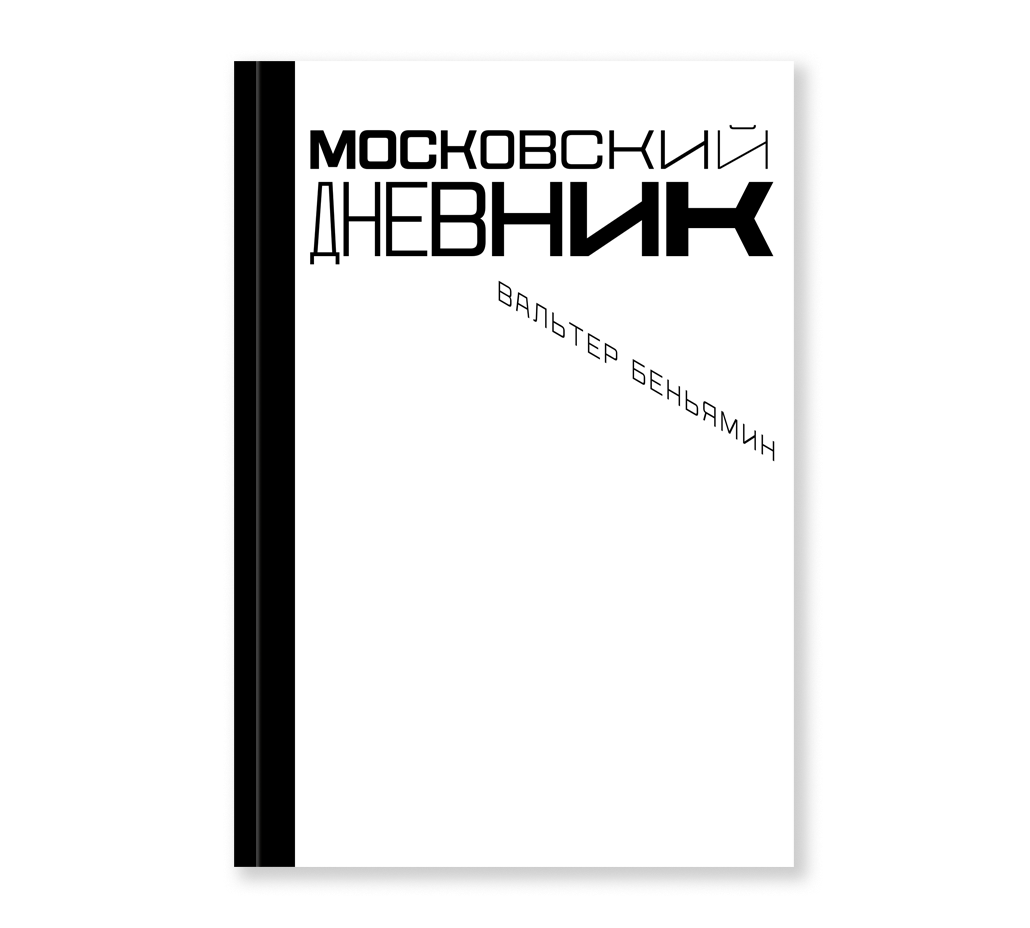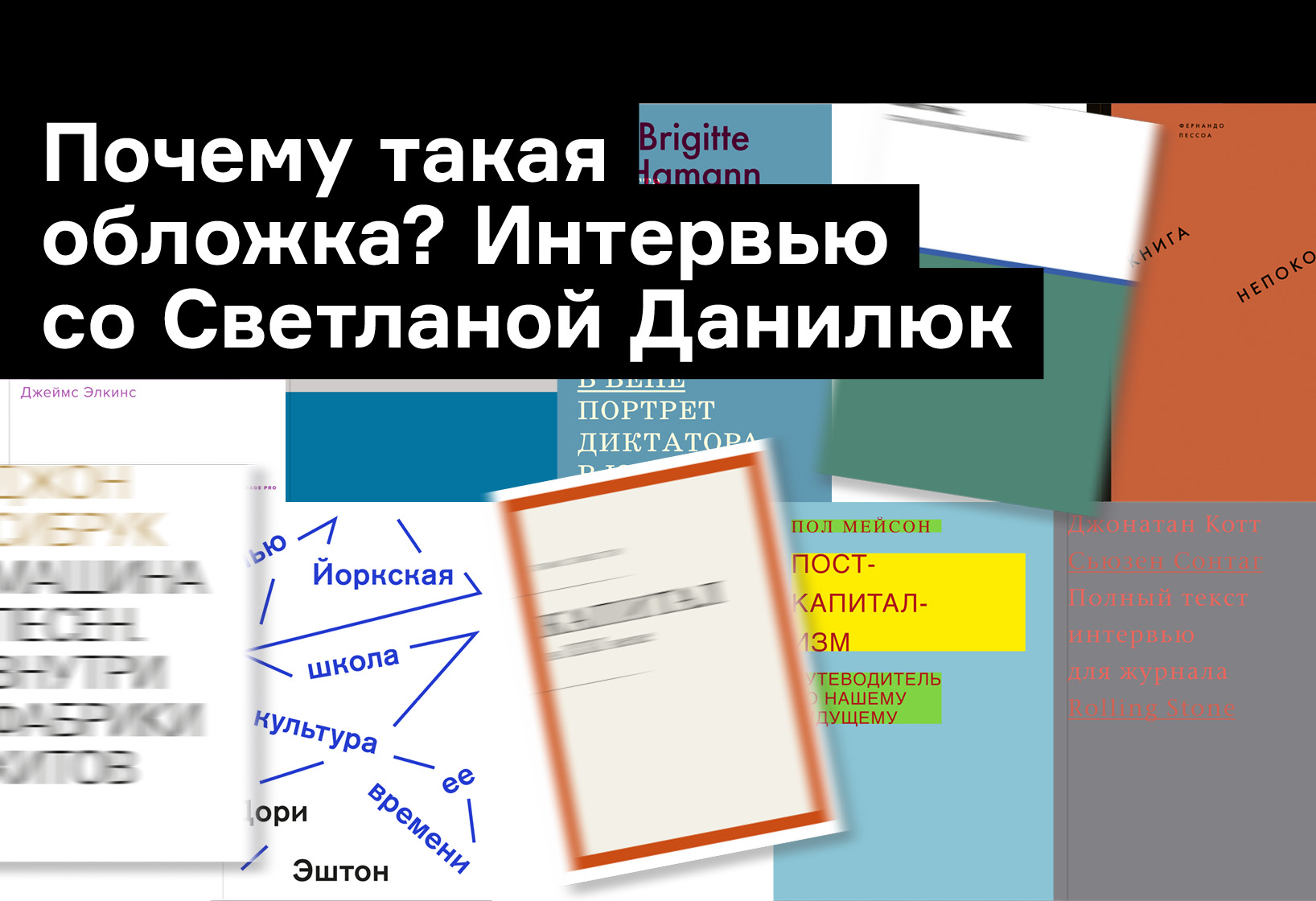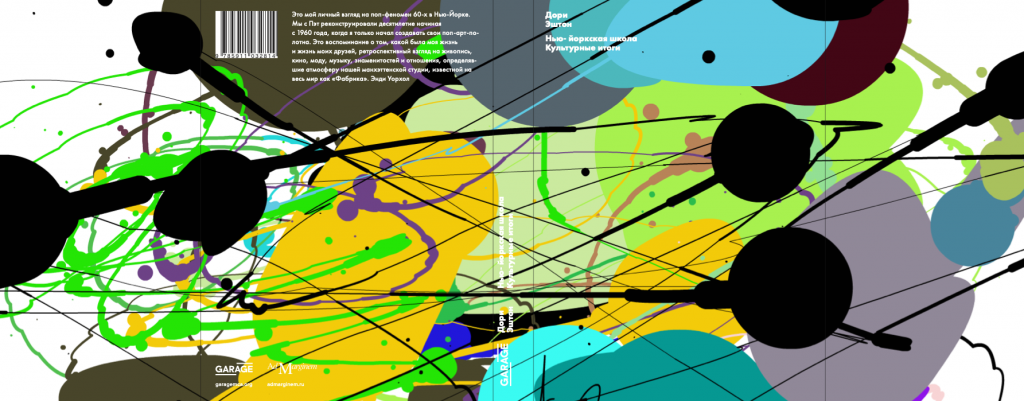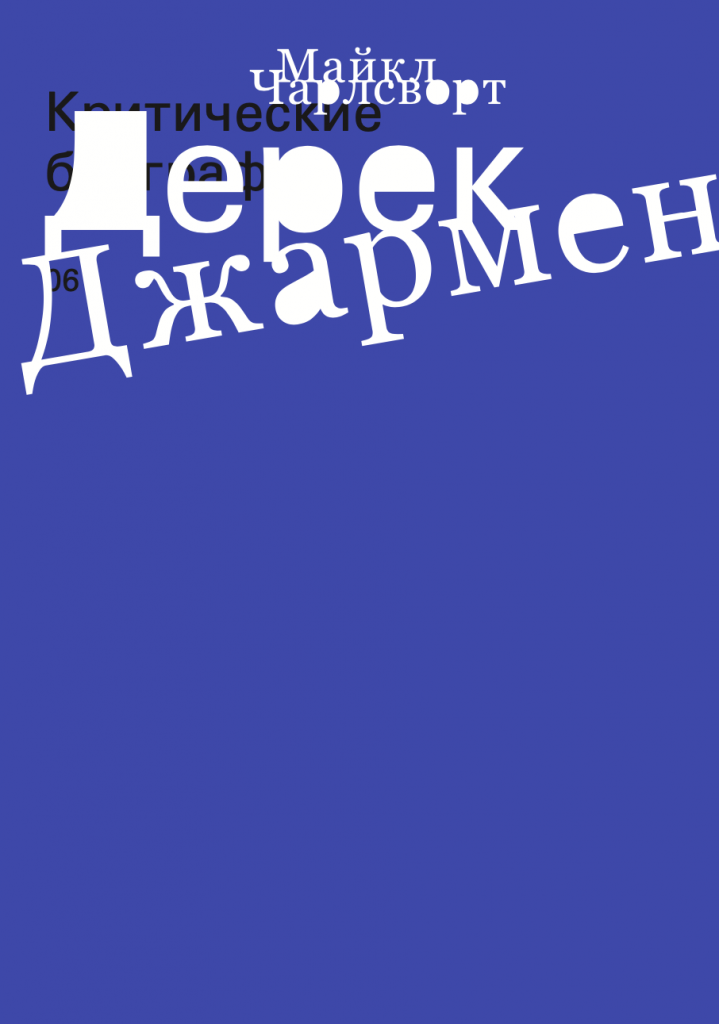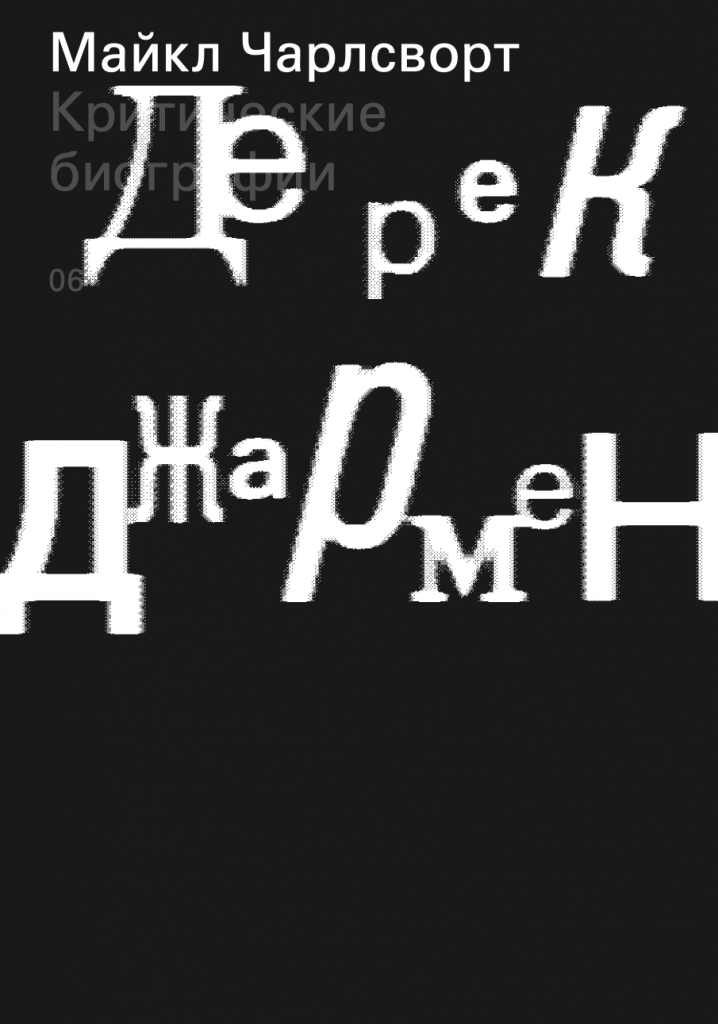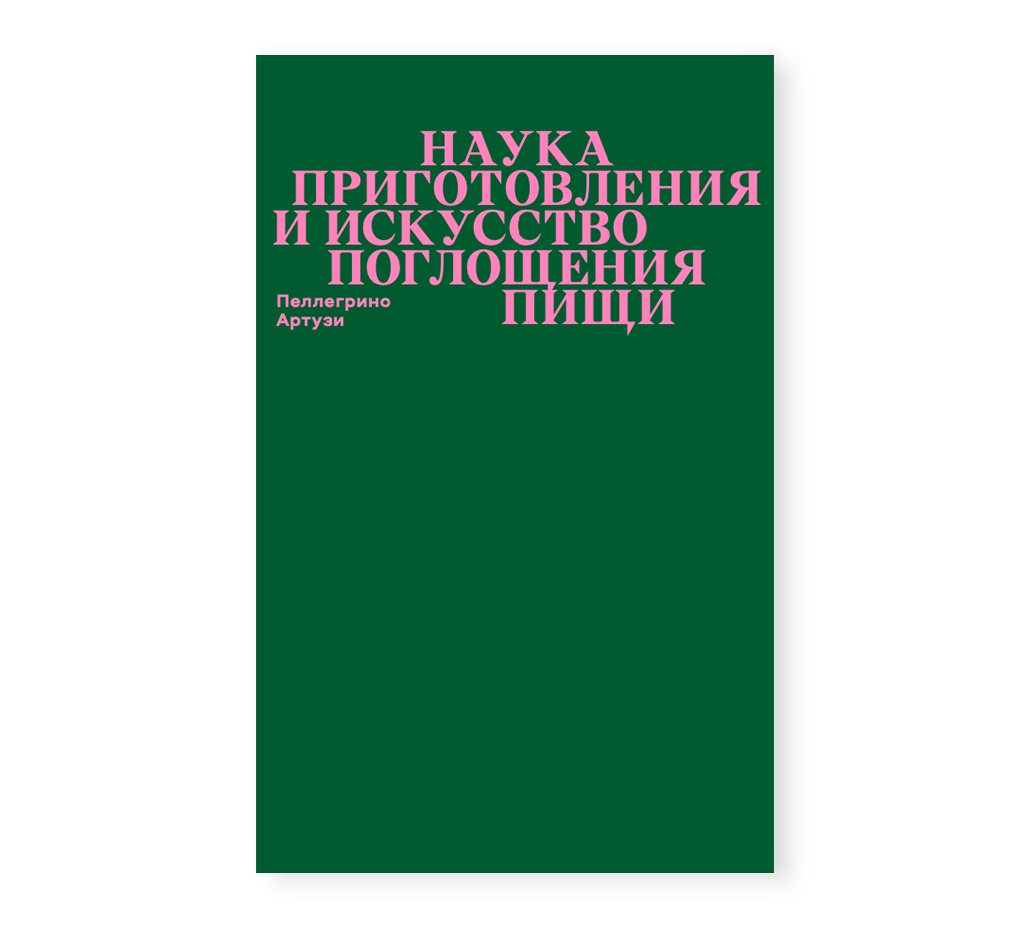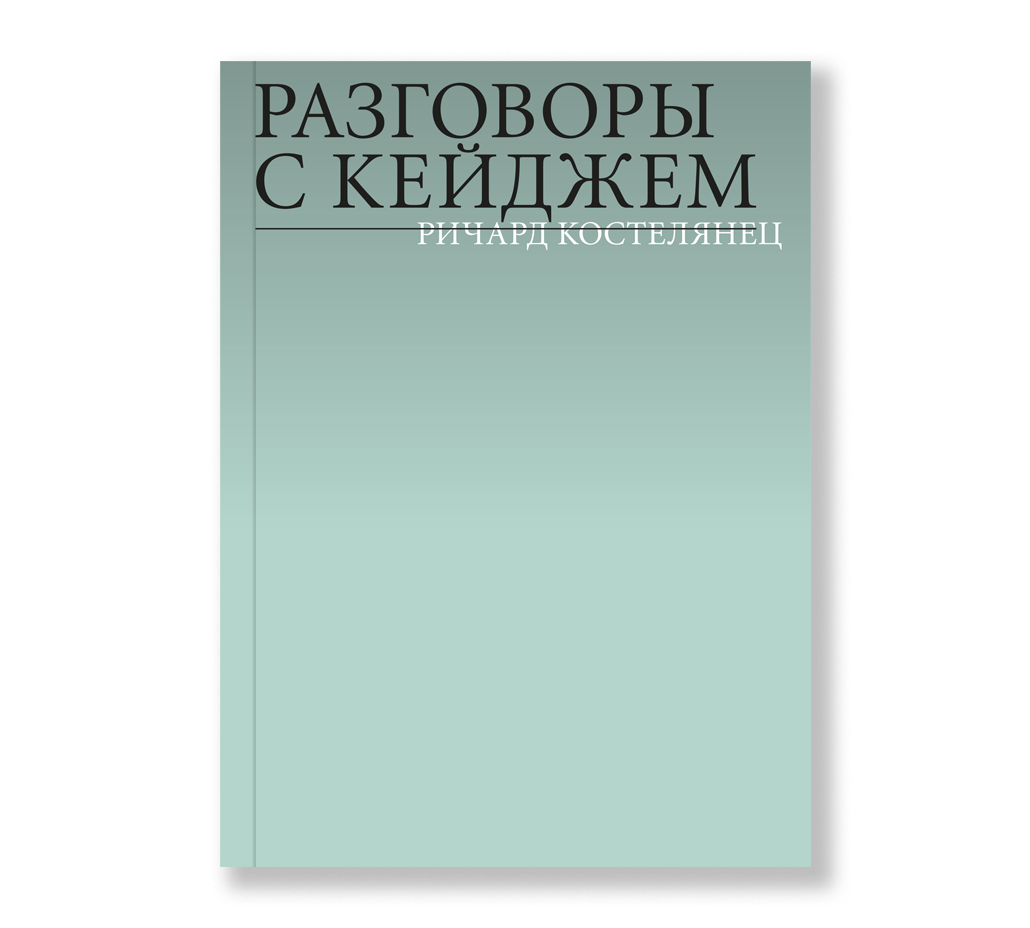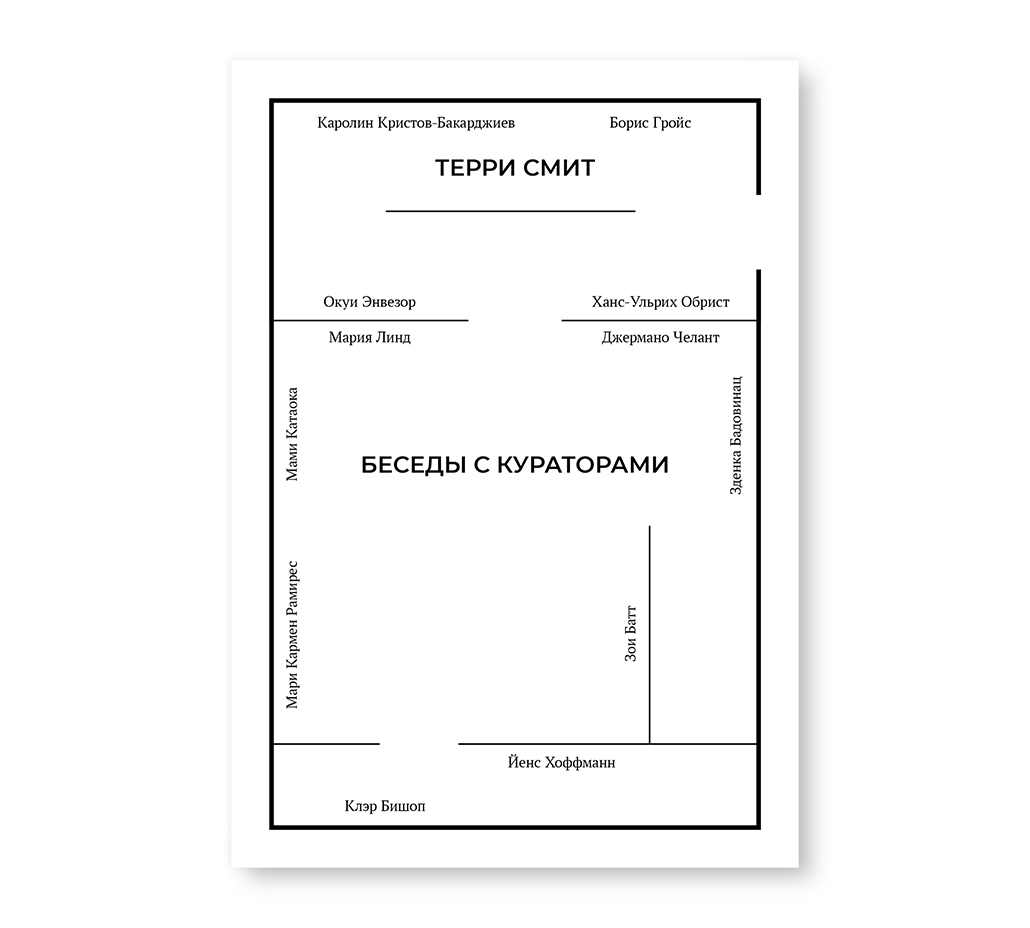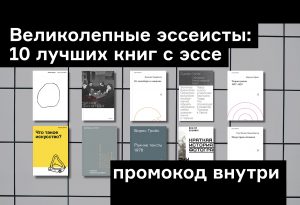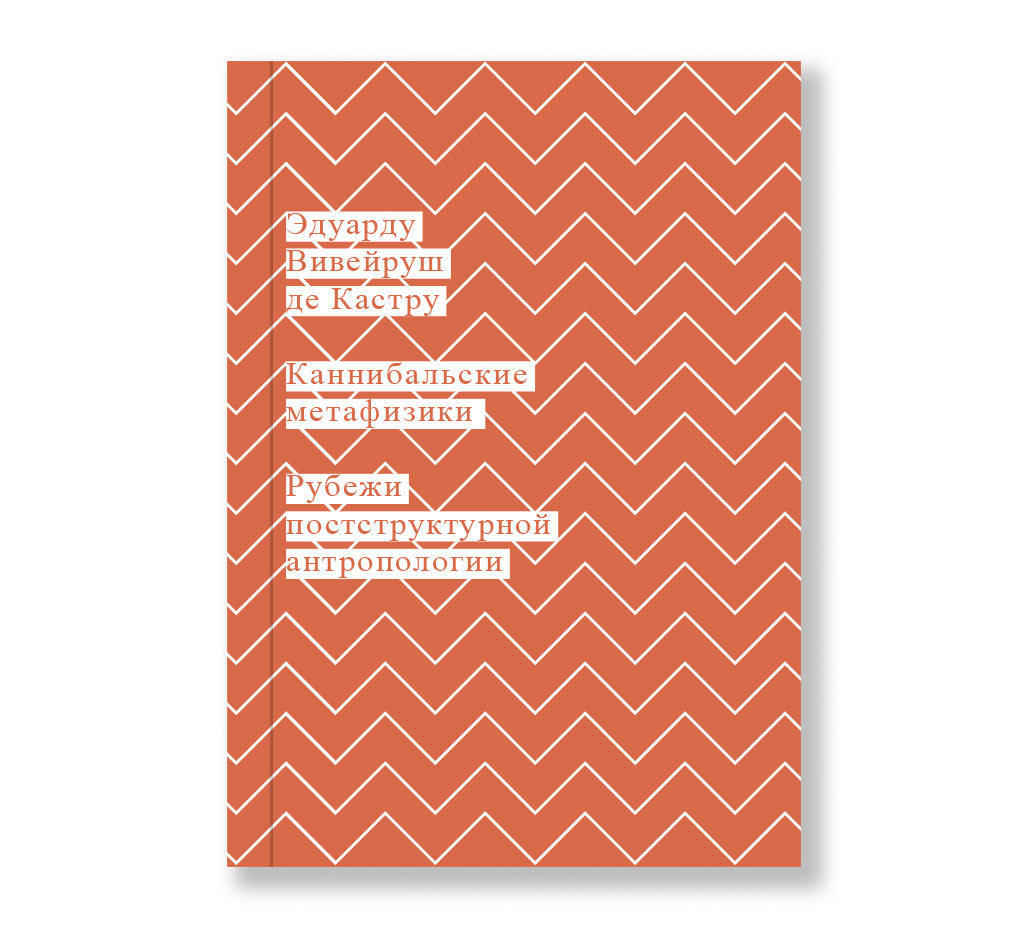В марте на 22-й книжной ярмарке Non/fiction состоялась презентация книги американского искусствоведа Лео Стайнберга «Другие критерии. Лицом к лицу с искусством XX века». В дискуссии приняли участие главный редактор Ad Marginem Александр Иванов, редактор издательства Алексей Шестаков, профессора Европейского университета в Петербурге Илья Дороченков и Наталья Мазур. Они поговорили о методе Стайнберга, его непростой судьбе и месте, которое он занимает в мировом искусствоведении.
Алексей Шестаков: Здравствуйте! Мне очень приятно представить вышедший в издательстве Ad Marginem перевод сборника Лео Стайнберга «Другие критерии. Лицом к лицу с искусством XX века». Особенно приятно представлять книгу автора, который впервые переводится на русский язык, по крайней мере в книжном виде. Вдвойне приятно делать это тогда, когда мы имеем дело с подлинным классиком, который давно застолбил свое место в истории искусства и вообще в гуманитарной науке XX века, и странным образом не удостоился книжного перевода на русский язык до сих пор.
Тем более приятно представлять первый перевод такого классика, который, к тому же, является нашим соотечественником. И статья в русской Википедии называет его двойным англо-русским именем Лео Штейнберг.
Надеюсь, эта статья пополнится или уже пополнилась в библиографии нашей книгой.
Те, кто помогут мне его представить, участники нашей презентации: Наталья Мазур – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, которой принадлежит честь первой публикации Стайнберга на русском языке, статья которого в ее переводе вошла в сборник «Образы мира». Он вышел не так давно, уже разошелся и стал, так сказать, библиографической редкостью.
Также несколько слов о Стайнберге скажут Илья Аскольдович Доронченков – заместитель директора ГМИИ имени А.С. Пушкина по научной работе, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и, насколько я знаю, лично общавшийся и видевший Стайнберга, который еще совсем недавно был с нами. И, конечно, я уверен, что если бы эта книга вышла несколько раньше, он, наверняка, удостоил бы ее авторским предисловием. Но тем не менее, мы постараемся нашими усилиями восполнить этот пробел.
И наконец, Александр Иванов – главный редактор издательства Ad Marginem. Он был инициатором перевода этой книги на русский язык и о том, что привело его к этому решению, он тоже несколько слов скажет.
Я, конечно, должен сказать о тех, кто непосредственно работал над переносом мыслей и языка Стейнберга, очень непростых и весьма изысканных. Это Ольга Гаврикова, которая целиком перевела эту книгу. Выпускница Европейского университета в Санкт-Петербурге, непосредственно учившаяся у Ильи Аскольдовича Доронченкова, и, насколько я знаю по некоторым совместным с ней проектам, она – настоящий специалист в американской теории истории искусства XX века. И редактор этой книги тоже внес большой вклад в то, какой она получилась, а получилась она, на наш взгляд, вполне достойной. Это Игорь Булатовский – поэт, эссеист, человек широкой культуры и, с недавних пор, наш коллега, замечательный издатель.
Я передам слово Наталье Мазур, которая представит нам выдающуюся фигуру Стайнберга.
Наталья Мазур: Здравствуйте! Прежде чем представить Лео Стайнберга, я скажу несколько слов об издательстве и о самом проекте. Алексей совершенно прав, называя Стайнберга классиком. Но он, я бы сказала, преуменьшает отвагу издательства Ad Marginem, которое решилось впервые по-русски издать книгу классика с очень неклассической репутацией. Дело в том, что русская читающая публика долгие годы была очень зависима от западных авторитетов, да еще таких, которые носились лет 25 назад. Каждый студент, думаю не только искусствовед, но и имеющий отношение к истории культуры, конечно, знает имя Клемента Гринберга.
Гринберг давно стал у нас классиком. Между тем это плохой ученый, малообразованный человек, с не очень хорошей искусствоведческой репутацией.
Но так уж случилось, что «Авангард и китч» – это незыблемая классика. Воспринимайте это как намеренную интеллектуальную провокацию.
Стайнберг – прекрасный ученый, очень мужественный человек, с безукоризненной репутацией, с очень интересной биографией, которую я, отчасти, рассказала в предисловии и к этой книге. Но биографию я, естественно, довела до того момента, когда, соответственно, вышли в свет «Другие критерии» – то есть до начала 70-х годов. А Стайнберг прожил очень долгую жизнь. Он родился в 1920 году в Москве, умер в 2011 в Нью-Йорке, за это время поменял несколько стран, два континента. До трех лет он жил в Москве, потом смог с родителями ускользнуть из Москвы в Германию, потом семья бежала от нацистов в Англию. После Второй мировой войны Стайнберг решил круто изменить жизнь и переехал в Америку. В 36 лет он не побоялся оставить карьеру успешного критика, поступать в аспирантуру, начать свою новую судьбу, которая стала судьбой академического ученого.
«Другие критерии» – это переходная книга. Книга критика высочайшего класса, а также не менее высокого класса искусствоведа.
Но незадолго до того, как вышли в свет «Другие критерии», Стайнберг напечатал в журнале «The Art Bulletin» статью, которую сам впоследствии называл «that nasty article» – эта грязная статейка. Речь шла о статье с великолепным названием. Вообще названия Стайнберга перевести на русский невозможно, они всегда короткие, афористичные, метафоричные. Эта статья называлась «Michelangelo’s missing leg» или «Недостающая нога Микеланджело». Речь в ней шла о флорентийской пьете Микеланджело, где у Христа действительно не хватает ноги. Он изображен в традиционной для пьеты позе, человеком, лежащим на коленях Богородицы. Мы хорошо знаем эту позу по Римской пьете Микеланджело. Но нога, которая должна была лежать на коленях Богородицы, отсутствует.
Стайнберг выдвинул великолепную гипотезу о том, что отсутствующая нога была перекинута через бедро Богородицы по той же иконографической схеме, по которой к этому времени уже изображались различные ветхозаветные сюжеты, связанные с той или иной любовью, несущей пророческое значение для нового завета.
Микеланджело напоминал потомкам и современникам о том, что Христос – это еще и небесный жених Богородицы. Что вполне естественно для человека, сведущего в теологии, и является некоторым шоком для человека, не столь сведущего в этой теологии.
Во время создания пьеты и вскоре после этого иконография поменяла прописку. Ее стали использовать для изображения соблазнительных сцен. Мы увидим ее, например, во Флоренции в Садах Боболи на статуе, изображающей Париса и Елену. Мы достаточно регулярно будем видеть ее в изображениях «Блудного сына». И Микеланджело не стал заканчивать статую, поскольку семантика этой иконографической схемы стремительно поменялась.
Гипотеза не была скандальной, но надо понимать, что такое американская наука и американское общество в конце 60-х годов. В «Других критериях» Стайнберг рассказывает о том, как в начале 70-х годов авторитетнейший журнал «Life» потерял тысячи и тысячи подписчиков после того, как поместил на обложке рядом репродукцию картины Кранаха «Обнаженная Венера» и модель в джинсовом костюме. Публика была скандализована не соположением шедевра и современной фотографии модели, а тем, что на обложке журнала вообще появилась обнаженная натура. И тот факт, что это был шедевр Кранаха, никого не защитил. «Life» сильно потерял в числе подписчиков.
После того как Стайнберг написал эту статью, его перестали печатать в журнале «The Art Bulletin», 20 лет ему больше не удавалось напечатать там ни одной статьи. Эта статья стоила ему работы в престижных университетах.
Университеты не брали его на работу, но потом об этом пожалели, потому что свою ценную коллекцию гравюр и рисунков, стоимостью в три миллиона долларов, он завещал Университету Техаса – единственному, который принял его как приглашенного профессора (visiting professor). Не то, чтобы у Стайнберга совсем не складывалась карьера. Конечно, он продолжал преподавать, но места, которые он занимал, никогда не соответствовали тому академическому весу, который он к тому времени имел.
Вместо того, чтобы образумиться и раскаяться, Стайнберг пошел еще дальше и в 1980 году в журнале «October» напечатал книгу «Сексуальность Христа в ренессансном искусстве и в современном забвении». Книга была настолько шокирующей, что от нее отказалось несколько издательств. И только очень левый журнал «October», который не сходился со Стайнбергом во взглядах на искусство XX века и многое другое, но был всегда готов поддержать интересную и честную гипотезу, осмелился опубликовать эту книгу. Она-то и стала в первый раз специальным номером журнала.
Скандал, который разразился после выхода «Сексуальности Христа», во много раз превышал скандал, разразившийся после выхода его первой статьи о сексуальности Христа.
Стайнберг доказывал очень простую и крайне убедительную концепцию: в Средние века главной целью художников было доказательство божественной природы Христа, в котором сомневались и евреи, и язычники, и мусульмане, и многие христианские течения. А в эпоху Ренессанса главной задачей стало доказательство, напротив, человеческой природы Христа и самого чуда вочеловечения, которое является величайшим чудом в христианской традиции.
Для того, чтобы лучше, нагляднее изобразить это чудо, художники сосредоточились на изображении гениталий Христа-младенца и умирающего Христа. Подобранные примеры, казалось бы, говорили сами за себя. Но искусствоведы были настолько скандализованы, что начали отрицать очевидное. Самое любопытное, что католическая церковь приняла книгу Стайнберга с благодарностью и уважением. Она отвечала на многие вопросы, которые, несомненно, возникали и у самих священников, и у их прихожан, но они не осмеливались их задать вслух. Стайнберг поставил вопрос и ответил на него убедительным и чрезвычайно корректным образом.
Но он не убедил искусствоведов, которые продолжали бушевать еще лет десять. В 1996 году вышло, наконец, настоящее издание книги Стайнберга «Сексуальность Христа», к которому были приложены двенадцать ответов главным оппонентам. Стайнберг методично и педантично разбирался с той немыслимой сумятицей, которую внесли в этот вопрос его оппоненты. После этого его репутация была восстановлена уже, кажется, навсегда. Но до России она докатилась чрезвычайно своеобразным путем. Сам Стайнберг говорил об этом в одном из интервью:
«Судьба наших гипотез очень незавидна. Либо они становятся всеобщим достоянием, либо через 25 лет впадают в полное забвение».
Книгу Стайнберга пересказали в блокбастере «Страдающее Средневековье». Один раз он там упомянут, а гипотеза изложена как некое абстрактное общее знание, да еще и приписано не к той эпохе, в которую ее поместил Стайнберг. Я думаю, что если бы он об этом узнал, то он бы умилился и обрадовался, потому что это означает, что гипотеза стала общим достоянием. А при этом, конечно, усушка, утруска и искажение совершенно неизбежны.
Чувство юмора и глубокой самоиронии пронизывают книгу Стайнберга «Другие критерии» и многие его интервью и выступления. Я надеюсь, что вы оцените ее, среди прочего, когда будете эту книгу читать.
Так вот, издательсво Ad Marginem первым пошло на перевод полноценного издания Стайнберга, и это был очень храбрый жест. Золотой лавровый венок по праву принадлежал бы этому издательству, ну а зеленый я бы отдала Европейскому университету, по должности и по убеждениям, потому что переводчица, автор предисловия. И главная группа поддержки Стайнберга в России пока что связана с нашим университетом. Но мы очень надеемся, что после выхода этой книги ситуация поменяется. И надеемся, что группа фанов Стайнберга вырастет в десятки и сотни раз. Спасибо!
Алексей Шестаков: Я бы попросил Илью Аскольдовича рассказать, каким был Стайнберг в жизни, что это за человек, и что он значит для Ильи Аскольдовича.
Илья Доронченков: Мне действительно повезло встретиться с Лео Стайнбергом в гостях у моего друга и очень хорошего американского искусствоведа Джека Флэма. Но в ту пору я еще сам Стайнберга не читал, был зеленый, и, конечно, не стал задавать ему тех вопросов, которые мы бы задали сейчас.
Так что теория пяти рукопожатий работает. Тот, кто пожмет руку мне, пожмет руку почти непосредственно Стайнбергу, но никаких откровений от нашего соотечественника не ждите.
Я хочу поздравить нас всех, и Наталью Николаевну, и Александра, и переводчицу Ольгу Гаврикову с тем, что у нас наконец Стайнберг говорит по-русски и говорит той книгой, которая, может быть, не рассчитана на эффект именно в нашем обществе, потому что она очень сильно погружена в контекст американского contemporary второй половины XX века. С другой стороны, это дополняет очень многое из того, что мы не знаем про эту эпоху, привносит это ощущение движущейся мысли.
Что мне очень дорого в Стайнберге? Я остановлюсь здесь не только на «Сексуальности Христа» или его полемических выстрелах в других американских критиков. Я бы сказал о его книгах и статьях, а у него трудно понять, где что, потому что статьи у него доходят до размеров книг, которые посвящены величинам первого порядка.
Все-таки по-настоящему одаренный человек должен обладать еще и дерзостью. И вот Стайнбергу это дерзание мысли было очень присуще.
Он писал о «Тайной Вечере», он писал о Пикассо, о Веласкесе. Я неслучайно поставил эти три имени вместе, потому что мне очень дороги его работы о «Тайной Вечере» Леонардо да Винчи. Это целая книга, очень сложно построенная и богато иллюстрированная. И вот то, что она богато иллюстрированная, нужно воспринимать именно как визуальную аналитику, не только словесное повествование. Это его брошюра или книга, философский бордель, посвященные авиньонским девкам Пикассо. Сначала это статья в журнале «October», затем еще раз эта статья, но уже с дополнениями Стайнберга. Что за ним водилось, так это то, что он, видимо, был прирожденный дуэлянт и не спускал своим оппонентам. Проходит лет десять, он перерабатывает статью и отвечает по пунктам каждому, причем прицельно его разнося. В этой полемике он, конечно, рос сам, ему это нужно было.
Как и другой здравствующий, дай Бог ему здоровья, великий интеллектуал современности, – Карл Гинзбург. Его ведь хлебом не корми, дай ответить на вопросы. Ему важна не только лекция, а именно разговор. И это статья Стайнберга о «Менинах» Веласкеса. Это поворотные вещи, классические.
Как говорит Марк Твен: «Классической называется книга, которую все хвалят, но никто не читает».
Мы знаем по умолчанию про эти картины, о чем они нам говорят. Со времен Гёте, который эту фреску не видел, но написал очень влиятельное эссе по гравюре одного немецкого художника. Мы знаем про фреску «Тайная Вечеря», что она изображает психологическую реакцию апостолов на слова Христа: «Один из вас предаст меня». Стайнберг обращает внимание еще и на то обстоятельство, тоже, в общем, очевидное, что перед нами момент учреждения евхаристии – центрального таинства христианства. И затем, на протяжении этой книги он показывает, что эти два аспекта: один, раздутый современным, светским восприятием искусства, и другой, почти умерший, потому что мы перестали воспринимать Леонардо как религиозного художника. Он показывает, насколько эти два аспекта обуславливают друг друга и насколько они неразъемны в этой проблемной фреске.
То же самое касается «Авиньонских девок», потому что Стайнберг скрупулезно анализирует процесс мысли Пикассо. Слава Богу, что между двумя версиями этого труда прошла фундаментальная выставка в Париже, которая предъявила миру записные книжки Пикассо. И выяснилось, что если в каталоге было 18 эскизов к «Авиньонским девкам», то теперь количество подготовительных набросков выросло до нескольких тысяч. И вот Стайнберг фиксирует движение мысли Пикассо и показывает, что это та вещь, с которой, как кажется, все еще начинается экспозиция современного искусства в Нью-Йорке, рождается как нерешаемая проблема. И в этой проблемности ее значение, ее мощь.
То же самое я могу сказать о его анализе «Менин». Для меня это высший искусствоведческий пилотаж, потому что человек действительно обладает глазом.
Наталья Николаевна сказала о его интеллектуальной честности. Он обладает этим редким качеством, а также даром анализа и обличения этого в слово. Снимаю шляпу, это действительно выдающийся интеллектуал, историк искусства, аналитик искусства. Я буду ждать «Философский бордель», это захватывающее чтение, в отдаленном будущем выйдет по-русски. Чем черт не шутит, однажды и «Сексуальность Христа» будет опубликована.
Алексей Шестаков: Теперь я передам слово Александру Иванову, который расскажет, как случилось это чудо.
Александр Иванов: Эта история довольно долгая. Честно признаться, еще какое-то время назад, несколько лет назад я ничего не знал о Лео Стайнберге. Случилась эта история лет семь назад, когда я, в беседе со своим знакомым, довольно известными американским искусствоведом, куратором и художником Робертом Стуруа, спросил, кого бы он мог назвать самым важным для себя арт-критиком конца XX – начала XIX века.
Он, не задумываясь, назвал мне Лео Стайнберга и обратил внимание именно на его книгу «Другие критерии».
Как-то назвал и назвал. А потом, проглядывая каталог издательства чикагского университета, я натолкнулся на это имя, Лео Стайнберга. Мы заказали эту книгу, все началось. Благодаря коллегам и благодаря Алексею мы практически перевели дело в план, нашли переводчиков, замечательного автора предисловия – Наталью Мазур. Я ей очень признателен, за то, что она подготовила рождение этого русского текста. Важно, что мы все вместе довольно позитивно отреагировали на работу переводчика.
Стиль Стайнберга, невероятно изящный, он реализует то, что важно для всех при чтении научной, гуманитарной литературы. Для него гуманитарная истина возможна лишь как факт стиля. Не просто позитивного познания, но и немного определенного субъективного опыта и словесного воплощения этого знания. И в этом отношении мне эта книжка кажется невероятно важной для русского контекста. Потому что это важно, так изящно писать об искусстве является очень естественным и очень классическим даром. Начиная с Возрождения писали именно так – изящно, то есть соответствуя своему предмету, а не некоторым другим идеалам, которые с этим предметом не пересекаются.
И вот в этой связи еще один важный момент, невероятно актуальный для русской традиции: в России невозможно представить автора, который бы занимался и классическим и современным искусством. Нельзя себе представить, что, например, Лазарев занимается итальянским Возрождением и московским концептуализмом. Это просто невероятный факт, этого не может быть.
За современное и классическое искусство отвечают не просто разные люди и разные институции, но разные биографии, габитусы, разное все.
В России современное искусство является, в каком-то смысле, той территорией, которая к классическому искусству никакого отношения не имеет. И отношение публики в России к современному искусству примерно аналогичное. Если вы любите современное искусство, то вы относитесь к группе модников, скорее, странных людей, со странным вкусом. Вкус «нормальных» людей остановился примерно на середине XX века. И вот Стайнберг полезен нам всем именно своей способностью одинаково умно, глубоко и изящно писать и о Леонардо, и о Веласкесе, и о Джаспере Джонсе, и о Уорхоле. То есть о своих современниках, с искусством которых он не может разделит восторга, но отдает им дань исследовательского интереса.
Это невероятно важный опыт проникновения исследовательского стиля и интереса воспитанного на классическом искусстве человека в зону искусства современного, искусства, которое генеалогически зачастую никак не пересекается с классическим искусством.
И последнее, что я хотел сказать, что некоторое время назад у нас вышла книжка, которая во многом является системообразующей для издательства в течении последних нескольких лет. Эта книжка довольна незначительная с точки зрения академического смысла. Она называется «Nobrow», написана журналистом Джоном Сибруком и посвящена очень американской проблеме: проблеме соотношения разных вкусовых групп в американской культуре. Это культуры «highbrow», «middlebrow» и «lowbrow». То есть, высокий, средний вкус и низкопробное. А он вводит понятие «Nobrow», то есть вкус без определения, к какой территории это относится. Имея в виду некую возникшую на рубеже столетий странную смесь высокого и низкого, массового и элитарного.
Понятно, что к нашему герою это вряд ли относимо. Но что мне кажется важным, это то, что в случае Стайнберга,
что его отличает от многих наших соотечественников? Это почти полное отсутствие снобизма в отношении различных уровней культурного опыта и культурных языков.
И вот эта, я бы назвал ее, аристократическая позиция Стайнберга, она тоже является по-своему удивительной. Для меня, по крайней мере. То есть в лице Стайнберга мы имеем дело с человеком невероятного вкуса, антиснобизма и, в каком-то смысле, с настоящим аристократом, что тоже довольно необычно, что для американской, что для российской интеллектуальной, академической и арт среды.
Так что я горячо рекомендую эту книгу читать, открывать для себя нашего выдающегося современника. Я думаю, что вы все получите разные виды удовольствия от чтения этой замечательной книжки.
Алексей Шестаков: Спасибо, Александр! Вот вы нарисовали такой, своего рода, эталон, которому, как вы надеетесь, кто-то последуют в России и среди ученых искусствоведов, которые с равным вниманием отнесутся и к классическому, и к современному искусству.
Кажется, что такие примеры довольно редки вообще. Что это не только российский опыт, но и западный, американский, британский, европейский. Это скорее исключение из правил, чем правило.
И с этим связано мое читательское ощущение от текстов Стайнберга. Слушая коллег сейчас, слушая о том, какой вклад внес Стайнберг, и какие трудности подстерегали его на его научном пути, я подумал, что мне не вполне ясно место мысли Лео Стайберга в истории искусства XX века и в истории искусства вообще. Эта неясность сопровождается ощущением от каждого из текстов, включенных в эту книгу. В нее включены тексты, как следует из подзаголовка, об искусстве XX века. Хотя об этом двойном, универсальном взгляде Стайнберга на искусство позволяют судить и они. Некоторые, которые более теоретичные, захватывают материал, даже не исчерпывающийся двадцатым веком. И каждый из них в некотором роде повторяет эту идею подзаголовка: «Лицом к лицу с искусством XX века».
Ольга Гаврикова уже сказала, что это «постоянный разговор человека с человеком». То есть при встрече с каждым произведением искусства Стайнберг, кажется, начинает с чистого листа и пытается докопаться до того, что его перед ним остановило.
В случае с современным искусством этот опыт особенно ценен. И этот каждый раз подчеркнуто индивидуальный опыт общения с искусством, мне кажется, в некотором роде сделал Стайнберга одиночкой и привел к тому, что этот выдающийся ученый не создал никакой школы. Может быть коллеги меня поправят, я хотел бы услышать их мнение на этот счет.
Наталья Николаевна довольно жестко высказалась о его современнике и, в некотором роде, сопернике, Клементе Гринберге, но Гринберг, по-своему, тоже был одиночкой, яростным полемистом, человеком, до некоторой степени внешним академическому миру. И тем не менее, в итоге ему удалось, может, даже не ставя перед собой такой цели, создать школу. И эта школа, при всей критике, раздающейся в его адрес сейчас, сохраняет свое влияние и значимость и сегодня. Например, Розалинда Краусс продолжает оставаться верной ключевым гринбергским понятиям, и здесь не лишним будет сказать, что она же была во многом инициатором публикаций книг и статей Стайнберга в журнале «October». То есть для нее важны оба этих имени. Но нет ли ощущения, что Стайнберг, несмотря не все его достоинства и трудности судьбы, остался одиночкой в истории искусства?
Наталья Мазур: Ну давайте подеремся за Гринберга и Стайнберга. Ну, немедленно возникает соблазн дать хлесткий риторический ответ, что эпигонов всегда много, а сын от отца, если это сильный сын, всегда испытывая страх влияния, уклоняется в другую сторону. В этом смысле самые значительные ученые-искусствоведы XX века, будь то Стайнберг, Баксандалл, Рингбум и наш Ти Джей (Тимоти Джеймс) Кларк – они еще не создали школу, потому что, собственно, метод школа не создает, как и научные открытия школа не создает.
Школа – это всегда немного партия. А партия – это всегда вопрос о твоем месте в институциональном мире.
Вот как раз меньше всего место в институциональном мире волновало Баксандалла, бежавшего с должности директора иснтитута Варбурга. И Стайнберг с большой иронией относился к тому, что ему так и не предложили ни одного места в престижном университете. Мне кажется, что важнее то влияние, которое оказывают твои труды и твой метод. А влияние книг и статей Стайнберга на англоязычное и американское искусствознание было оздоравливающим и укрепляющим. Я бы его сравнила с миром Шапиро. Вот Шапиро и Стайнберг и создали настоящую серьезную историю искусства в Америке. До нее, все-таки, можно говорить только о поколении немецких эмигрантов, которые сформировались целиком еще в предыдущей традиции.
Я бы сказала, что все качественное, сегодняшнее американское искусствознание отчасти является школой Стайнберга.
Алексей Шестаков: Спасибо. Может быть есть какие-то мнения на этот счет у коллег?
Илья Доронченков: Я бы просто это сформулировал другими словами, а так мне добавить, по существу, нечего.
Алексей Шестаков: А что касается достоинств этой позиции «одиночки». Мне просто интересно, согласен со мной кто-то или нет. Уже отвлекаясь от того, создал школу Стейнберг или не создал. Мне очень импонирует в его текстах то, что он действительно прямо признается всякий раз, применительно к современному для него искусству, что оно ставит его в тупик.
В это отношении очень показательна статья о Джаспере Джонсе, который является, в некотором роде, историей пути Стайнберга, преодоление им сопротивления встречи с новым искусством к пониманию того, на чем основана его позиция.
На протяжении этой книги и, в частности, в этой статье, неоднократно возникает такое понятие, не слишком часто встречающееся в истории искусства – «авторский замысел». Стайнберг, рассуждая о новом для нас и для себя искусстве, проговаривается или говорит прямо, что он ищет понимания авторского замысла. И, конечно, это довольно резко противопоставляет его редукционистской, формалистической эстетике. Но здесь у меня опять возникает вопрос, может быть связанный просто с недопониманием его текстов: что, собственно, он противопоставил этой формалистической позиции? Насколько последовательна его собственная позиция? И это вновь оказывается связанным с упомянутой темой создания школы.
То есть, если формалистическая позиция Гринберга, как мне кажется, по-прежнему предоставляет довольно удачный инструментарий для анализа современного искусства, то антиформалистическая позиция Стайнберга, которую он, впрочем, методологически не излагал, как я понимаю, мне такого инструментария не предоставляет. А она меня очень увлекает самим опытом и вызывает желание попытаться его повторить при встрече с новым искусством. Но это, скорее, иррационально. А инструментов, которые я бы мог приложить к новому уже для себя искусству, подобно тому, как их прикладывал Лео Стайнберг к Джасперу Джонсу, я в готовом виде не нахожу.
Насколько я знаю, Александру Иванову как раз-таки импонирует антиформалистическая позиция Стайнберга. Я буду благодарен, если Александр прояснит для меня этот вопрос.
Александр Иванов: Я скорее хочу сказать, что для меня Стайнберг – это во многом человек, который вырос и сформировал академический дух конца 60-х годов с интересом к постмодерну avant les lettres. И когда возникает интерес к различного рода неклассическим видам традиции, например, барокко. И герои барокко становятся важнее, чем классические персонажи. В этой точке, мне кажется, Стайнберг в каком-то смысле смыкается с американским современным искусством. Еще один важный момент: те герои, о которых пишет Стайнберг, имея в виду современное искусство типа Джаспера Джонса или Раушенберга.
Во времена, когда он о них пишет, они еще не являются миллионерами. Потому что буквально через десять-пятнадцать лет эти художники станут частью коллекций крупнейших корпораций, банков.
У Сьюзен Сонтаг есть прекрасный момент, когда она встречается с диссидентствующими художниками из Венгрии на Венецианском биеннале в 70-е годы, они ей говорят с восхищением об американском абстракционизме. А она не понимает, о чем речь, потому что американский абстракционизм и абстрактный экспрессионизм – это уже абсолютно этаблированное искусство, семантически связанное с богатством в Америке, с огромными деньгами. А не с тем диссидентстким революционизмом, которые ее друзья или знакомые пытаются в этом увидеть.
Грубо говоря, меня интересует в Стайнберге способность ухватить американское искусство в самый момент его взлета, когда Америка становится самой важной страной для современного искусства. И соответственно эта важность каким-то образом транслируется и на классическое искусство тоже. То есть Америка во второй половине XX века – это безусловный лидер и мирового собирательства, коллекционирования, музейного дела, и интереса к разным видам и направлениям в искусстве.
Стайнберг важен еще и потому, что он – один из тех, кто этот американский «бум» концептуализирует и критически осмысляет.
Илья Доронченков: Метод Стайнберга, по-моему, это сам Стайнберг. В нашей дисциплине нужно отдавать себе отчет, что сформулированная методология – это очень часто лукавая вещь. Я, в этом смысле, очень иронически смотрю на иронический текст Пановского, в котором он формулирует свою знаменитую «Триаду». У меня есть подозрения, что это для простых американских студентов. Хотя меня уверяли, что эта схема была сформулирована еще в Германии.
Для того, чтобы просиять в гуманитарном созвездии, вы должны иметь ярлык, название вашего метода и манифест. Это очень простой путь. Создание школ, искусственное продуцирование школ, завоевание кафедры. Стайнберг, по-моему, позволил себе роскошь просто верить своему восприятию.
А что касается того, что хотел сказать автор: перечитайте «Философский бордель». Это анализ становления того, что мы называем удобным словом «авторский замысел».
Наталья Мазур: Стайнберг сформулировал свой метод еше до того, как стал известным критиком и известным искусствоведом. Это одна из его первых статей, название которой невозможно перевести на русский язык: «The Twin Prongs of Art Criticism». Две ножки циркуля художественной критики и одновременно речи об искусстве. Потом он этой статьи чудовищно стеснялся, никогда не публиковал ее повторно, запретил включать ее в список своих трудов. И поэтому именно с нее я начала свой рассказ о методе Стайнберга. Он предельно четко сформулировал свое отношение к формализму и к тому, чего не хватает в формализме, и каким образом с этим следует работать.
Он предложил рассматривать чистую форму как некую центральную окружность, вокруг которой движутся, пересекаясь друг с другом и с центральной окружностью, массы других окружностей меньшего размера и иной природы. Это могут быть социальные ожидания художника, его публики, религиозные убеждения, психологические страхи, те или иные магические принципы или культурные практики.
Для того, чтобы проанализировать произведение искусства, необходимо крепко воткнуть ножку циркуля в центр, где находится форма, и, ни на минуту не упуская из поля зрения эту самую форму, двигаться по остальным окружностям, проверяя, как работает тот или иной уровень (сейчас мы бы сказали «контекст») для интерпретации, собственно, формы.
Это и есть абсолютно безукоризненный метод. Точно так же работал Баксандалл. И самое интересное в том, как они, на самом деле очень похожие друг на друга, игнорировали друг друга. Стайнберг всегда в интервью говорил, что Баксандалла бросил, не дочитал. Хотя в библиотеке Стайнберга имелись книги Баксандалла. У нас есть список книг, мы можем проверить. Баксандалл тоже сторонился Стайнберга, отчасти это объясняется тем, что они работали в очень похожей манере. А определяться, кто из них главный, никому из них, по-видимому, не хотелось.
Можно назвать это контекстным методом, но контекстный метод часто теряет ту ножку циркуля, которая воткнута в центр, в чистую форму. И Стайнберг как раз пленителен тем, что, никогда не выпуская из зрения чистую форму, проходился аккуратно по всем возможным критериями, контекстам и уровням интерпретаций. Именно поэтому он может написать статью размером с книгу, скажем, о «Тондо» Микеланджело. Потому что его занимает проблема формы. Это действительно очень интересное с формальной точки зрения изображение, но его не меньше интересуют и все остальные приходящие обстоятельства, которые влияют на создание, восприятие этого произведения. Так что метод у него есть, просто он не очень любил его объяснять, поскольку считал это, как я подозреваю, делом несколько вульгарным.
Текст расшифровала София Савченко