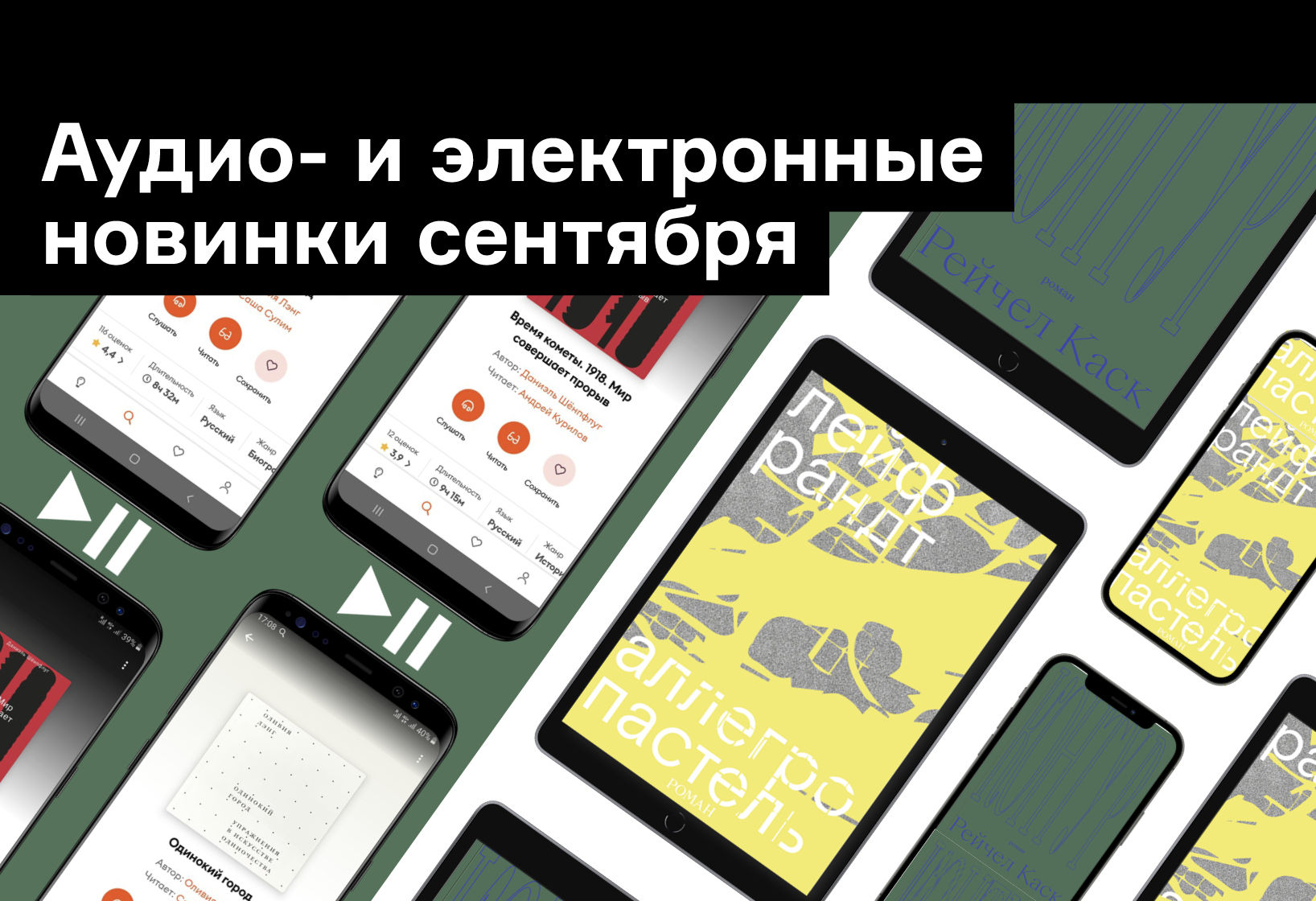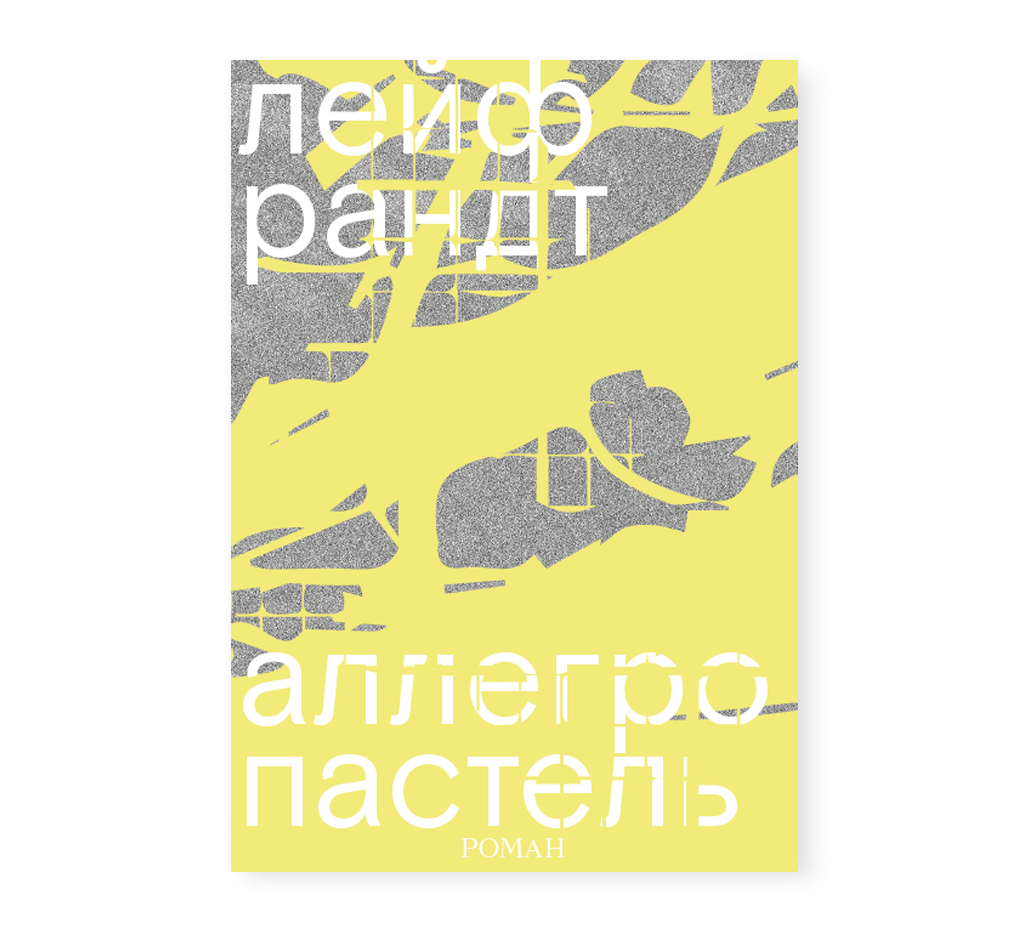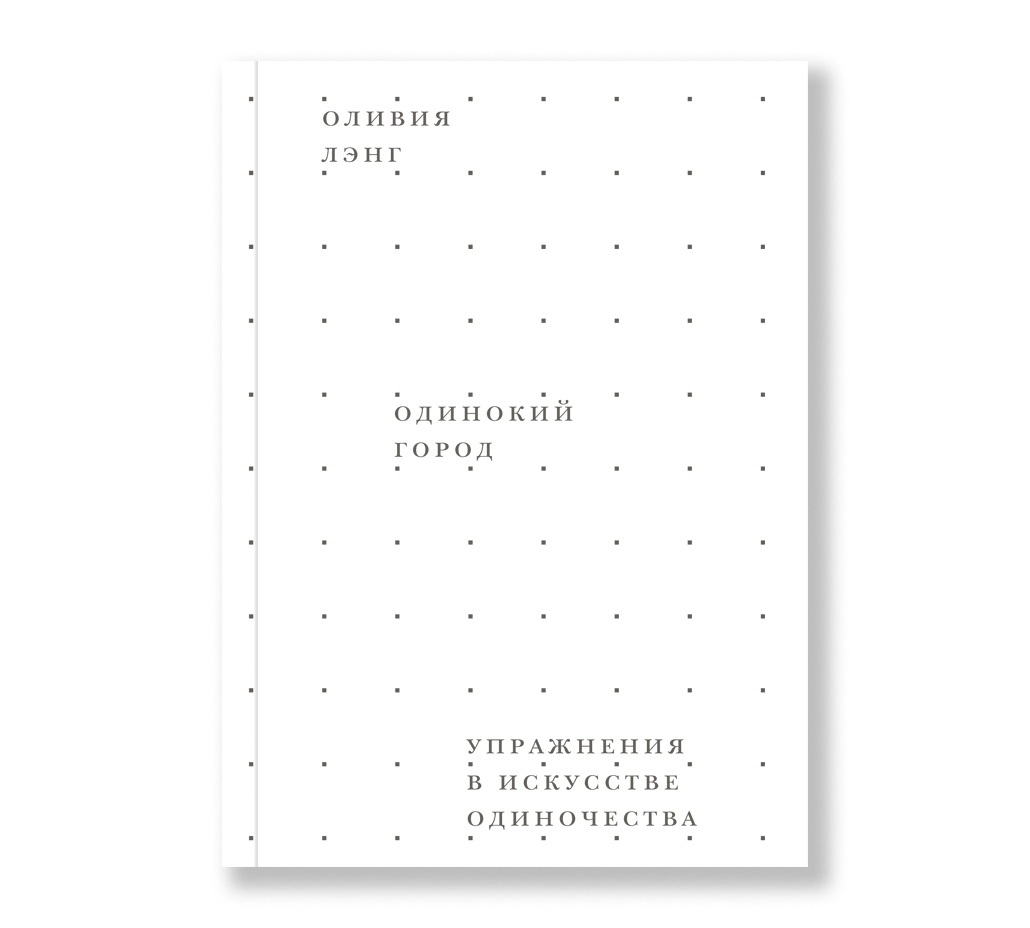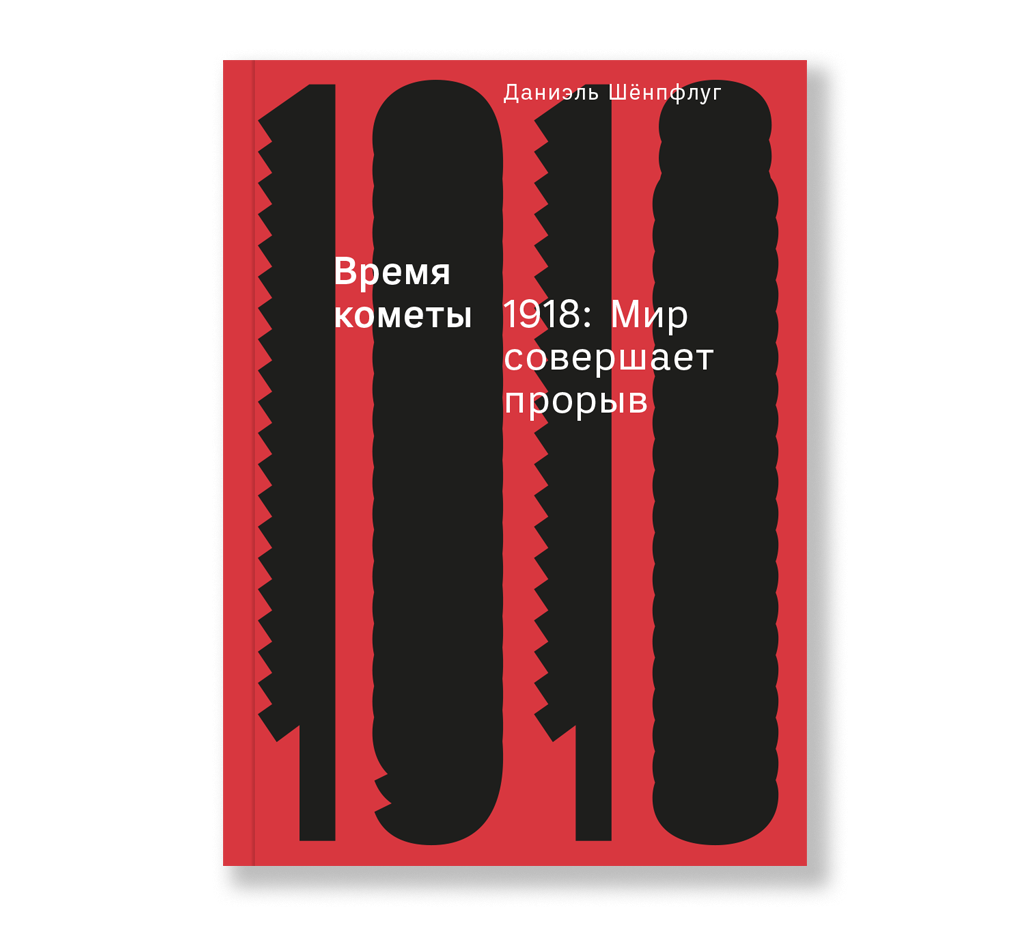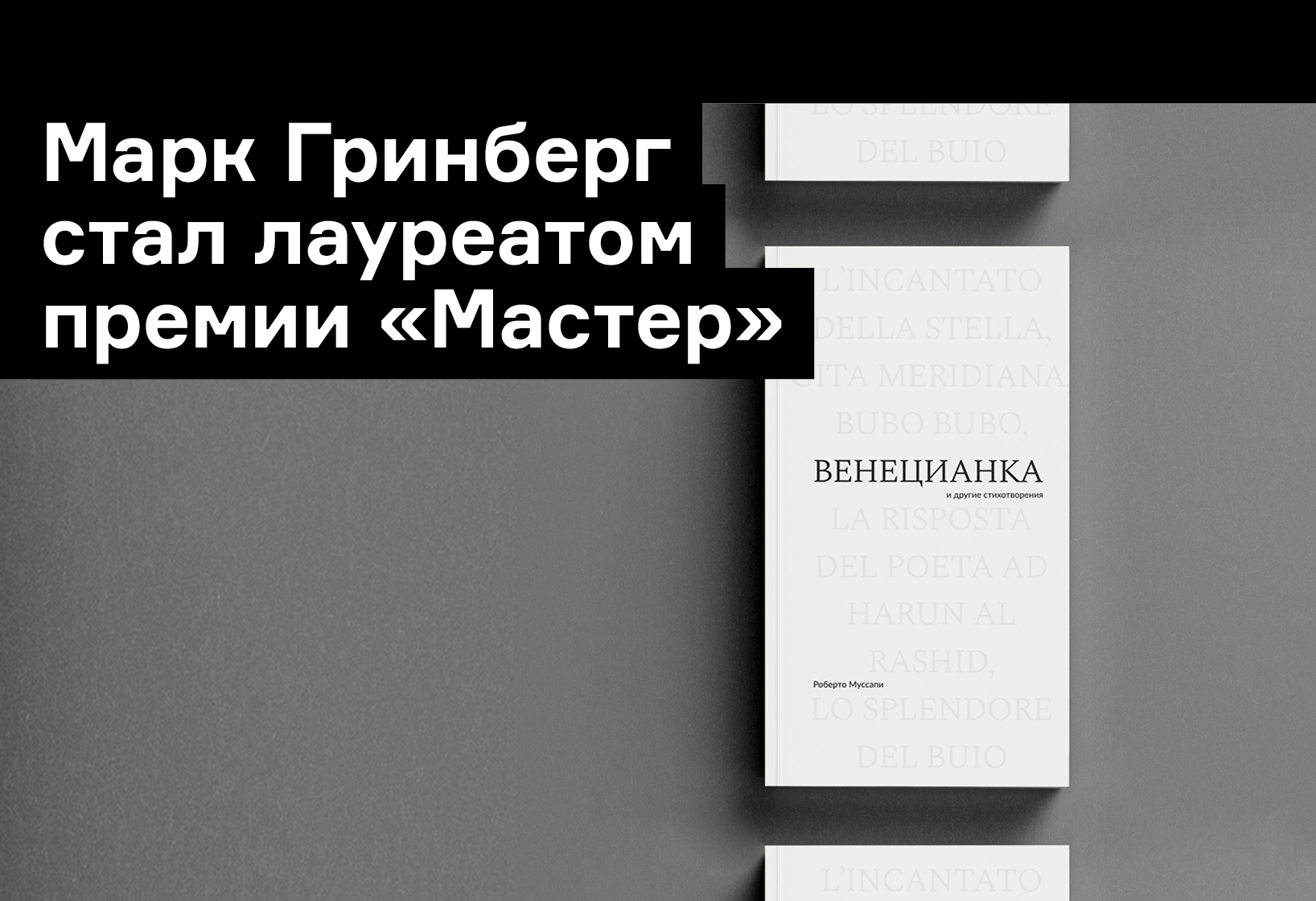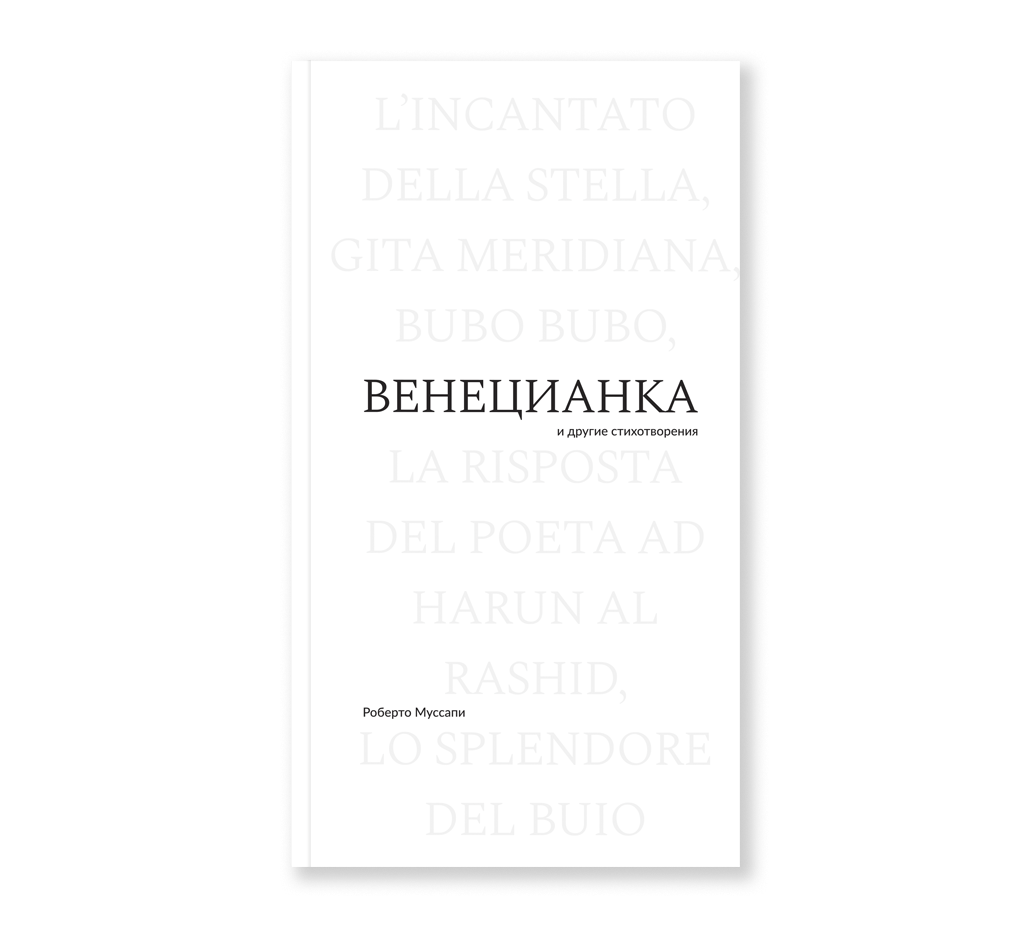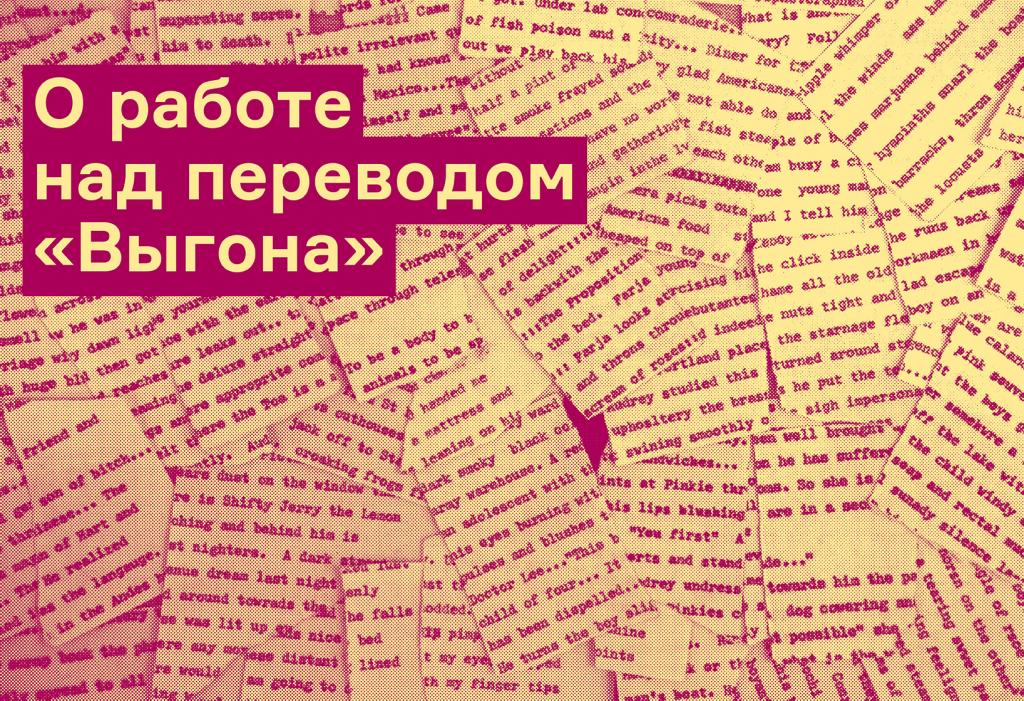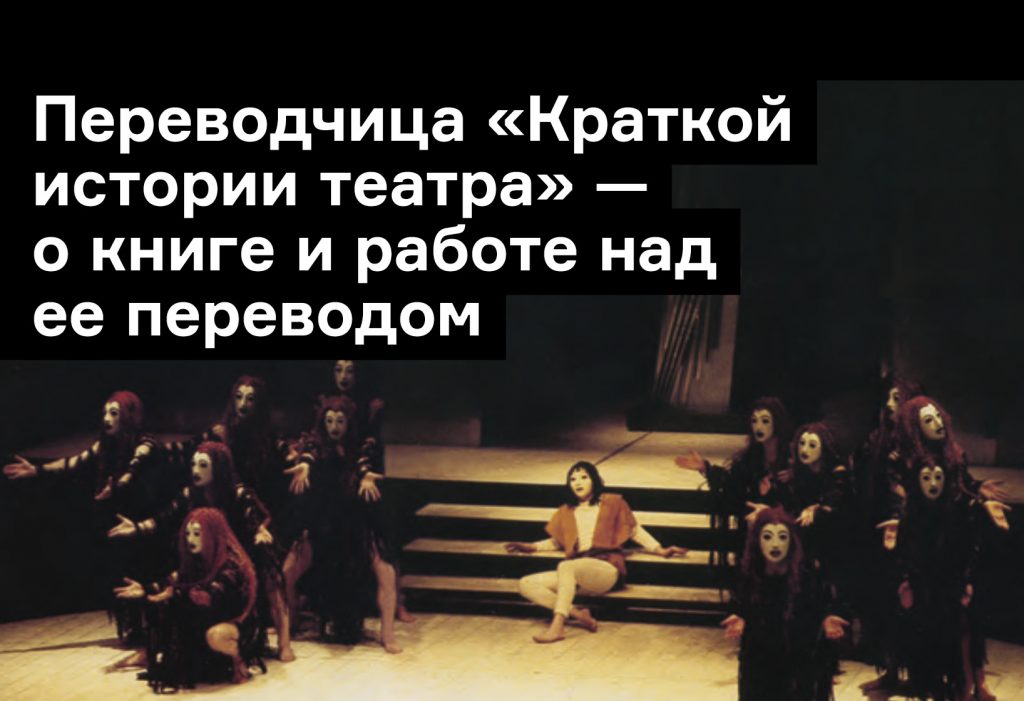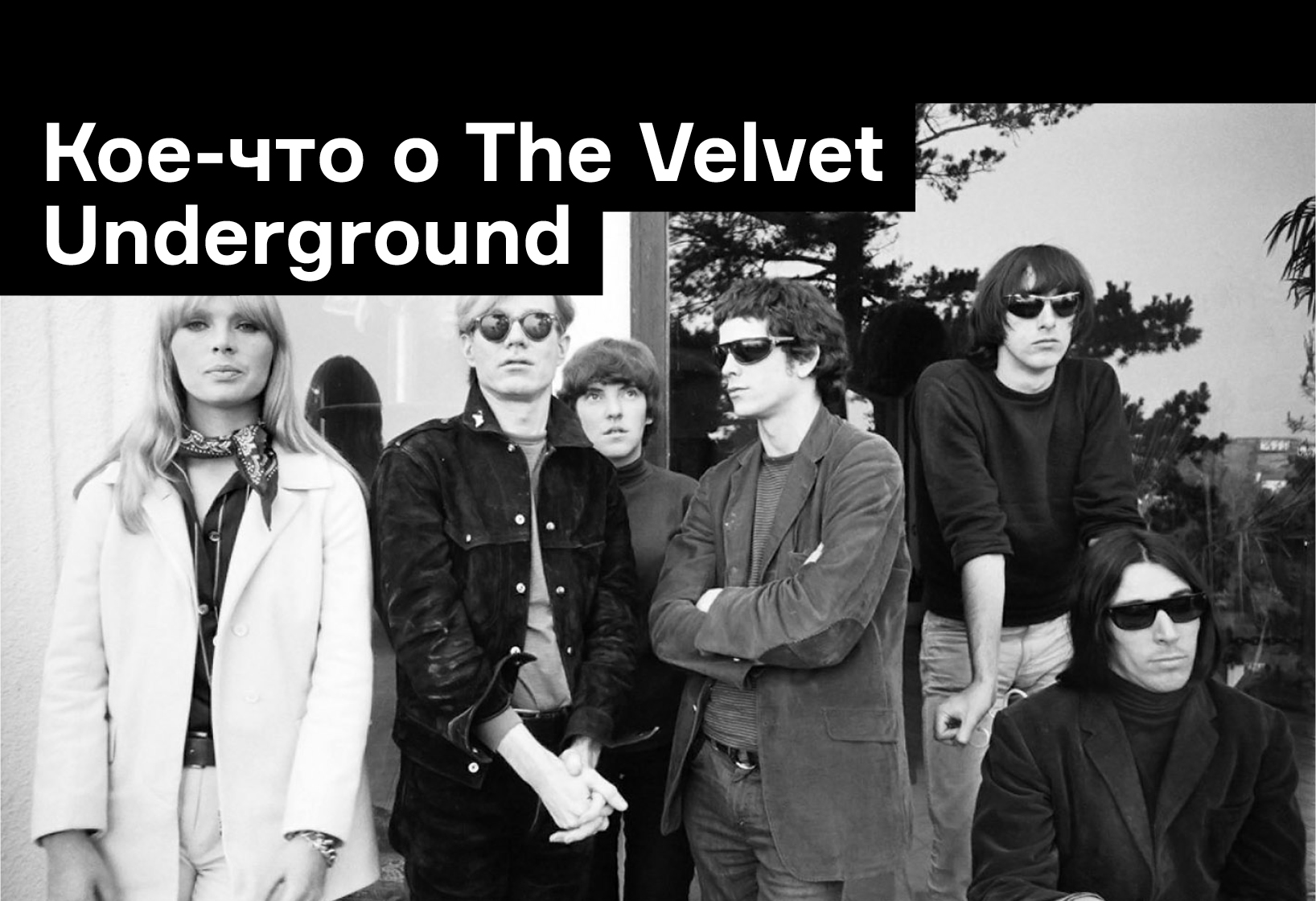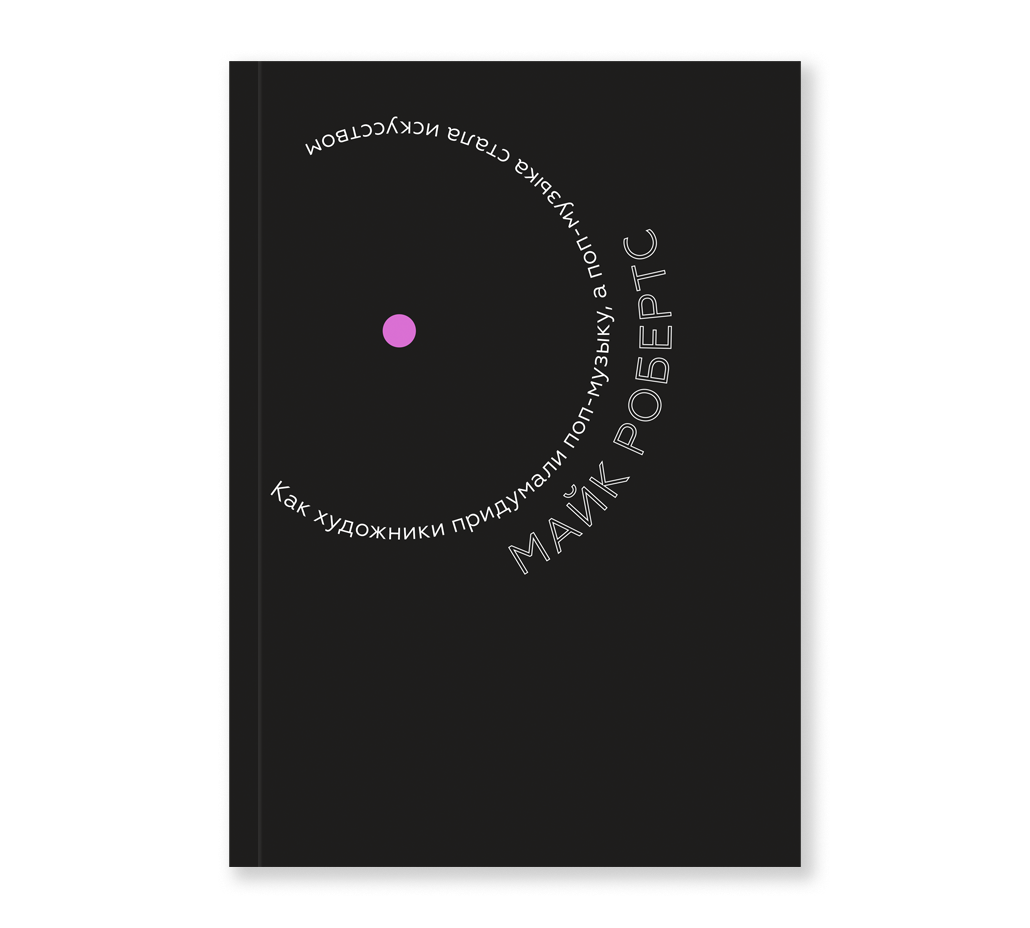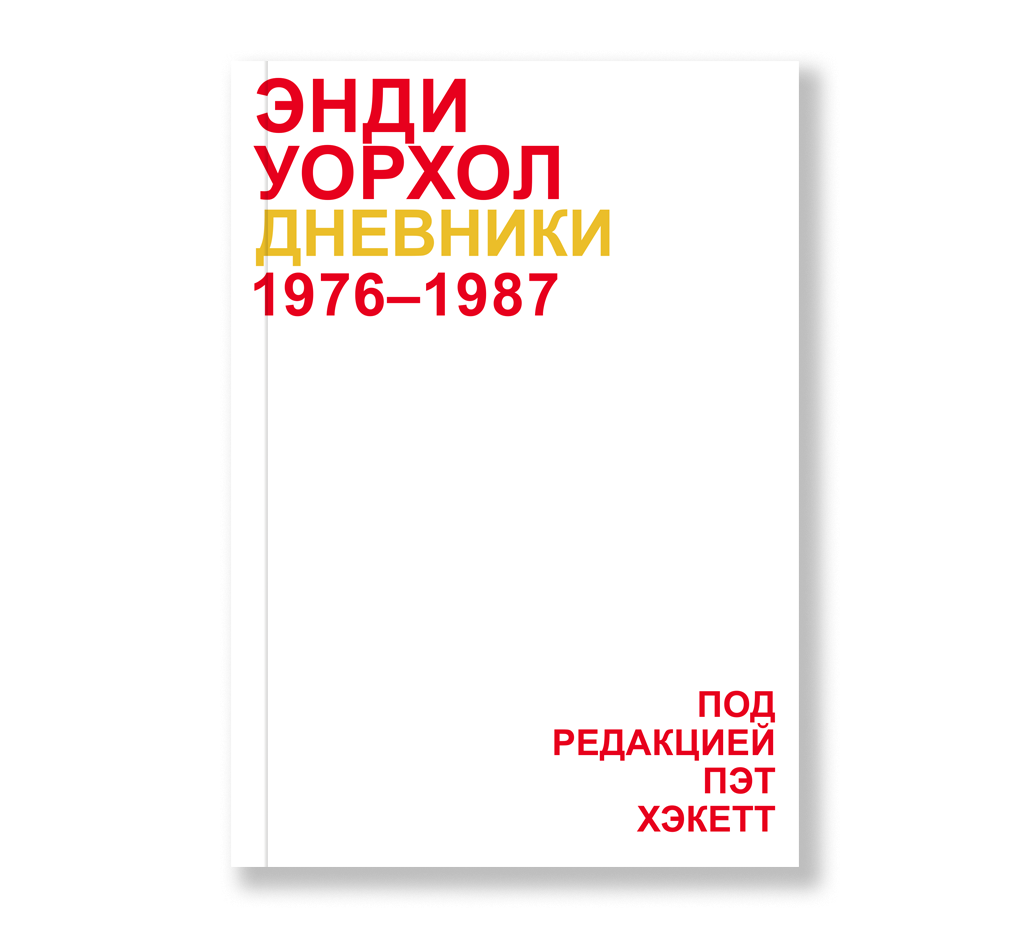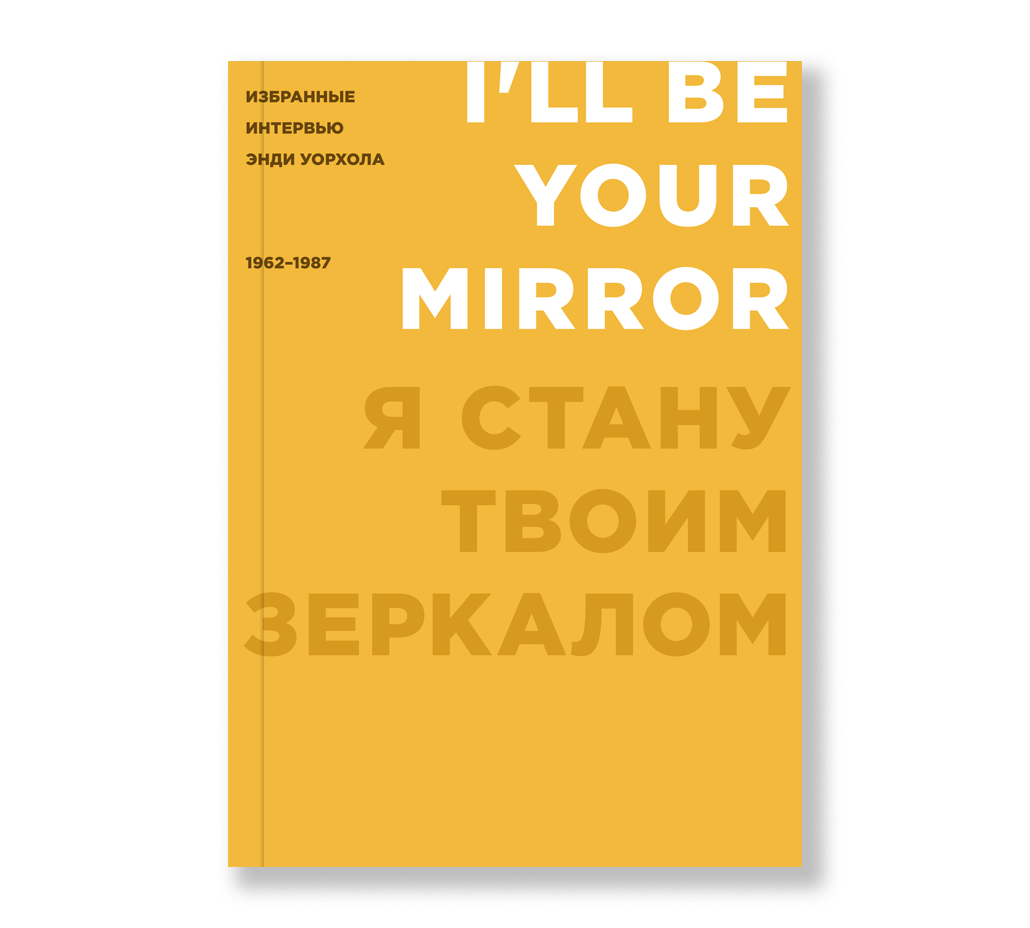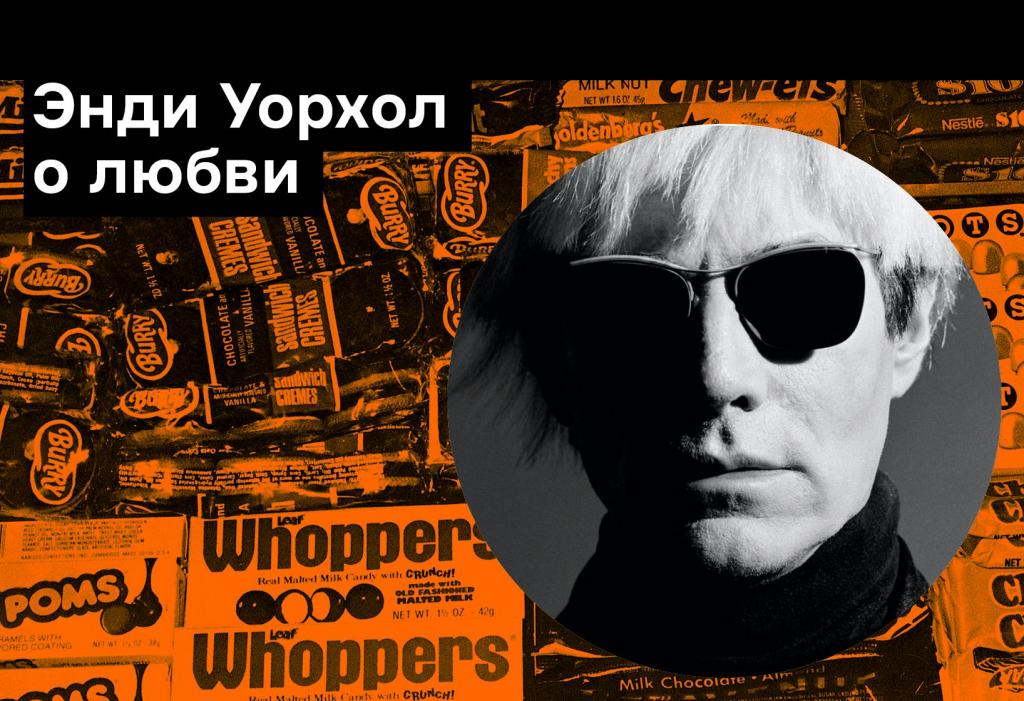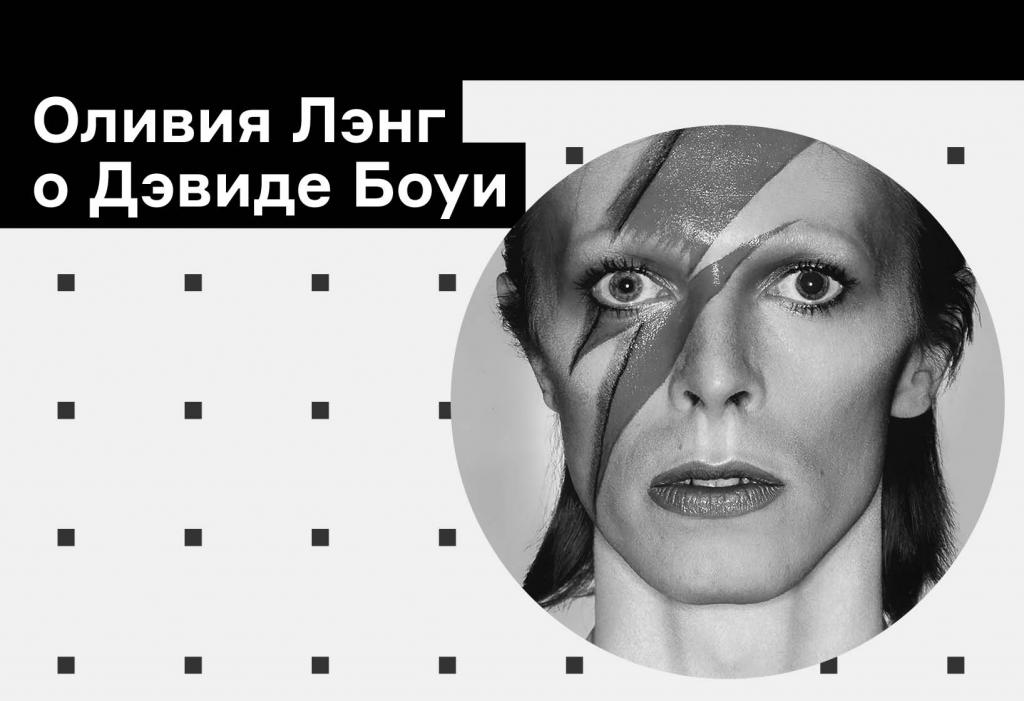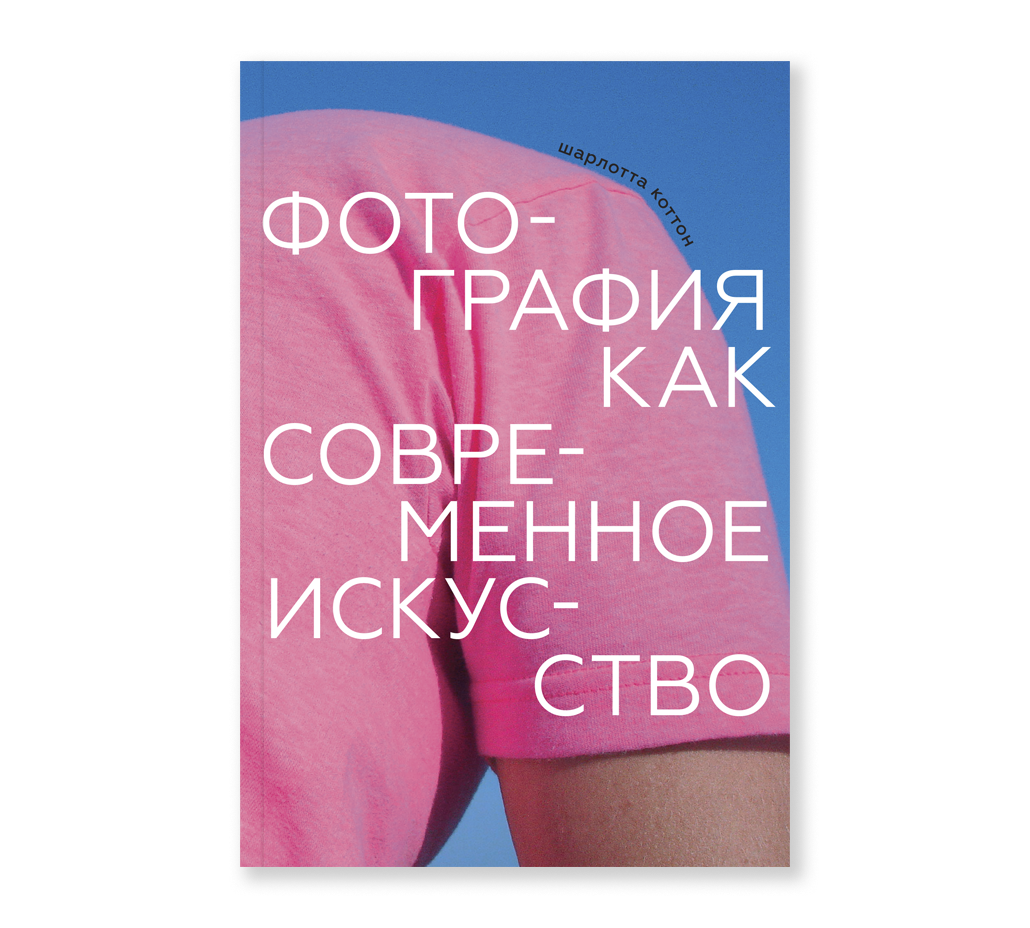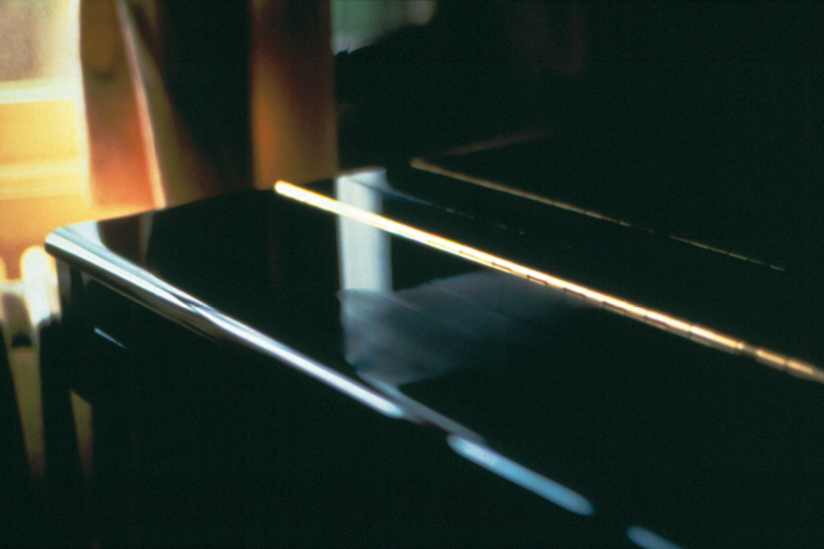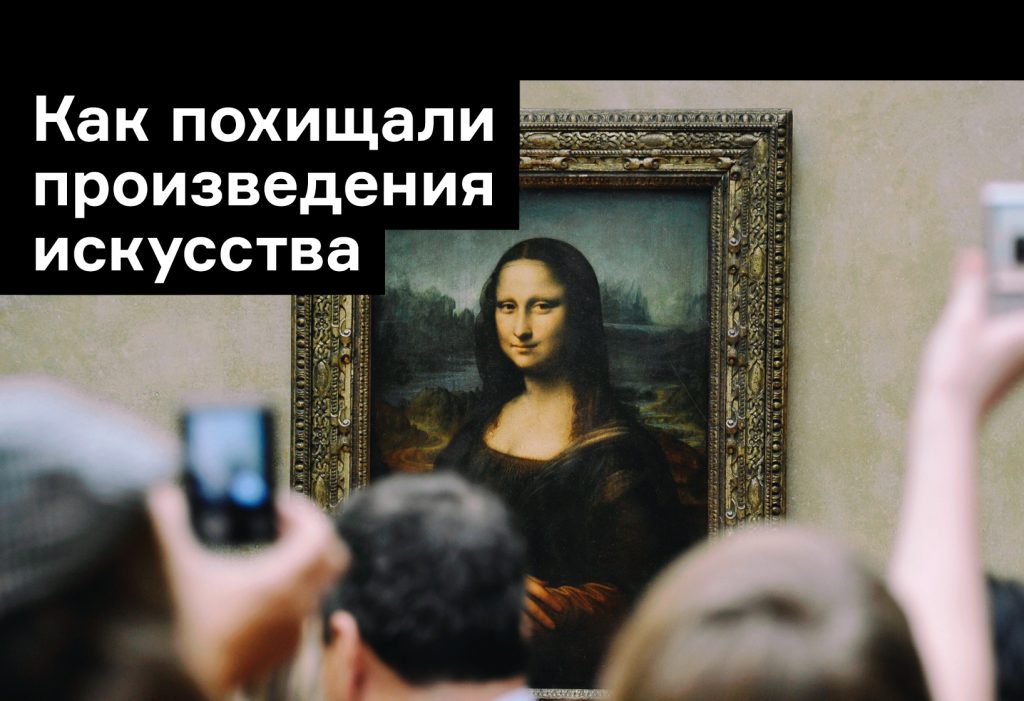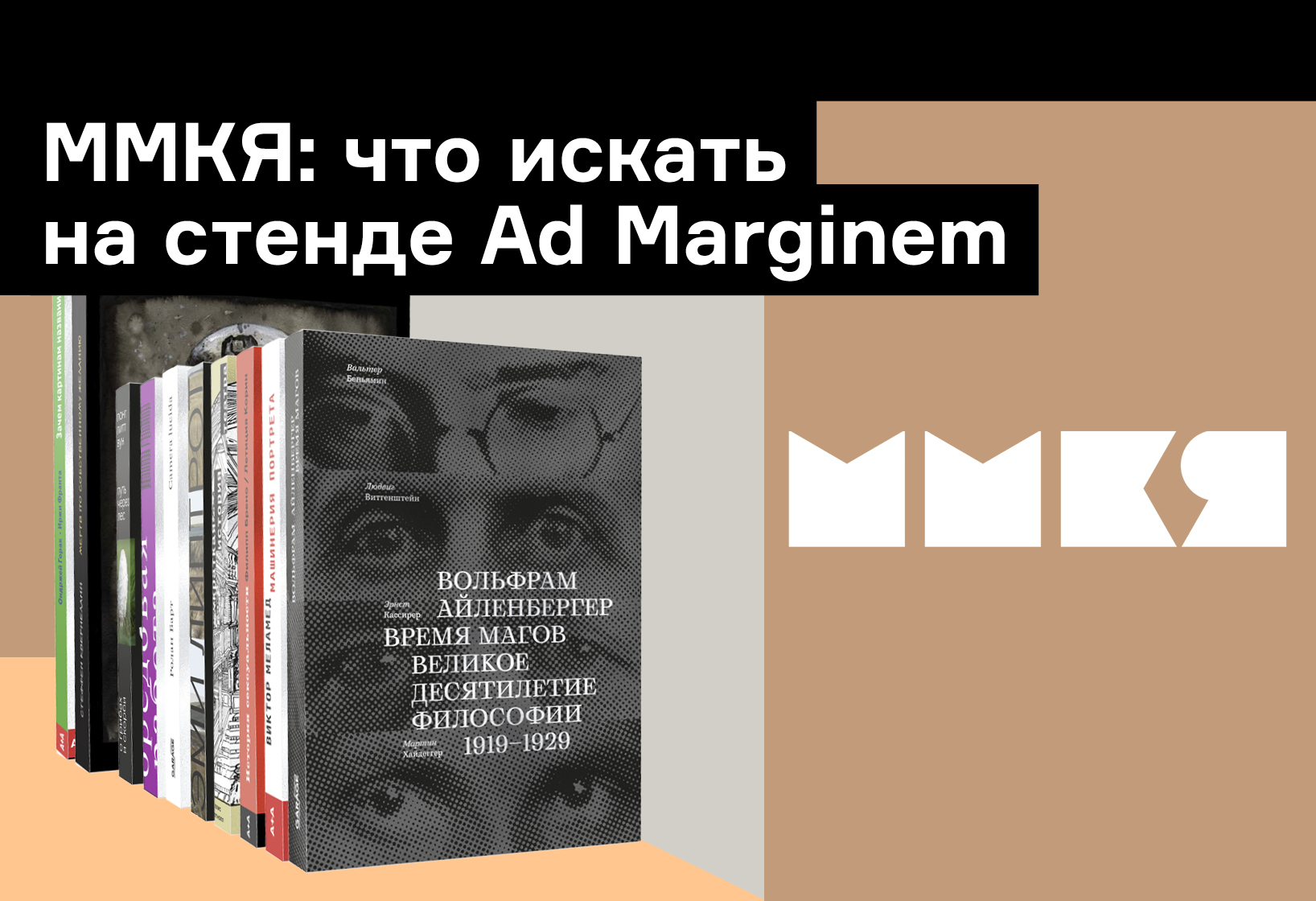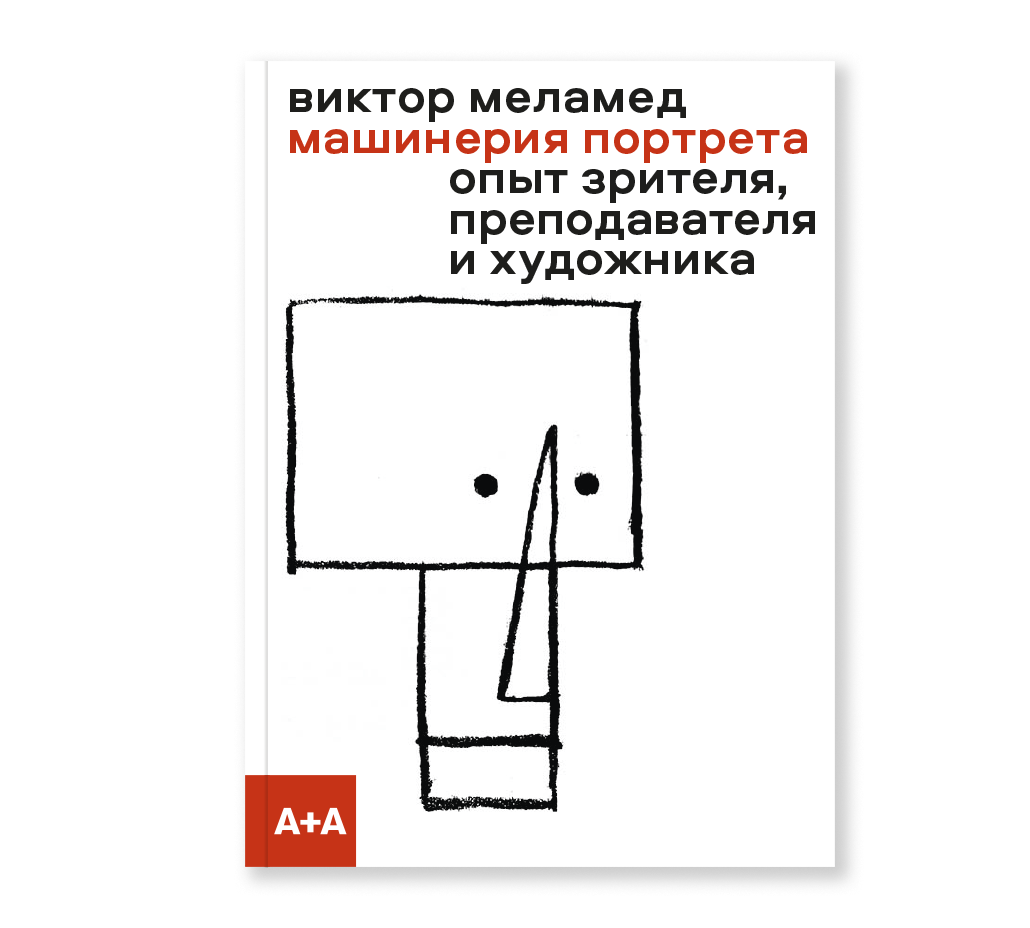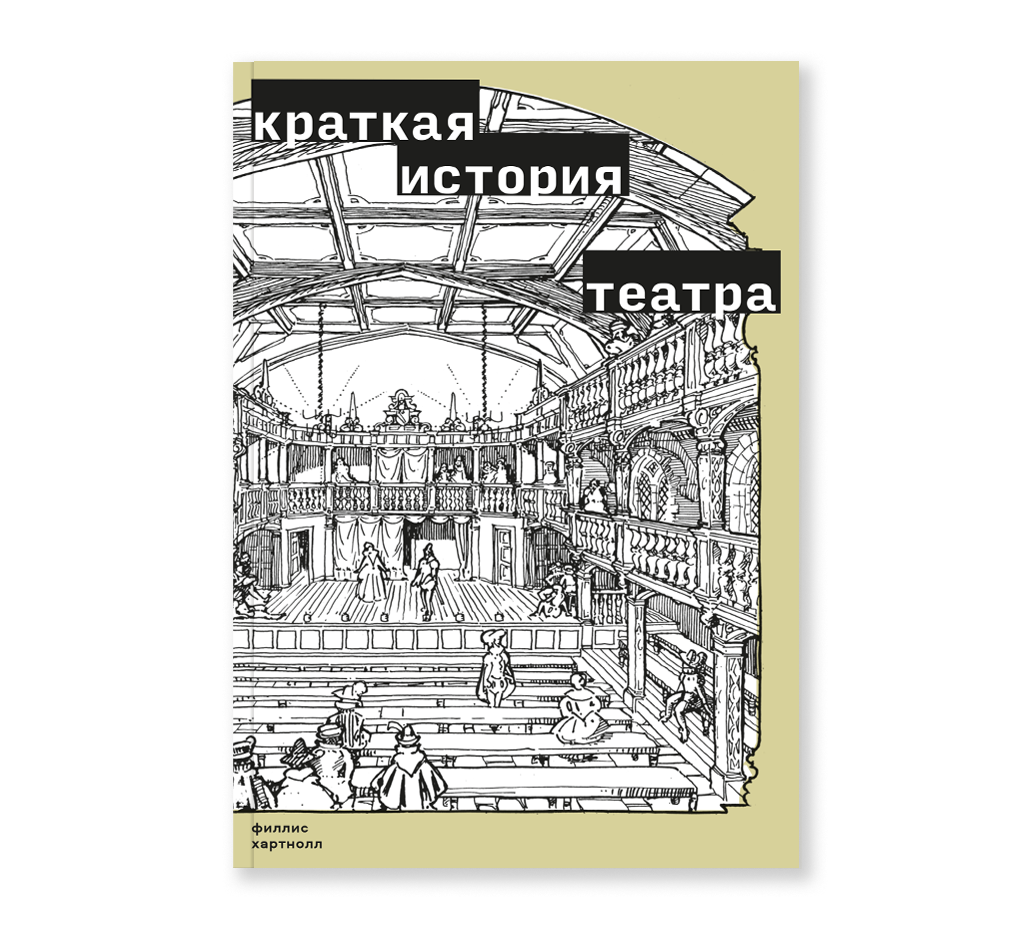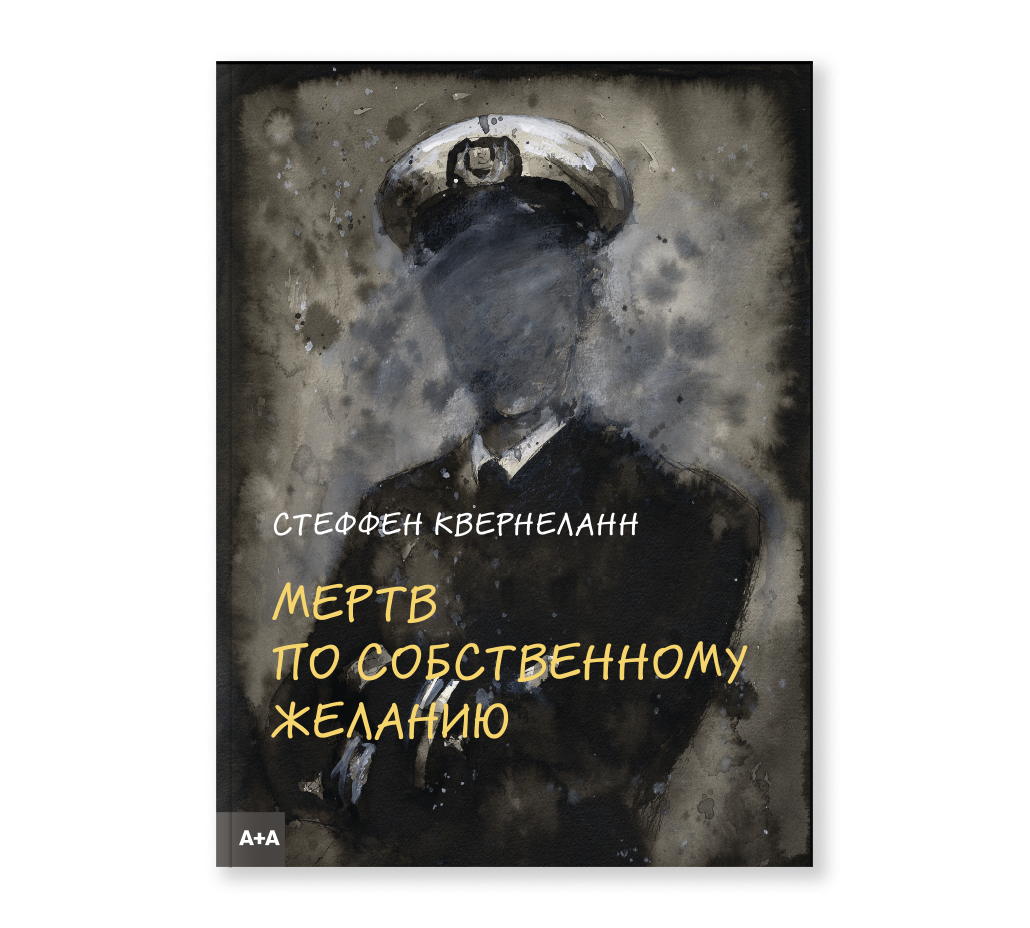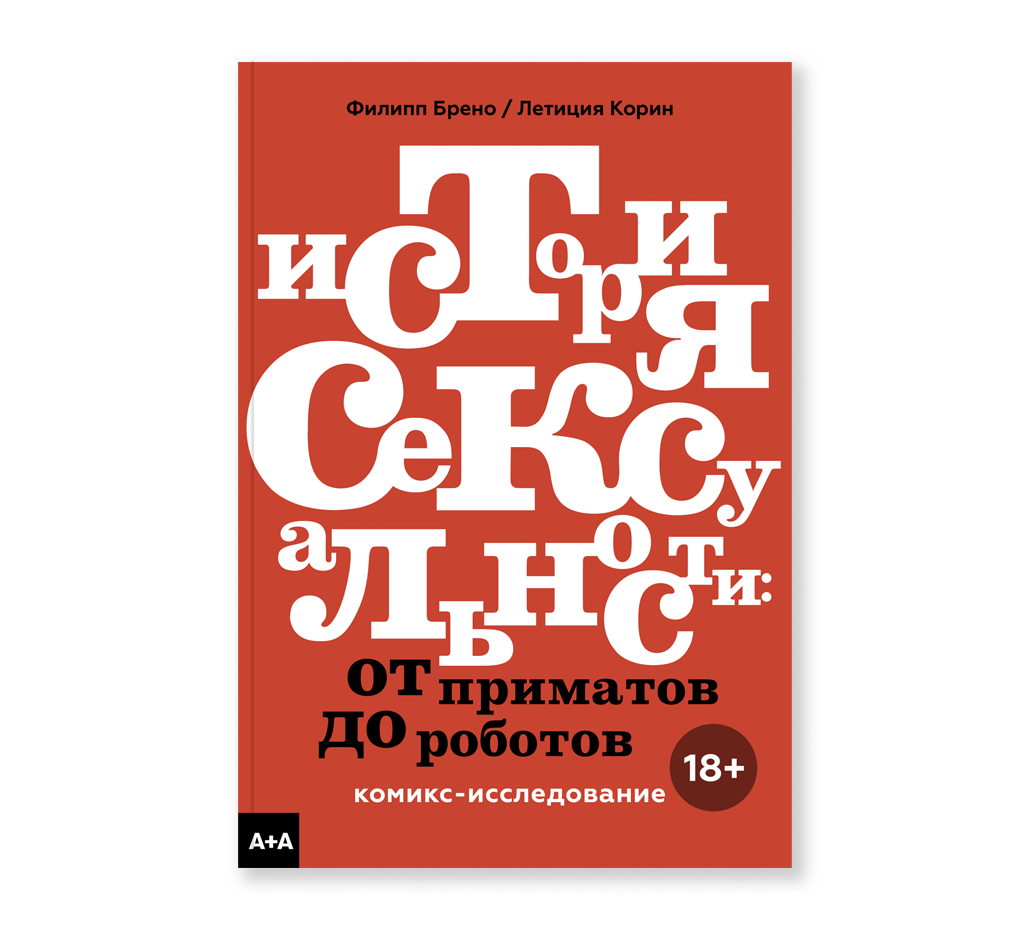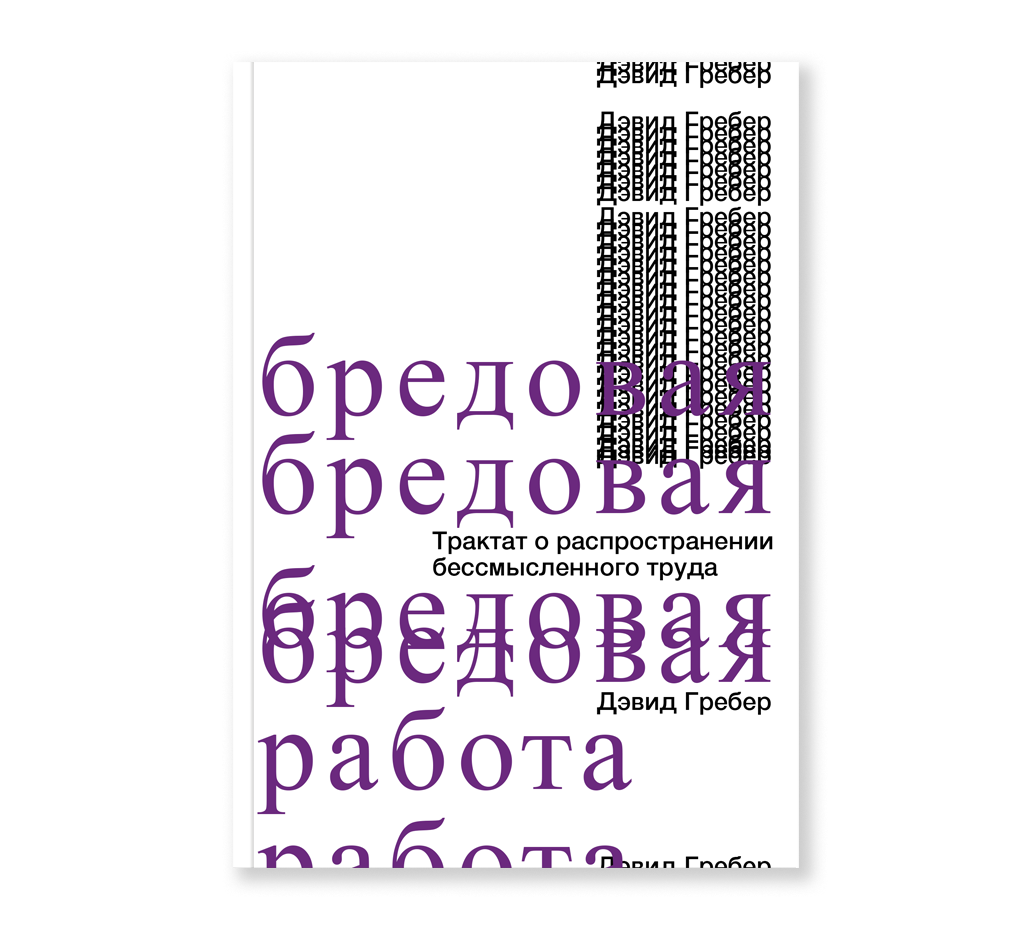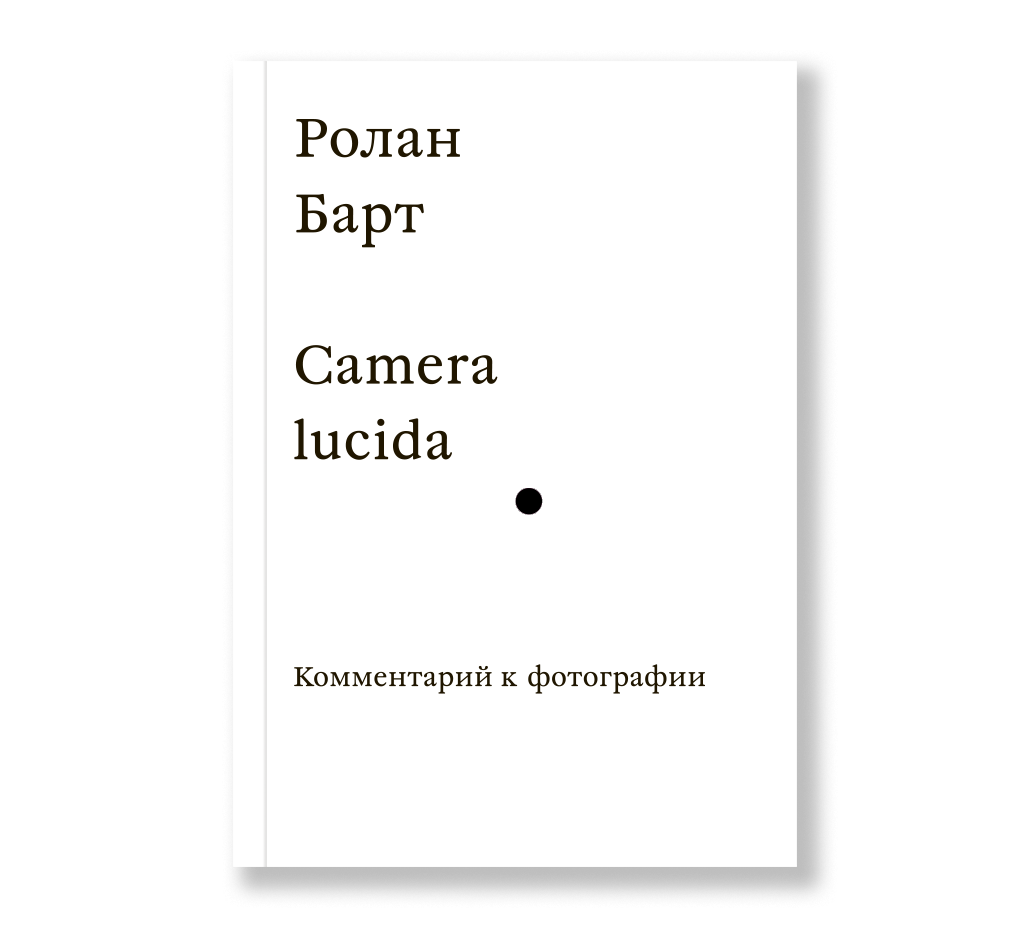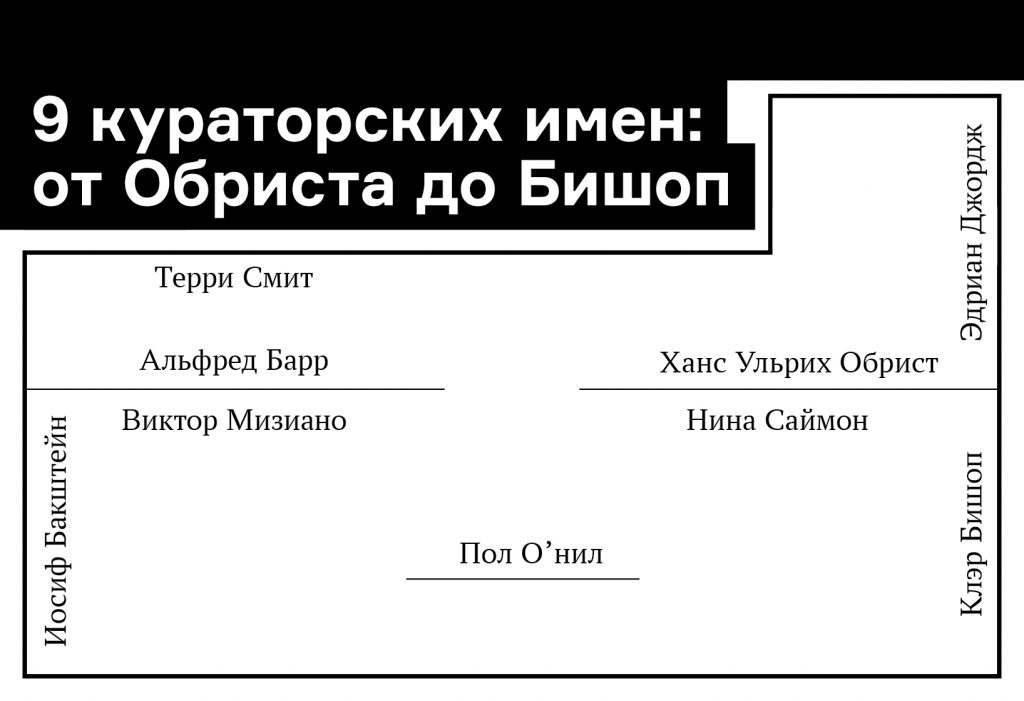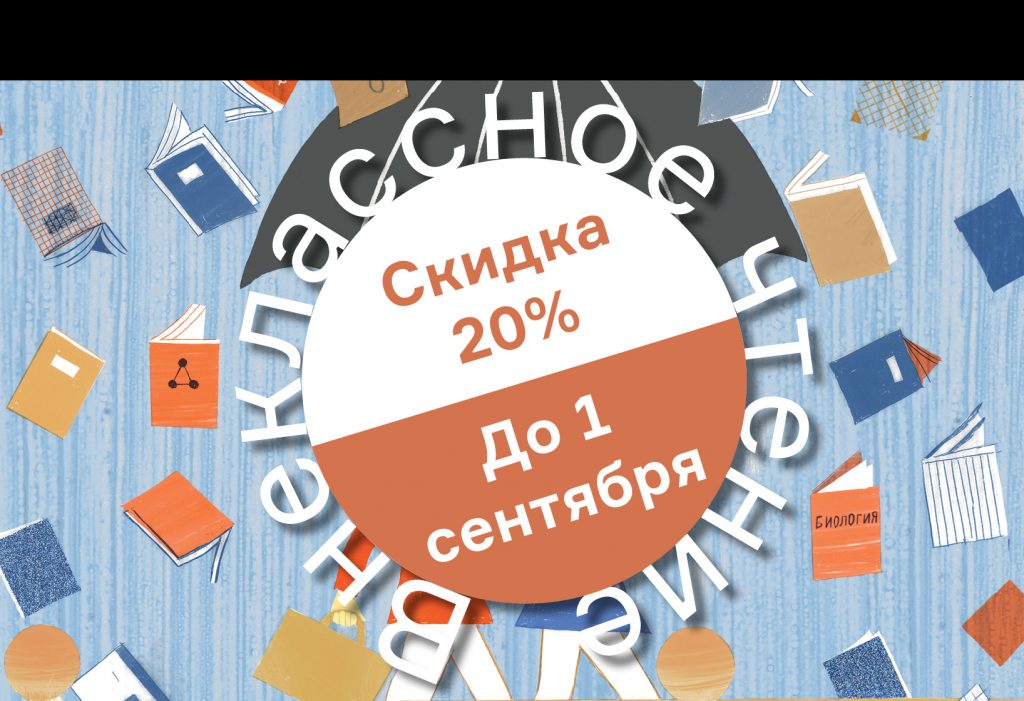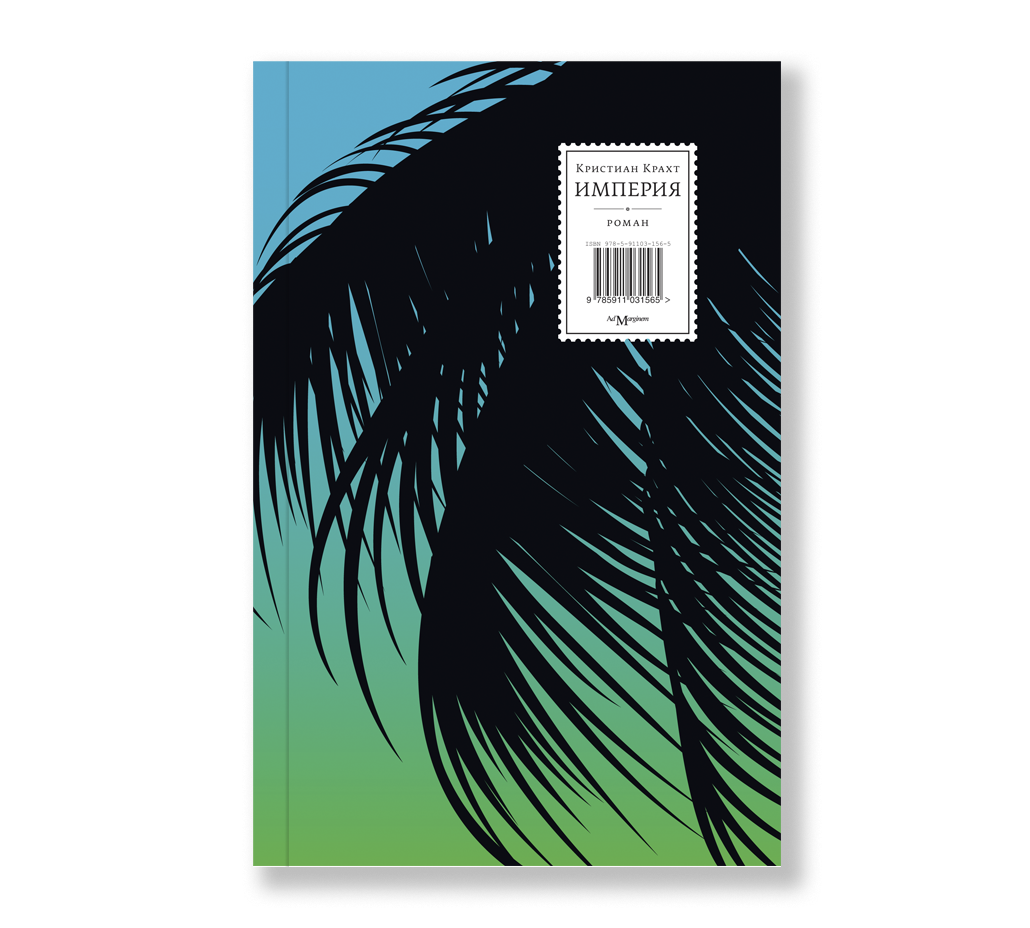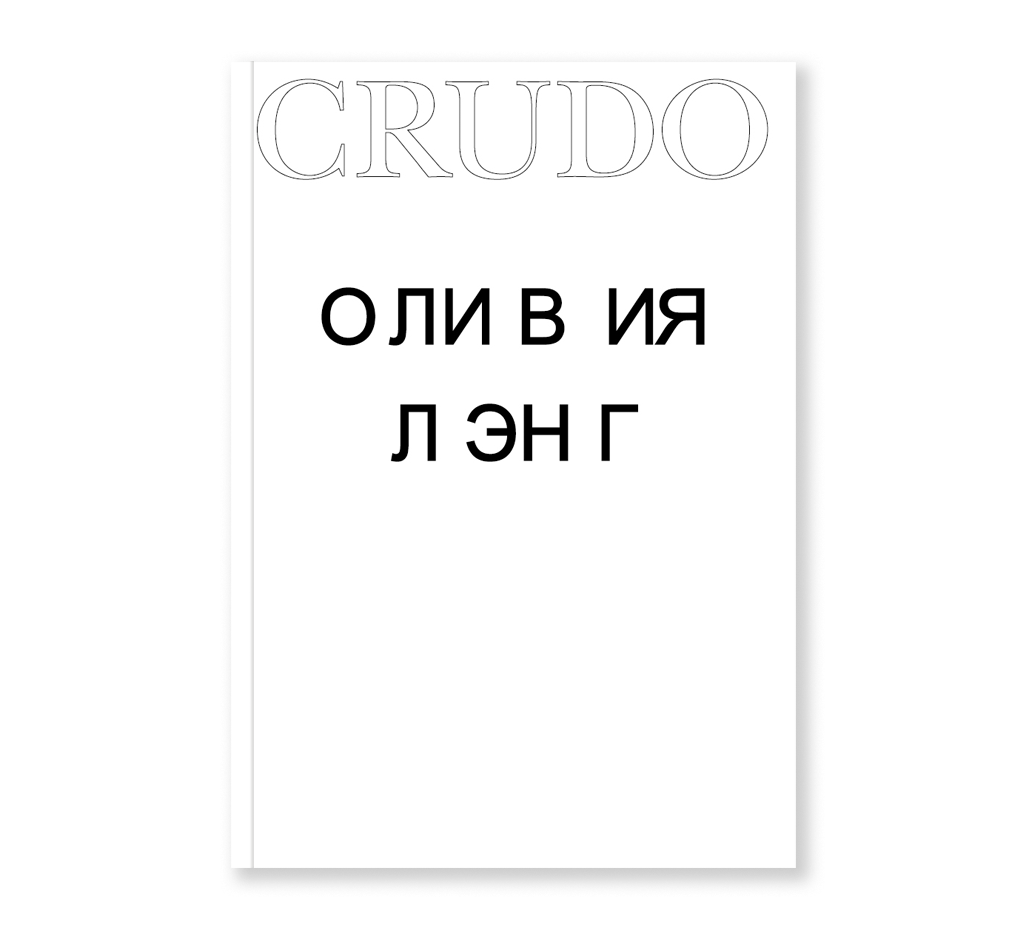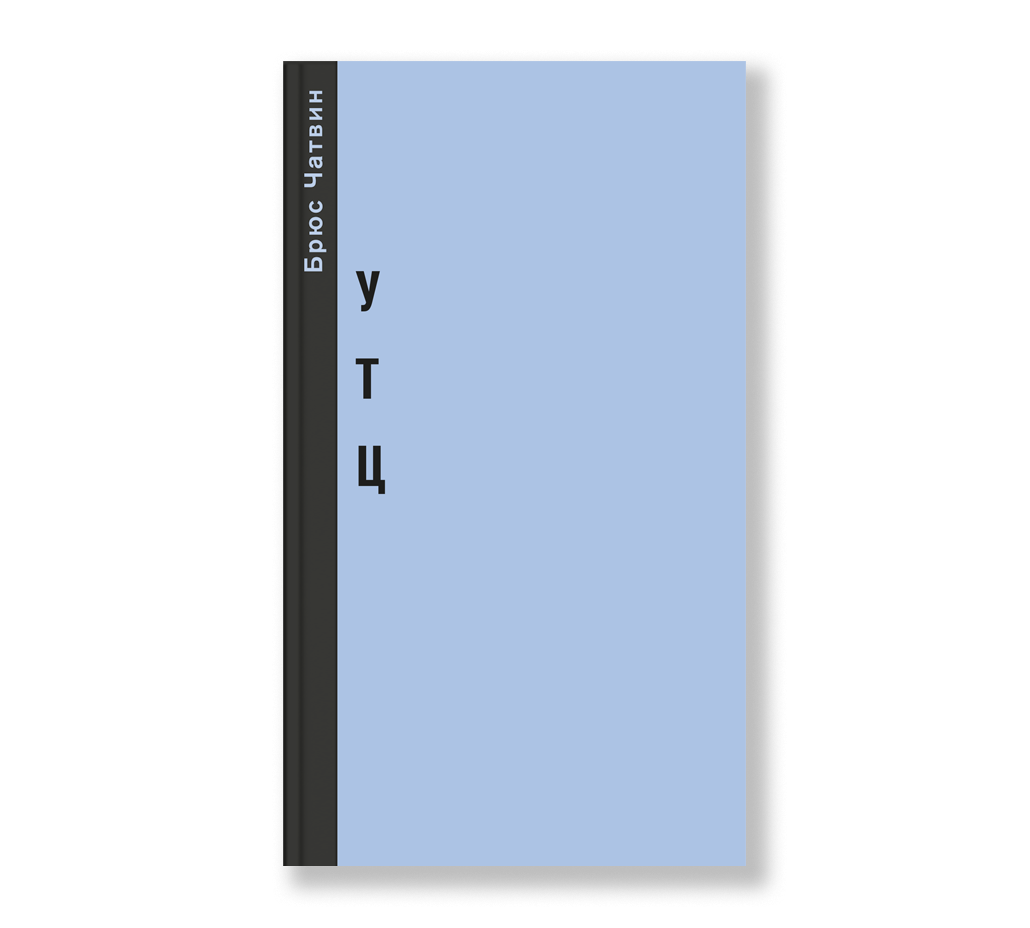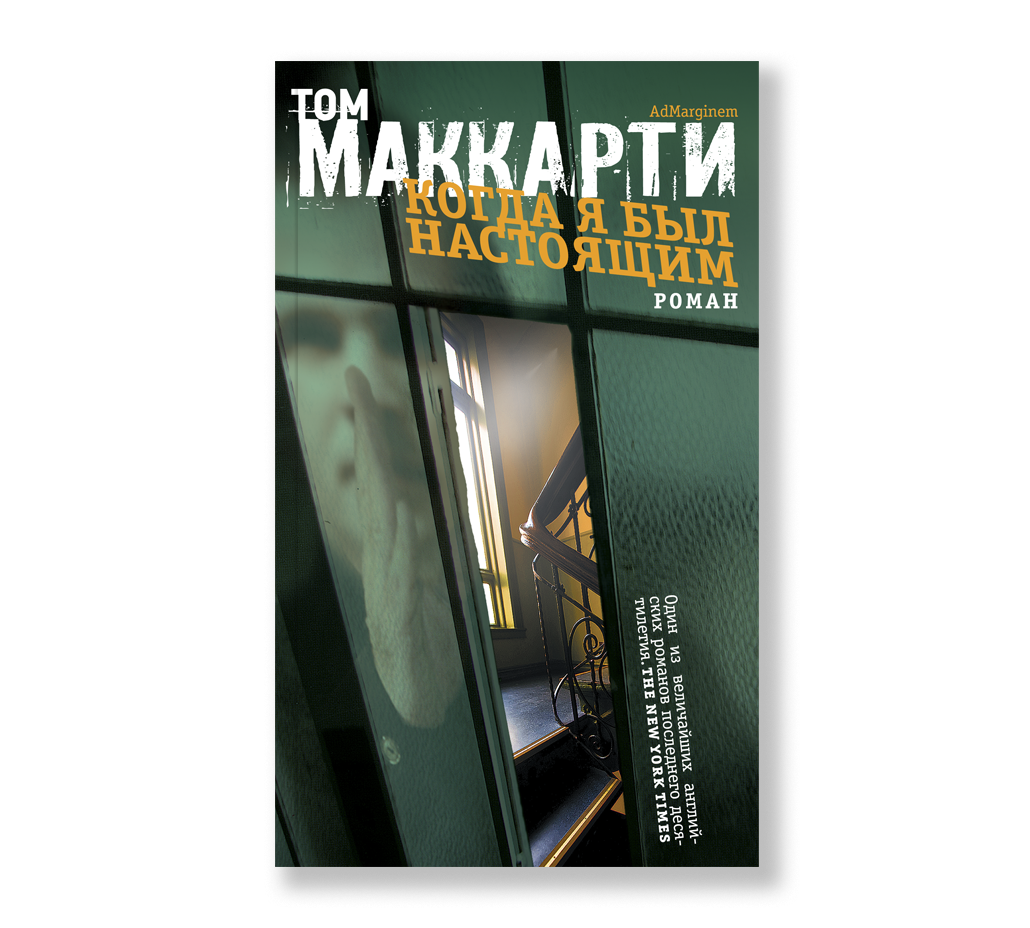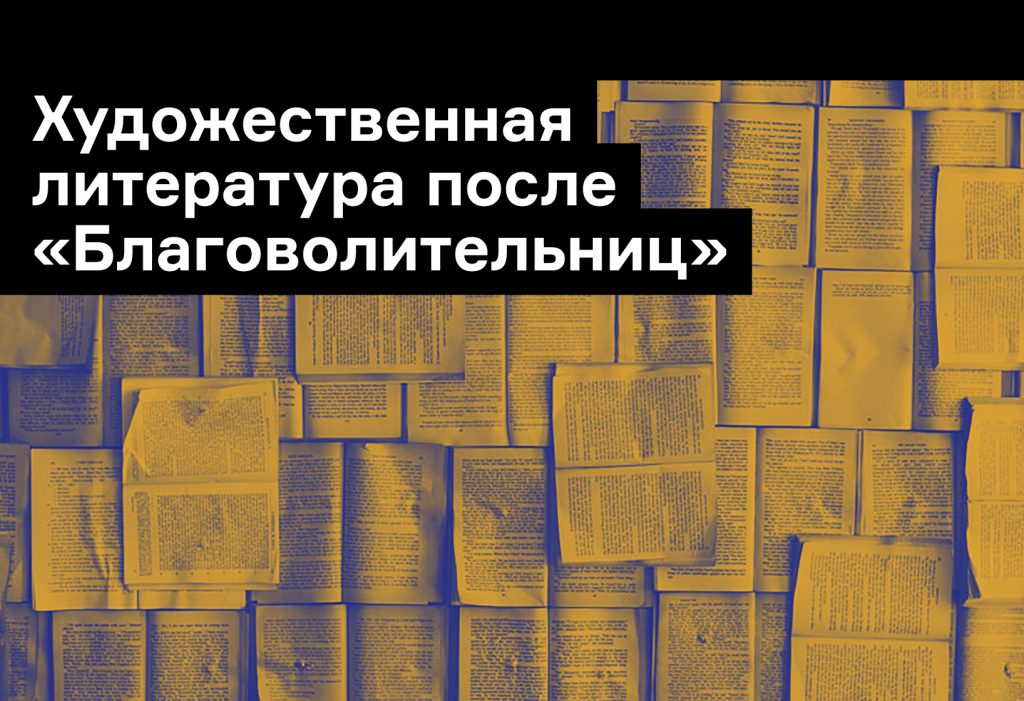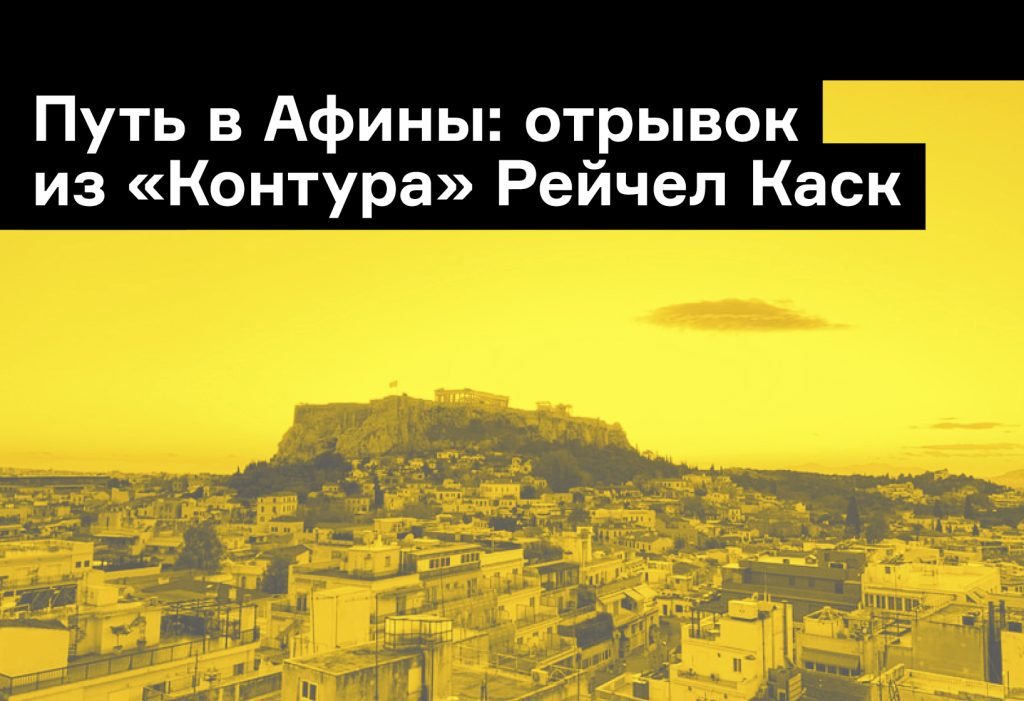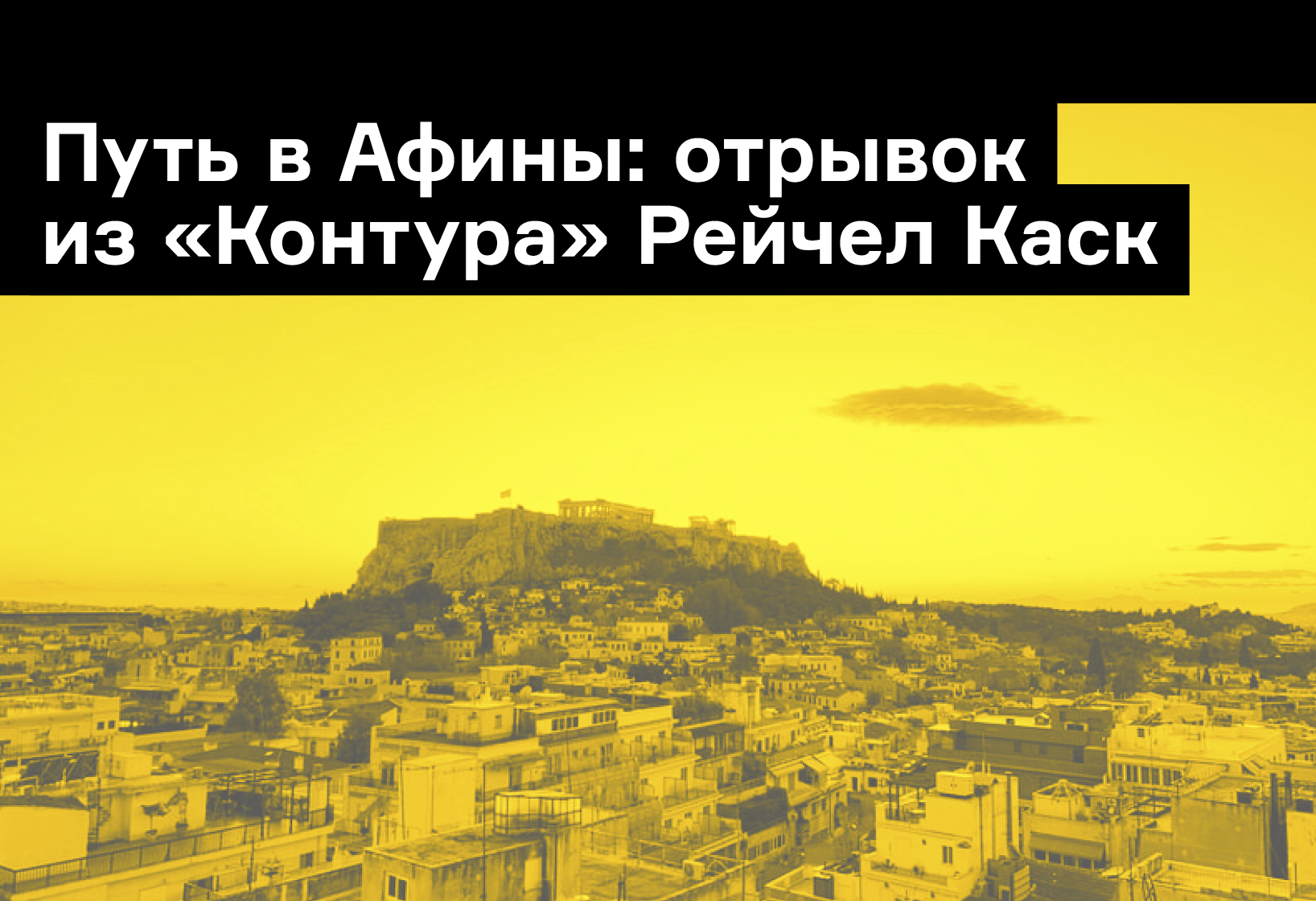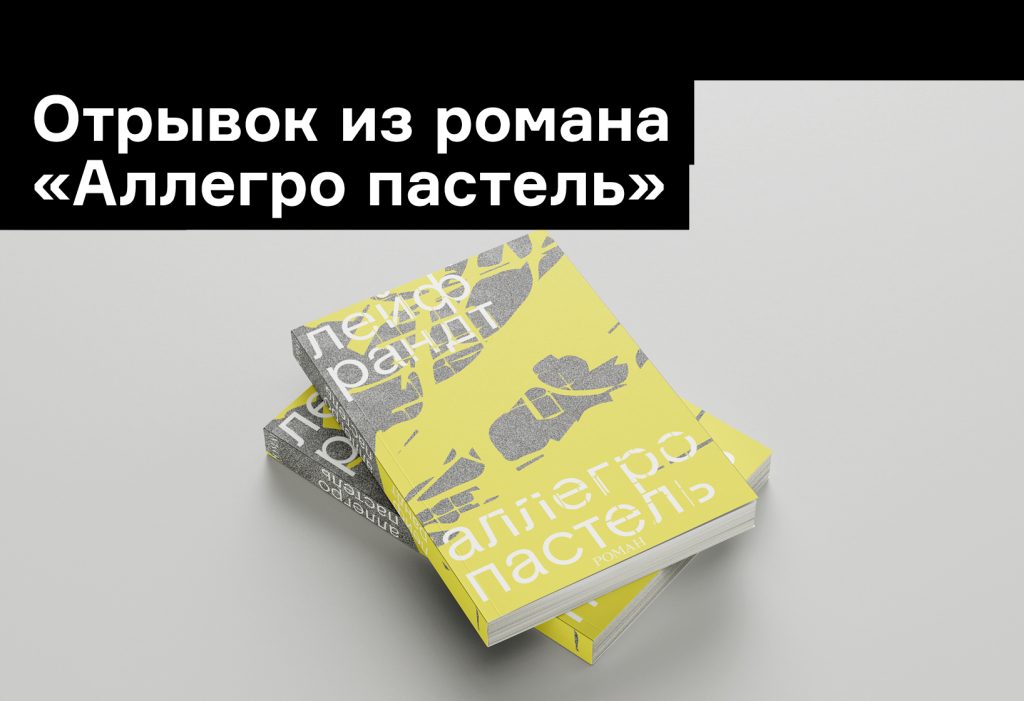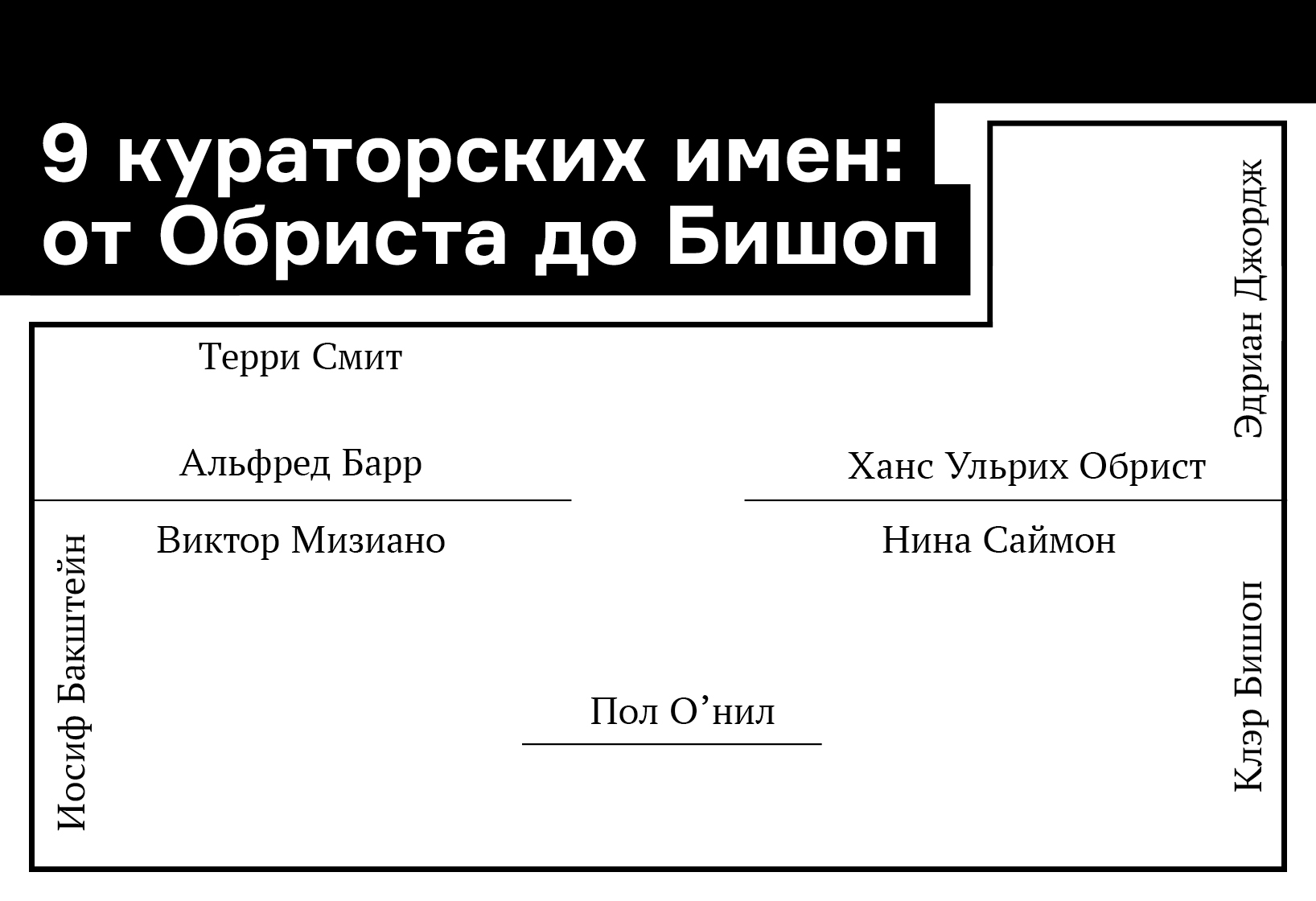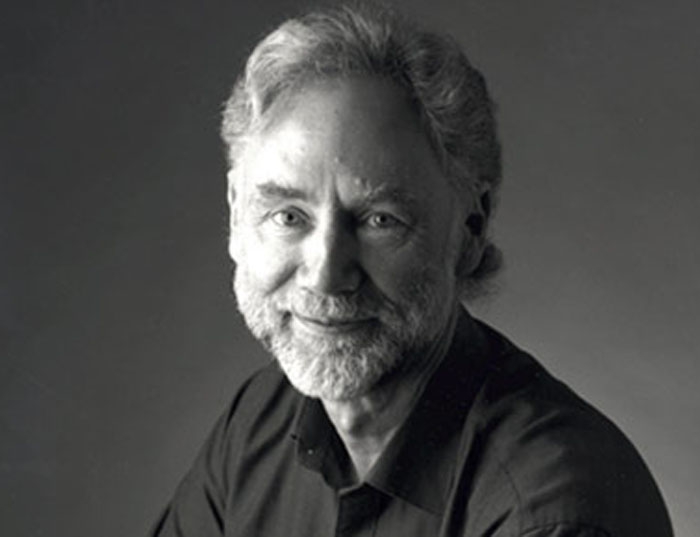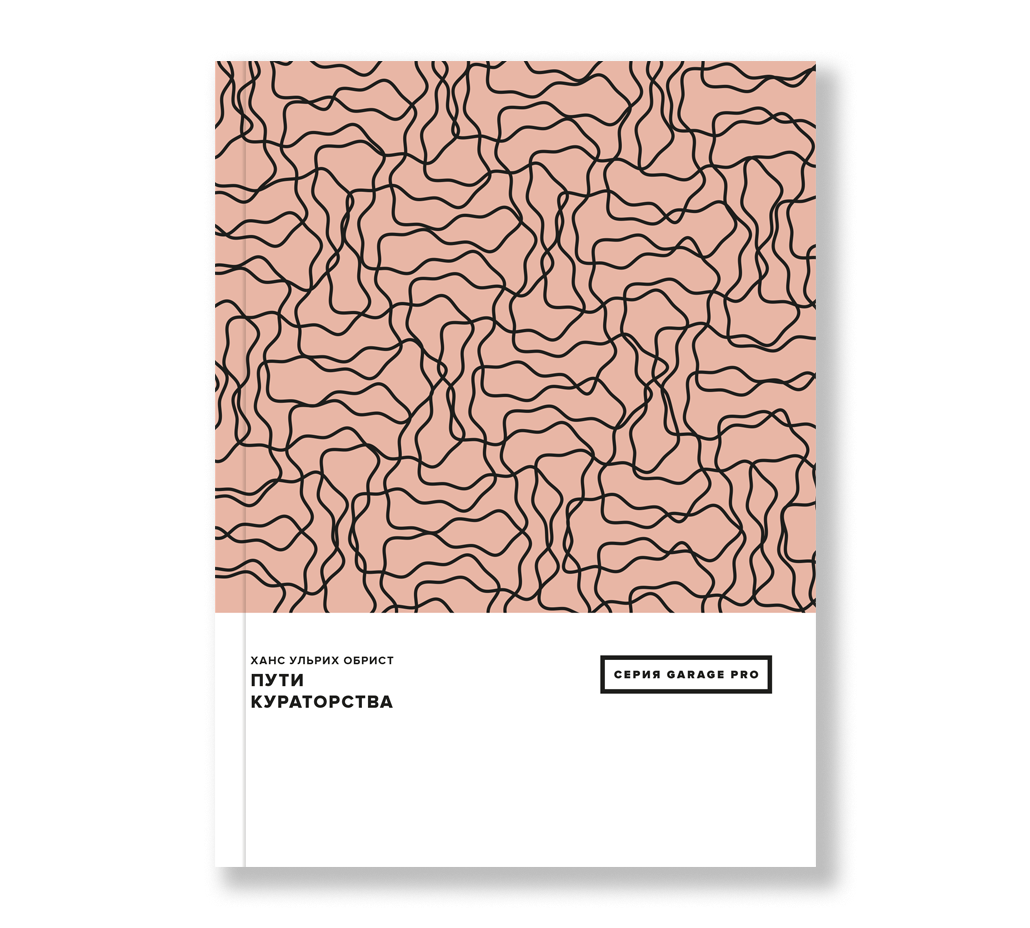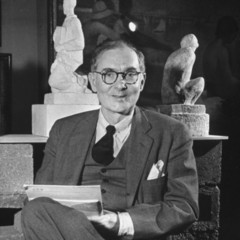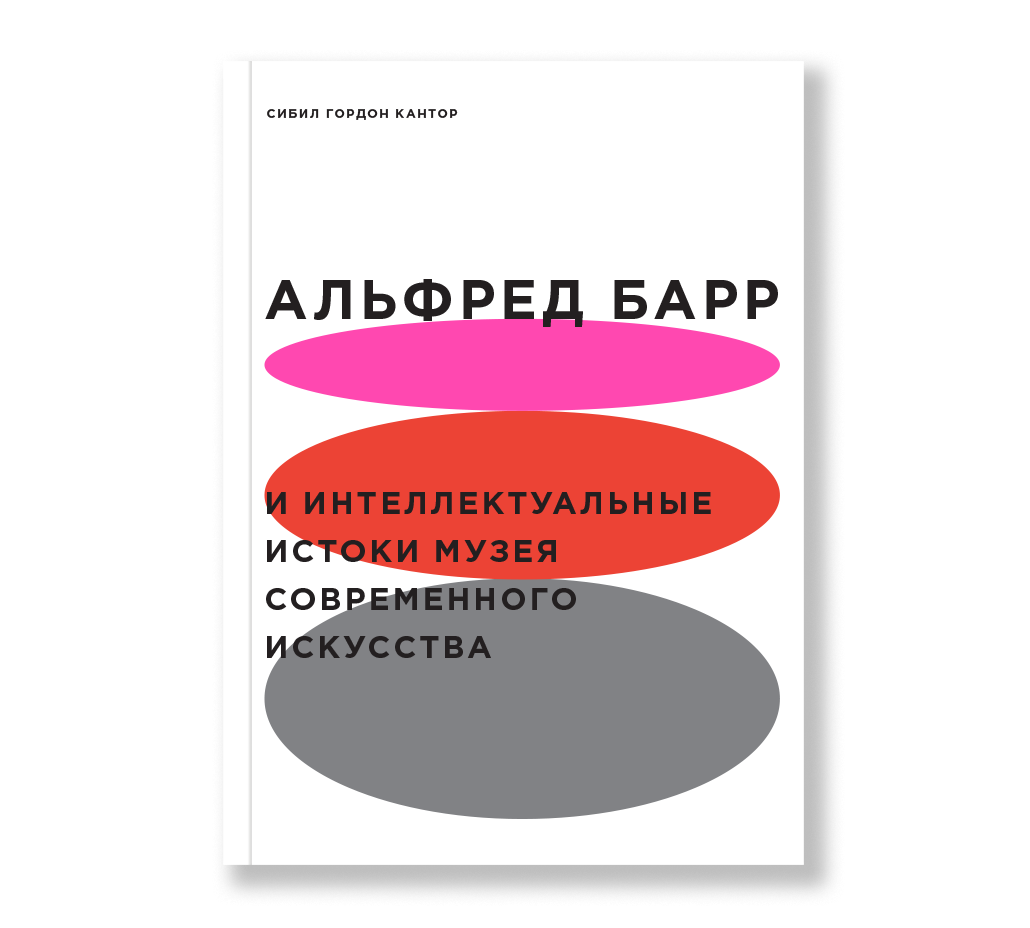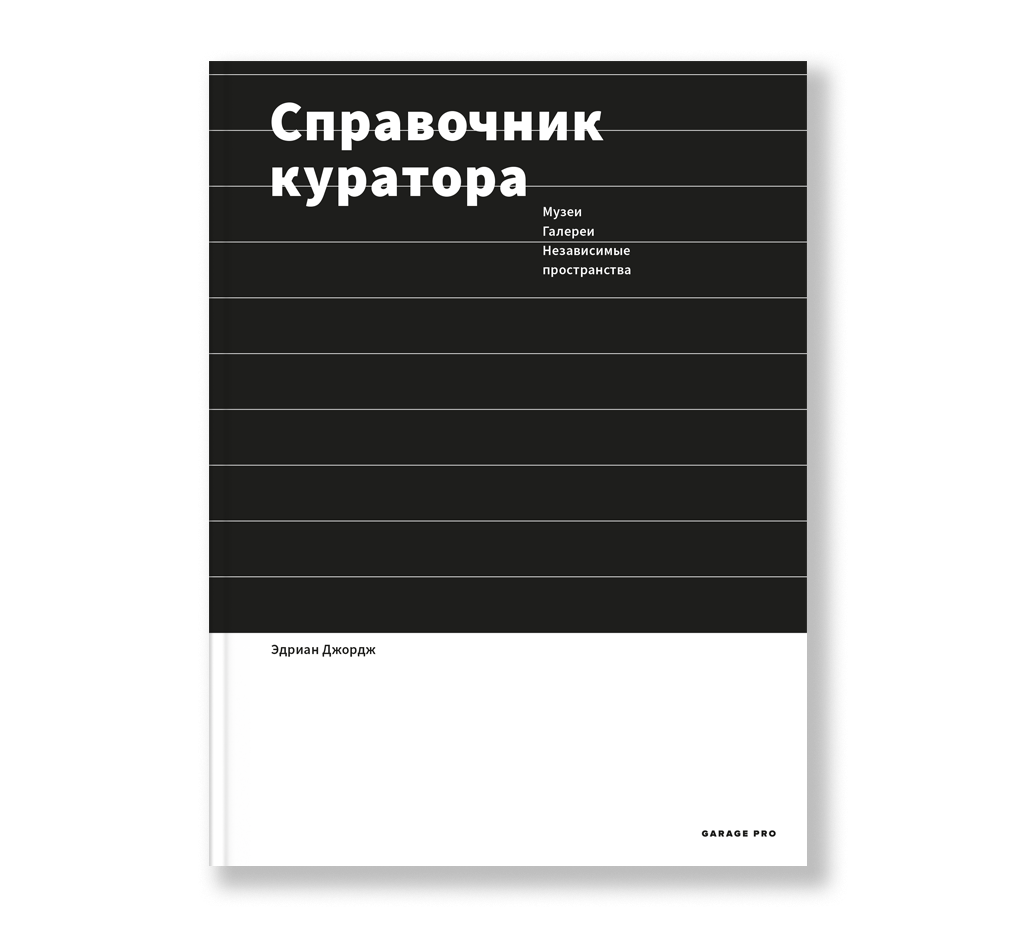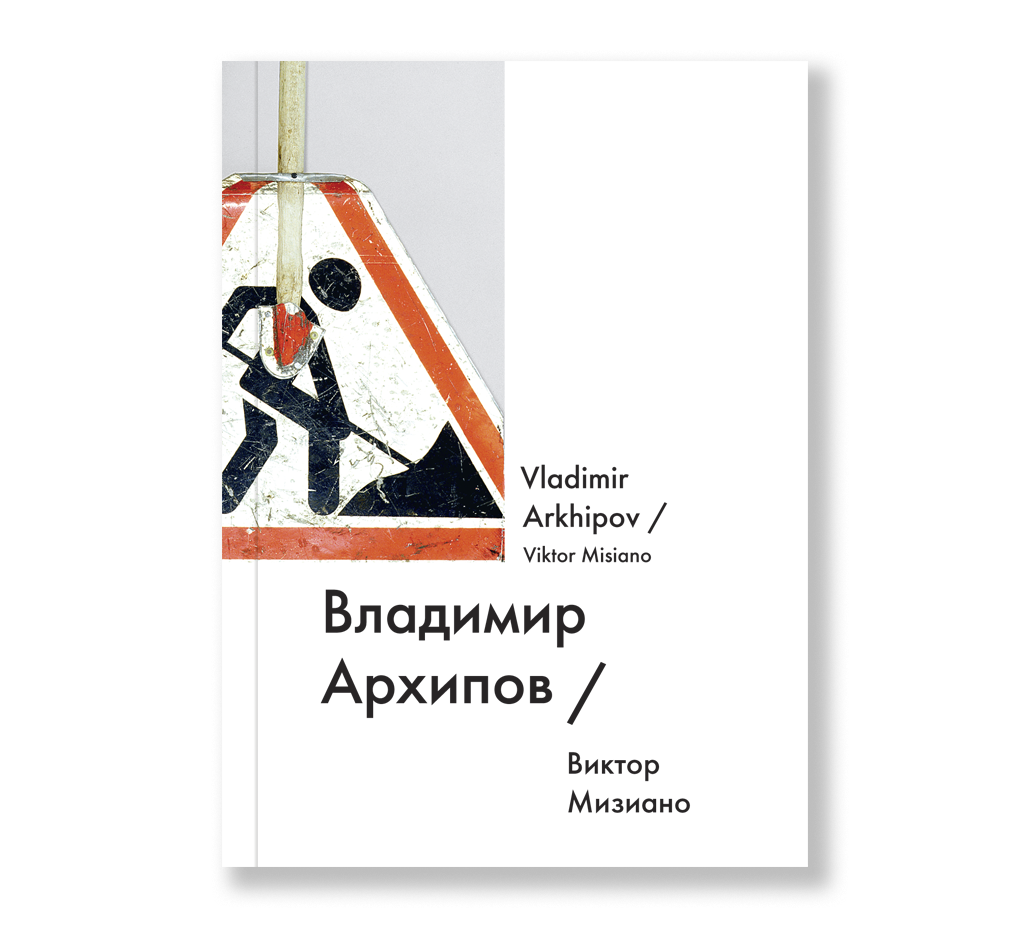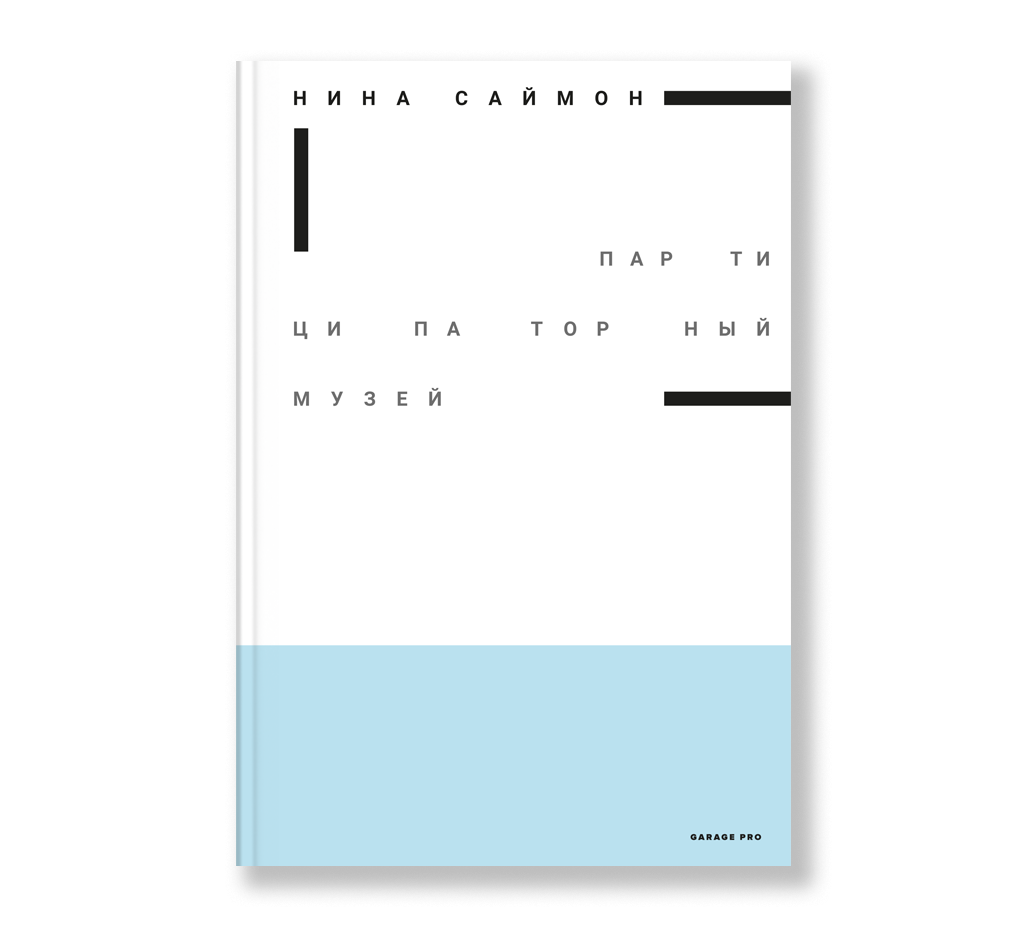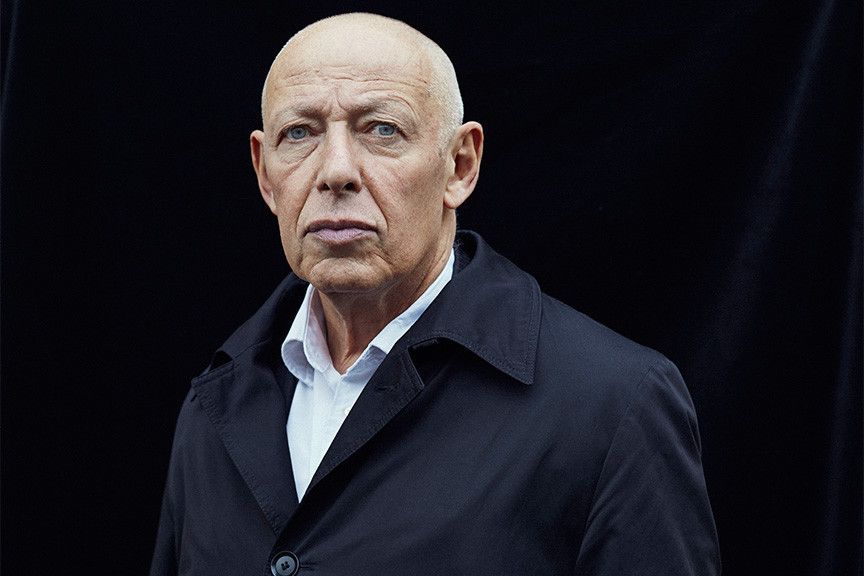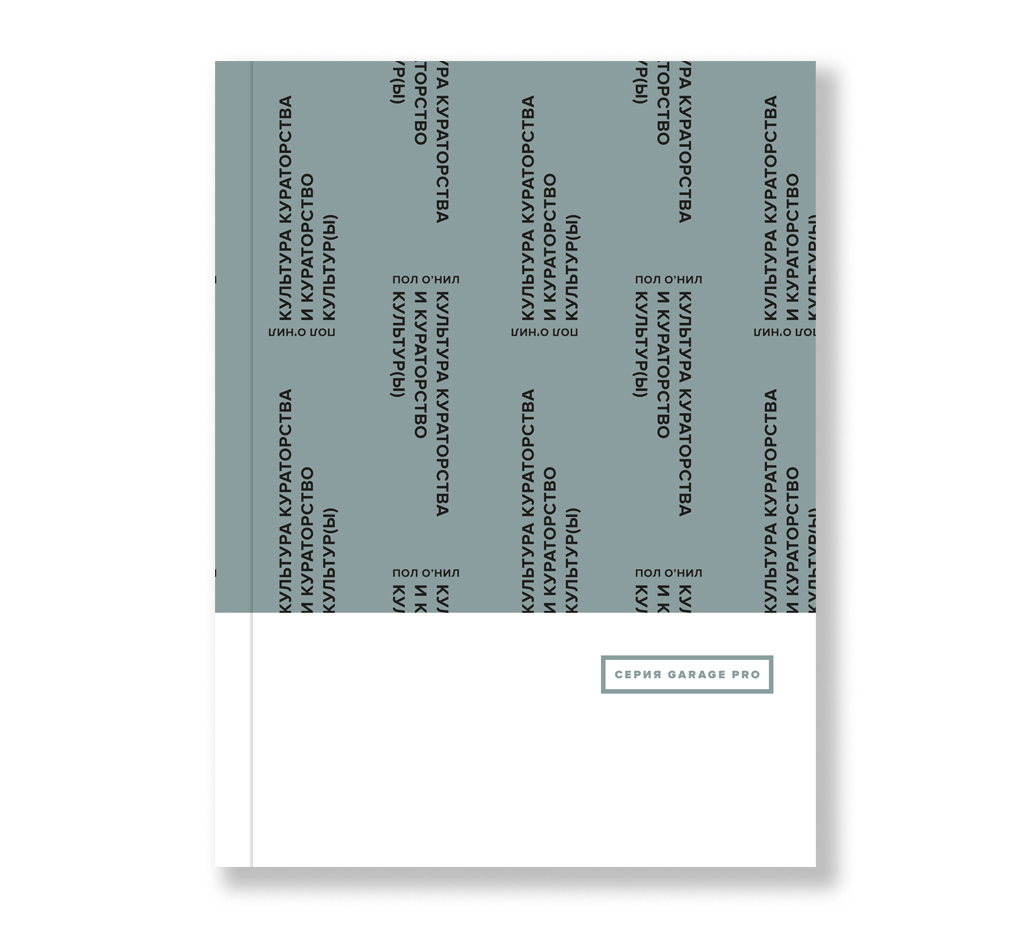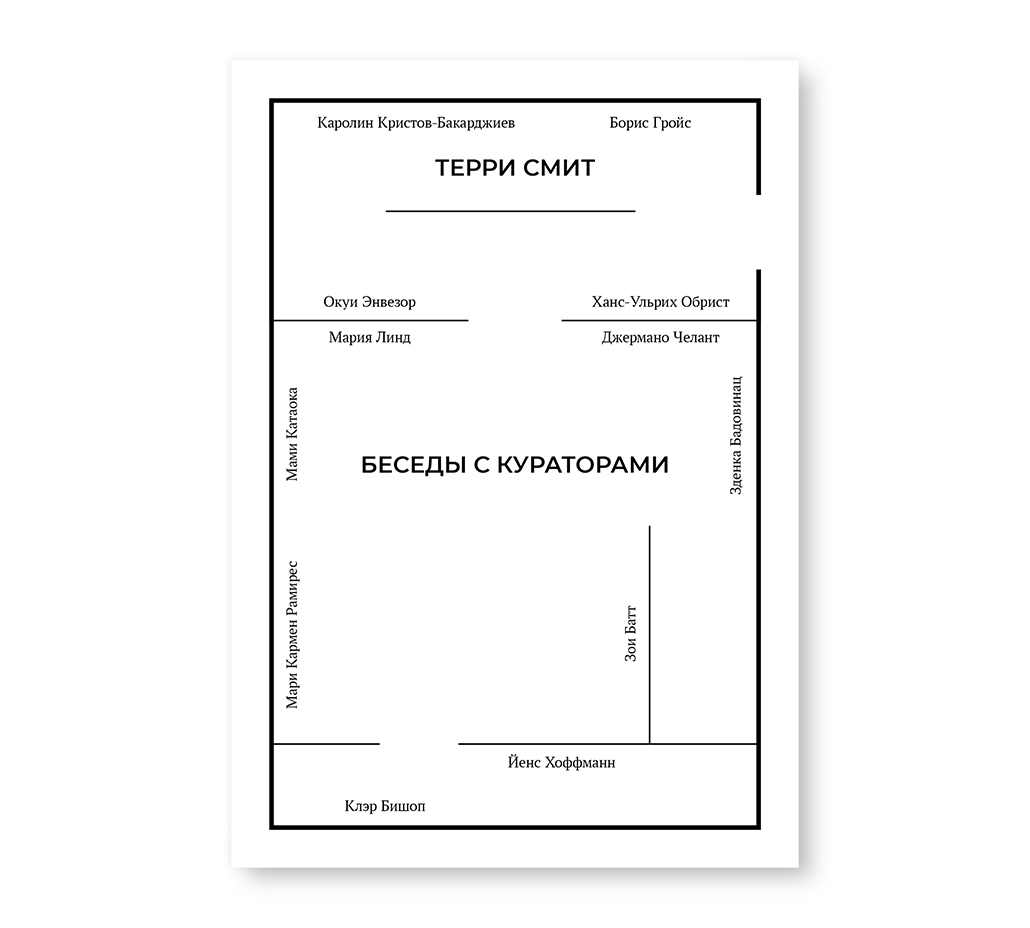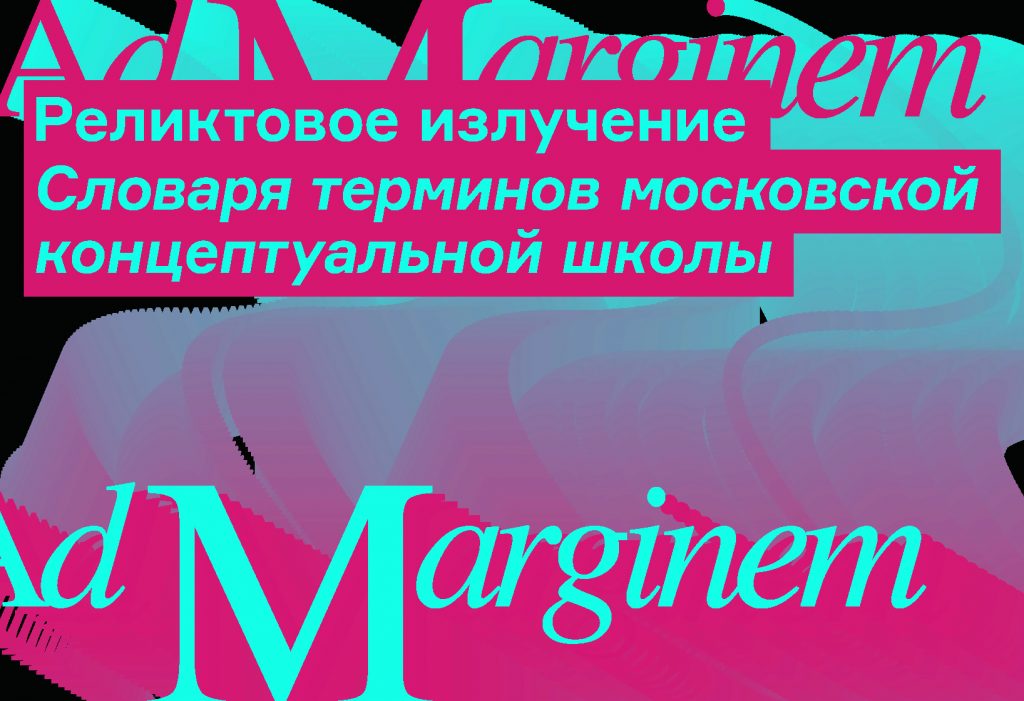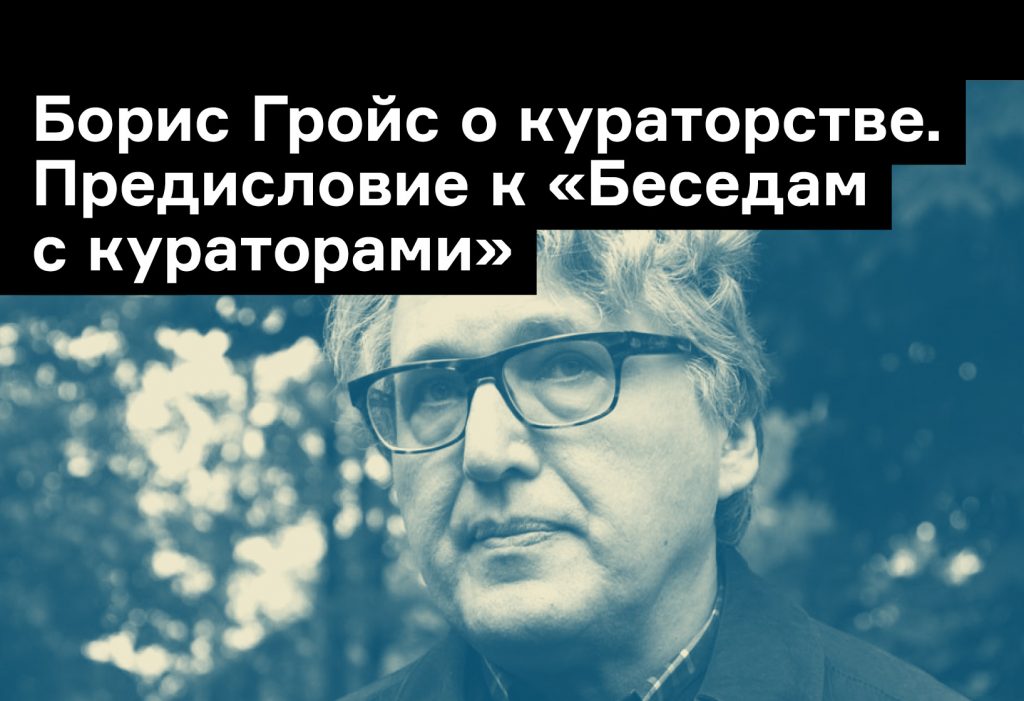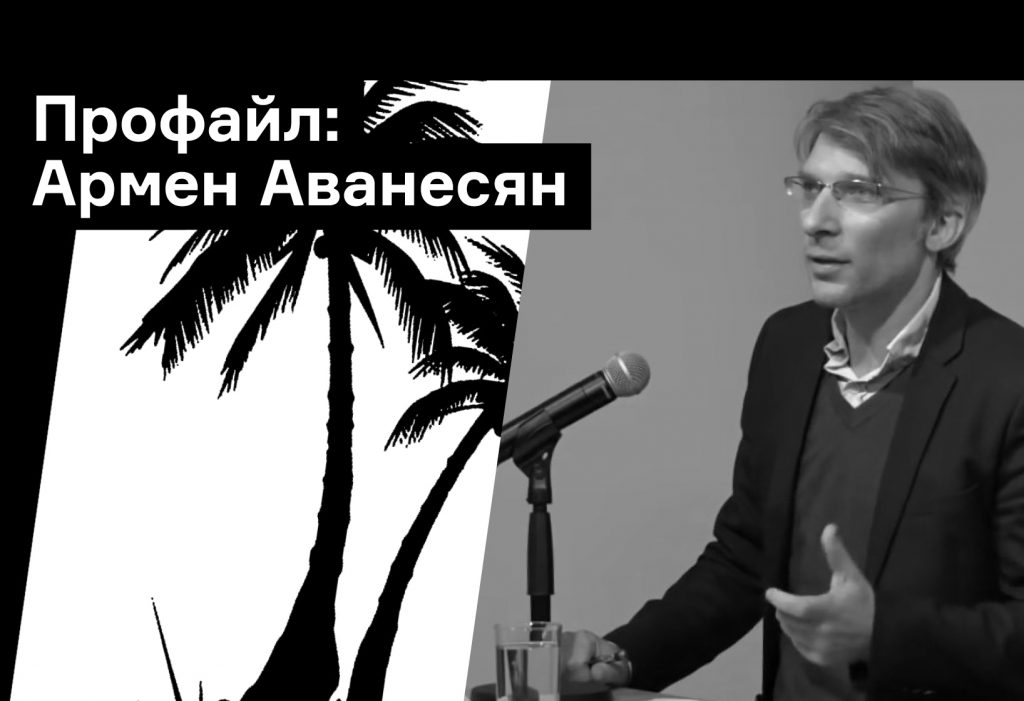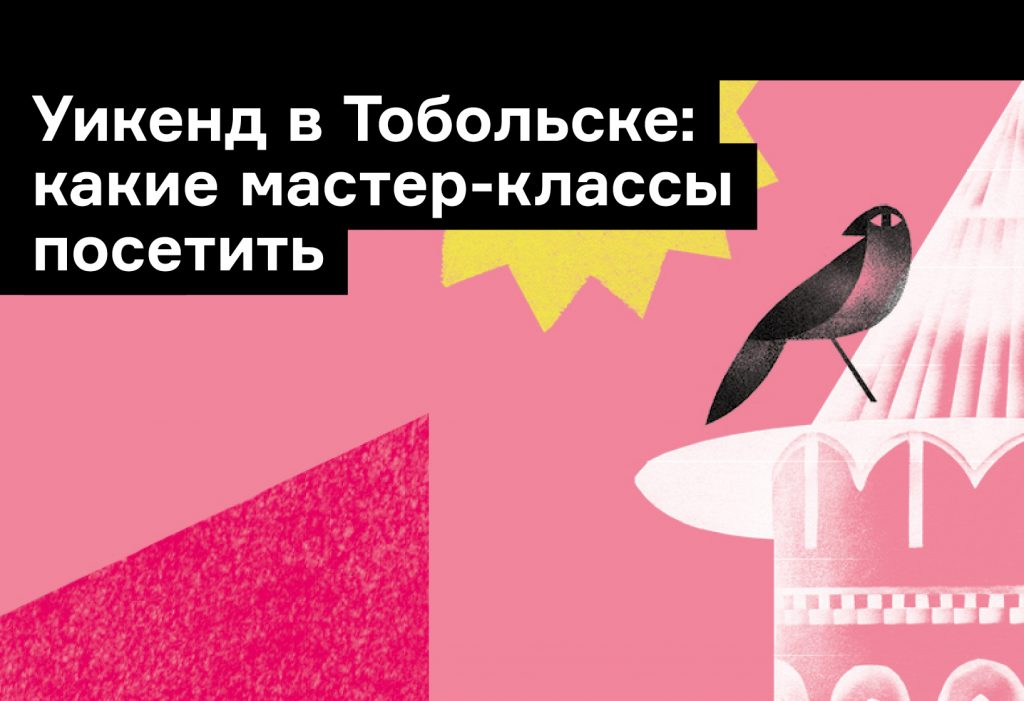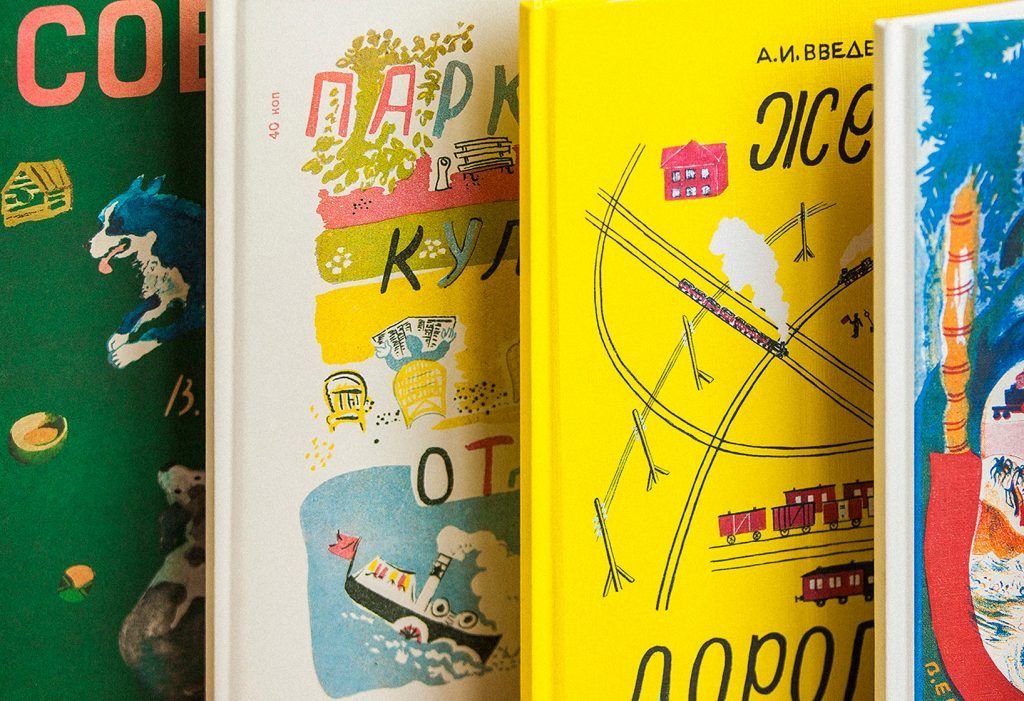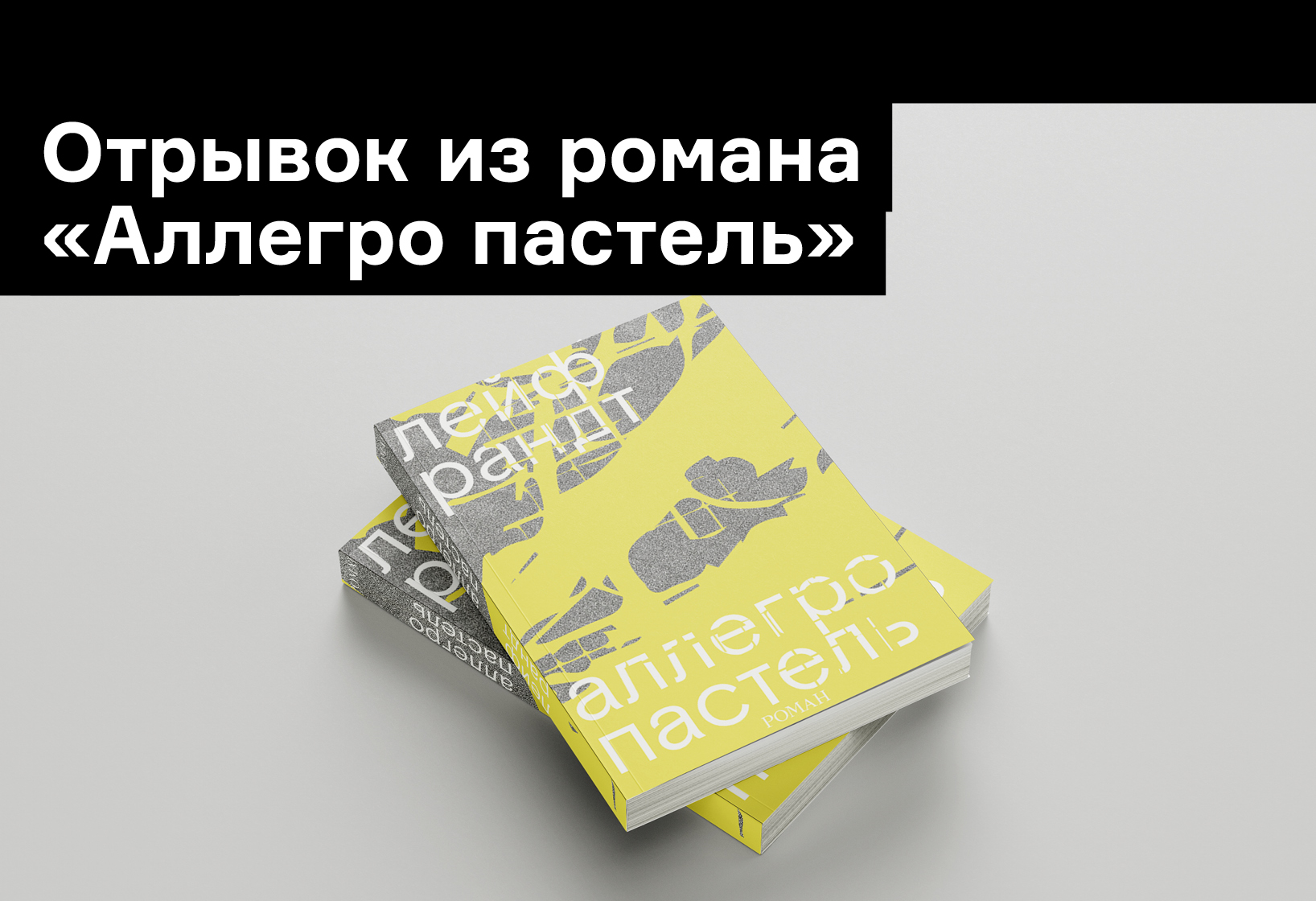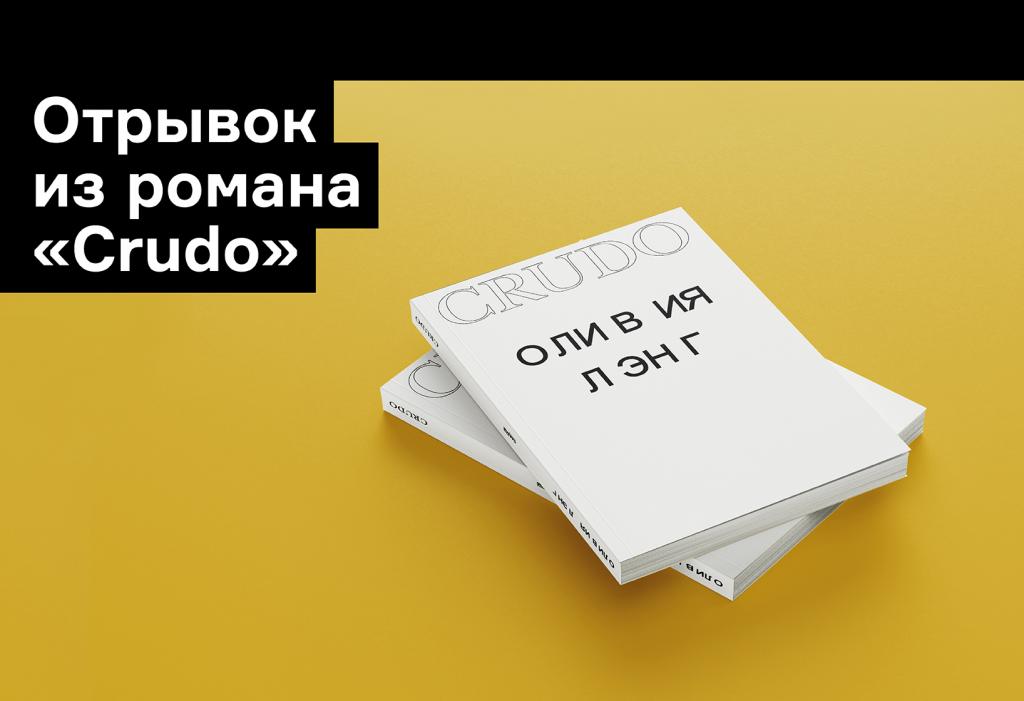Одна из главных новинок осени в нашем издательстве — это «Контур» Рейчел Каск. История писательницы, читающей курс creative writing летом в Афинах, расширила границы современной прозы и стала отличным образчиком жанра автофикшн. Делимся вступительным отрывком из книги — где главная героиня лишь на пути к жарким Афинам.
Перед вылетом я получила приглашение в лондонский клуб на обед с миллиардером, имевшим, как меня заверили, либеральные взгляды. Он сидел в рубашке с расстегнутым воротом и рассказывал о программном обеспечении, которое разрабатывал, — с его помощью организации смогут отслеживать сотрудников, с наибольшей вероятностью способных их ограбить или предать в будущем. Мы должны были обсудить литературный журнал, который он собирался издавать, но мне, увы, пришлось уехать в аэропорт раньше, чем мы дошли до этой темы. Он вызвал для меня такси, что пришлось кстати — я уже опаздывала, да и чемодан был тяжелый.
Миллиардер явно желал контурно обрисовать для меня историю своей жизни, которая начиналась малообещающе и заканчивалась — очевидным образом — тем, как он стал раскованным, состоятельным мужчиной, сидевшим теперь напротив меня. Я задумалась, не хочет ли он теперь сам стать писателем и не потому ли намеревается издавать журнал.
Писателями хотят стать многие, и нет причин думать, что пропуск в мир литературы нельзя купить.
Сколько раз он уже доказал, что деньги — это ключ к любой двери и выход из любой ситуации. Он упомянул, что работает над схемой, которая позволит людям решать личные вопросы без вмешательства юристов. Потом рассказал о проекте плавучей ветряной электростанции, где сможет жить весь обслуживающий ее персонал: гигантская платформа расположится далеко в море, и безобразные турбины не будут портить вид берега, откуда он собирается запустить свой экспериментальный проект и где у него, к слову, есть дом. По воскресеньям в качестве хобби он играет в группе на барабанах. Они с женой ждут одиннадцатого ребенка — правда, это звучит не так плохо, если учесть, что однажды они усыновили четверых близнецов из Гватемалы. Я с трудом успевала осмыслить всё, что он рассказывал. Официантки постоянно подавали новые и новые блюда: устрицы, закуски, особые вина. Он то и дело отвлекался, как ребенок, которого завалили рождественскими подарками. Сажая меня в такси, он пожелал мне удачи в Афинах, хотя я не помнила, чтобы говорила ему, куда лечу.
На поле в Хитроу полный самолет людей в молчании ждал взлета. Стюардесса стояла в проходе и разыгрывала со своим реквизитом пантомиму под аудиозапись инструктажа. Мы все, незнакомые друг с другом пассажиры, сидели, пристегнувшись к креслам, в такой тишине, какая царит во время литургии. Она показала нам спасательный жилет с трубочкой, аварийные выходы, кислородную маску на длинном прозрачном шланге. Она рассказала нам о возможной катастрофе и гибели, как священник в подробностях рассказывает прихожанам об устройстве чистилища и ада, но никто не ринулся к выходу, пока еще не слишком поздно. Вместо этого мы слушали, кто внимательно, а кто вполуха, думая о другом, как будто формальность рассказа о нависшем над нами роке притупила наши чувства. Когда голос на аудиозаписи дошел до кислородных масок, никто не нарушил тишину, не запротестовал и не высказал свое возмущение заповедью, гласившей, что человеку положено сначала позаботиться о себе и только потом — о других. У меня же она вызывала сомнения.
Сбоку от меня в кресле развалился смуглый мальчик, быстро елозивший пухлыми большими пальцами по экрану игровой консоли. С другой стороны сидел небольшого роста мужчина в светлом льняном костюме, сильно загорелый, с серебряной копной волос. Снаружи набухший летний день недвижно лежал на взлетной полосе; маленькие служебные машинки носились по плоской поверхности, скользя, лавируя и кружась, как игрушечные, а вдалеке виднелась серебряная нить шоссе, которое бежало и сверкало на солнце, словно ручей, зажатый с боков однообразными полями. Самолет пришел в движение и покатился вперед, оживив застывший пейзаж за окном, который сначала плыл медленно, а затем всё быстрей и быстрей, и вот наконец мы тяжело, неохотно оторвались от земли. На мгновение показалось, что самолет не сможет взлететь. Но он взлетел.
Мужчина справа повернулся ко мне и спросил, с какой целью я лечу в Афины. Я сказала, что по работе.
— Надеюсь, вы поселитесь у моря, — сказал он. — В Афинах сейчас очень жарко.
Боюсь, что нет, сказала я, и он поднял серебристые брови, которые росли неожиданно буйно и беспорядочно, словно трава на скалах. Именно его чудаковатость и побудила меня вступить в разговор. Неожиданное иногда легко принять за знак судьбы.
— В этом году жара пришла рано, — сказал он. — Обычно это случается гораздо позже. Ее тяжело переносить с непривычки.
Свет в трясущемся салоне судорожно мерцал; слышалось, как открываются и захлопываются двери, что-то ужасно гремит, люди ерзают, разговаривают, встают с места. Через громкоговоритель раздавался мужской голос; доносился запах кофе и еды; стюардессы целеустремленно вышагивали туда-обратно по узким проходам, устланным коврами, и слышно было, как шуршат их нейлоновые чулки. Мой сосед сказал, что летает этим маршрутом один-два раза в месяц. Раньше у него была квартира в Лондоне, в Мейфэре.
— Но в последнее время, — сказал он сухо, — я предпочитаю жить в Дорчестере.
Он говорил интеллигентно и формально, и в этой манере чувствовалась некоторая неестественность, как будто английский язык аккуратно нанесли на него кистью, словно краску. Я спросила его, откуда он родом.
— Меня отправили учиться в английскую школу-интернат, когда мне было семь, — ответил он. — Можно сказать, я англичанин по повадкам и грек по духу. Мне часто говорят, что наоборот вышло бы куда хуже.
Его родители греки, продолжал он, но в какой-то момент переехали всей семьей — они сами, четыре сына, их собственные родители и дяди с тетями в придачу — в Лондон и зажили, как подобает английскому высшему обществу: отправили четырех сыновей учиться и принялись обзаводиться полезными связями, приглашая к себе домой нескончаемую череду аристократов, политиков и успешных дельцов. Я спросила, как им удалось влиться в чужую среду, на что он пожал плечами.
— Деньги — это отдельная страна, — сказал он. — Мои родители владели судами; семейный бизнес был международным, хотя до сих пор мы жили на маленьком острове, где оба они родились. Вы точно не слышали о нем, хотя в непосредственной низости от него много известных туристических мест.
— Близости, — сказала я. — Наверное, вы имели в виду «близости».
— Прошу прощения, — сказал он. — Конечно, я имею в виду «близости».
Как и все богачи, продолжал он, его родители давно уже оторвались от корней и стали частью многонационального сообщества видных и состоятельных людей. Разумеется, они сохранили за собой поместье на острове, которое оставалось их основным местом жительства, пока дети были маленькими, но, когда пришло время отправить сыновей в школу, они переехали в Англию. Там у них имелись многочисленные связи, и благодаря некоторым из них, сказал мой сосед с долей гордости, они оказались чуть ли не у порога Букингемского дворца.
Их семья всегда была самой именитой на острове: брак его родителей объединил две ветви местной аристократии, а кроме того, благодаря ему слились два судоходных бизнеса. Но у этих мест была одна особенность: там царил матриархат. Власть принадлежала не мужчинам, а женщинам; собственность передавалась не от отца к сыну, но от матери к дочери. Атмосфера в семье из-за этого была напряженной, сказал мой сосед, но это стало только начало проблем, с которыми он столкнулся по приезде в Англию.
В мире его детства рождение мальчика само по себе уже было разочарованием, а с ним самим, последним в череде таких разочарований, обращались особенно неоднозначно: мать желала видеть в нем девочку.
Его заставляли носить платья и длинные кудри и называли женским именем — тем, которое его родители выбрали для долгожданной наследницы. Причины этой необычной ситуации, сказал мой сосед, уходят корнями в древность. Исконно экономика острова держалась на добыче морских губок, и местные молодые люди были превосходными ныряльщиками. Однако это опасная профессия, и жили они в среднем недолго. Поскольку мужья умирали рано, женщинам приходилось самим вести финансовые дела и, более того, передавать их по наследству своим дочерям.
— Сложно себе представить, — сказал он, — каким был мир в золотые дни моих родителей: щедрый на удовольствия — и в то же время безжалостный. Пятый ребенок в нашей семье, тоже мальчик, при рождении получил травму мозга, и, когда мы переехали, его просто оставили на острове на попечении сменяющих друг друга нянек, чью компетентность — в то время и с такого расстояния, — боюсь, никто не удосуживался проверять.
Он так и остался жить там — стареющий мужчина с разумом младенца, неспособный, конечно, поведать эту историю со своей точки зрения. Тем временем мой сосед и его братья вступили в студеные воды английского частного образования, где их учили думать и говорить, как английские мальчики. От кудрей мой сосед с облегчением избавился, но впервые в жизни столкнулся с жестокостью, а вместе с ней и с другими прежде неведомыми ему несчастьями: одиночеством, тоской по дому, по матери и отцу. Он пощупал нагрудный карман пиджака и достал черный кошелек из мягкой кожи, откуда извлек мятую черно-белую фотографию своих родителей. Мужчина в приталенном сюртуке, застегнутом на пуговицы до горла, держался очень прямо, а чернота его разделенных на пробор волос, густых прямых бровей и больших закрученных усов придавала ему необычайно свирепый вид; круглое лицо женщины рядом с ним, неулыбчивое и непроницаемое, напоминало монету. Фотография была сделана в конце 1930-х годов, сказал мой сосед, до его рождения. Брак на тот момент уже не задался — свирепость отца и непреклонность матери были не только внешними. Их супружество стало грандиозной битвой двух волевых характеров, и никому так и не удалось разнять их, лишь ненадолго — уже после их смерти. Но об этом, сказал он со слабой улыбкой, в другой раз.
Тем временем к нам медленно приближалась бортпроводница, толкая по проходу металлическую тележку и раздавая белые пластиковые подносы с едой и напитками. Она дошла до нашего ряда; я предложила поднос мальчику слева от меня, и он молча поднял игровую консоль обеими руками, чтобы я поставила его на откидной столик. Мы с соседом справа сняли со своих подносов крышки, чтобы налить чай в стоявшие на них белые пластиковые чашки. Он начал задавать мне вопросы, словно приучил себя это делать, и мне стало интересно, кому или чему он обязан навыком, который многие так никогда и не приобретают.