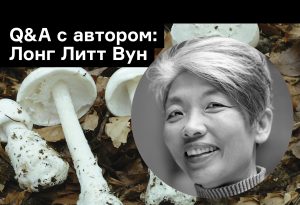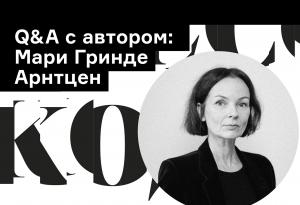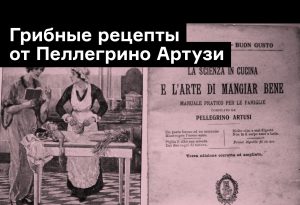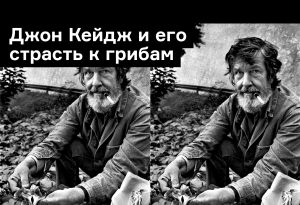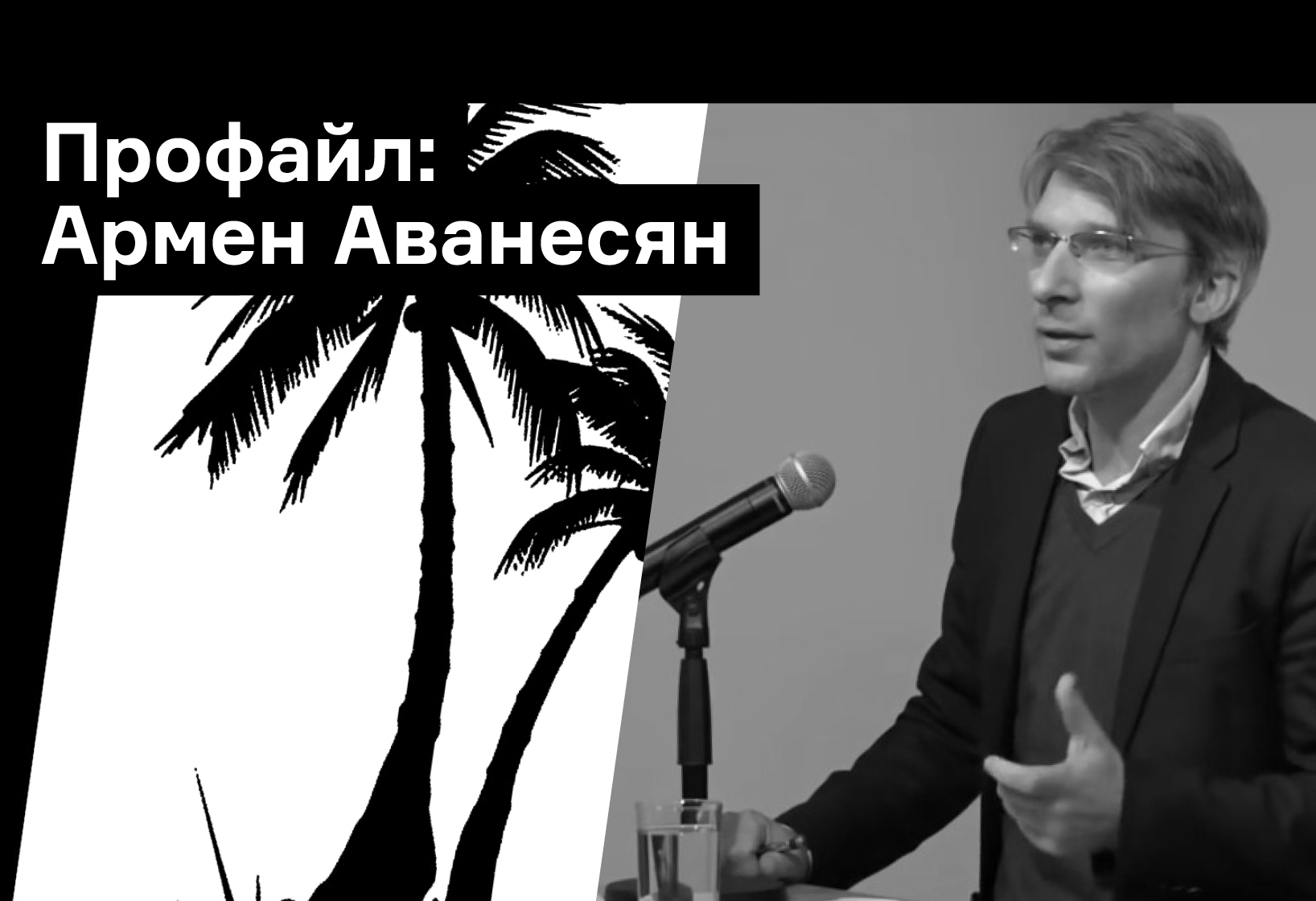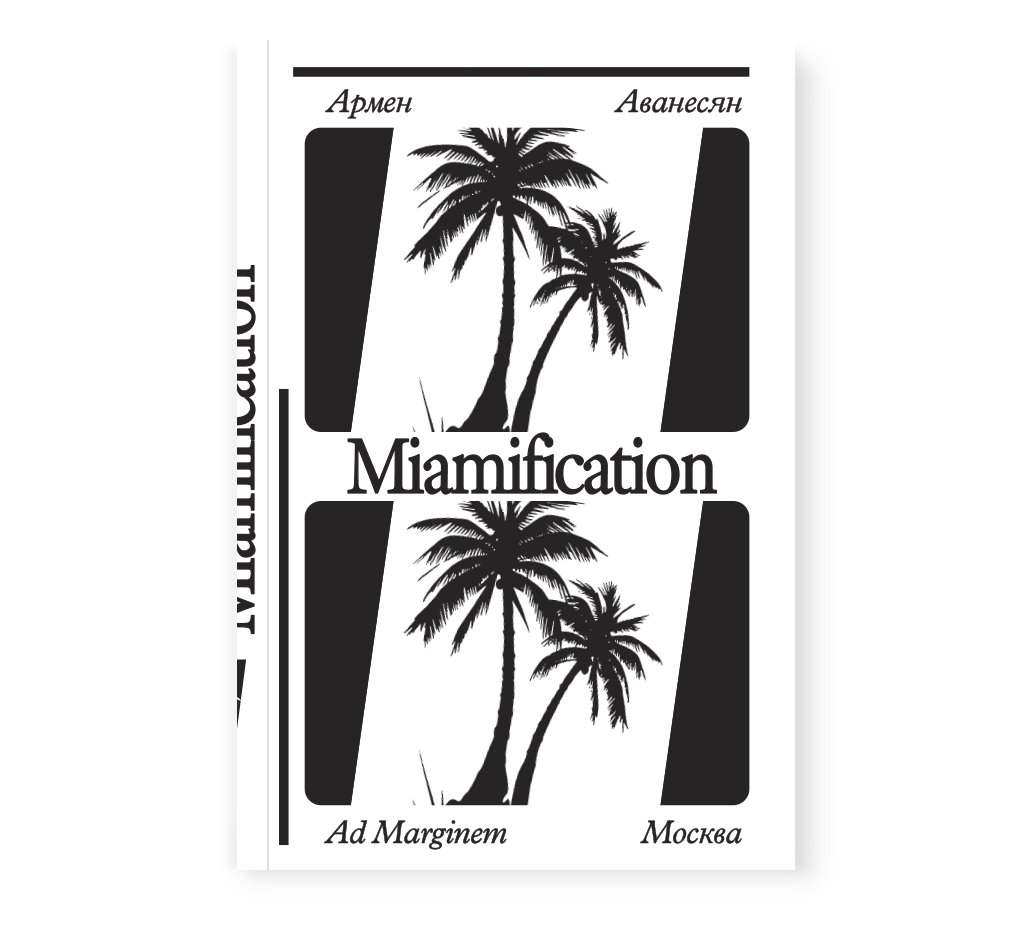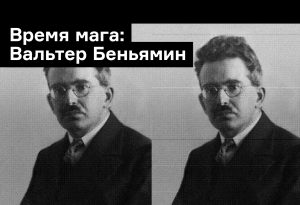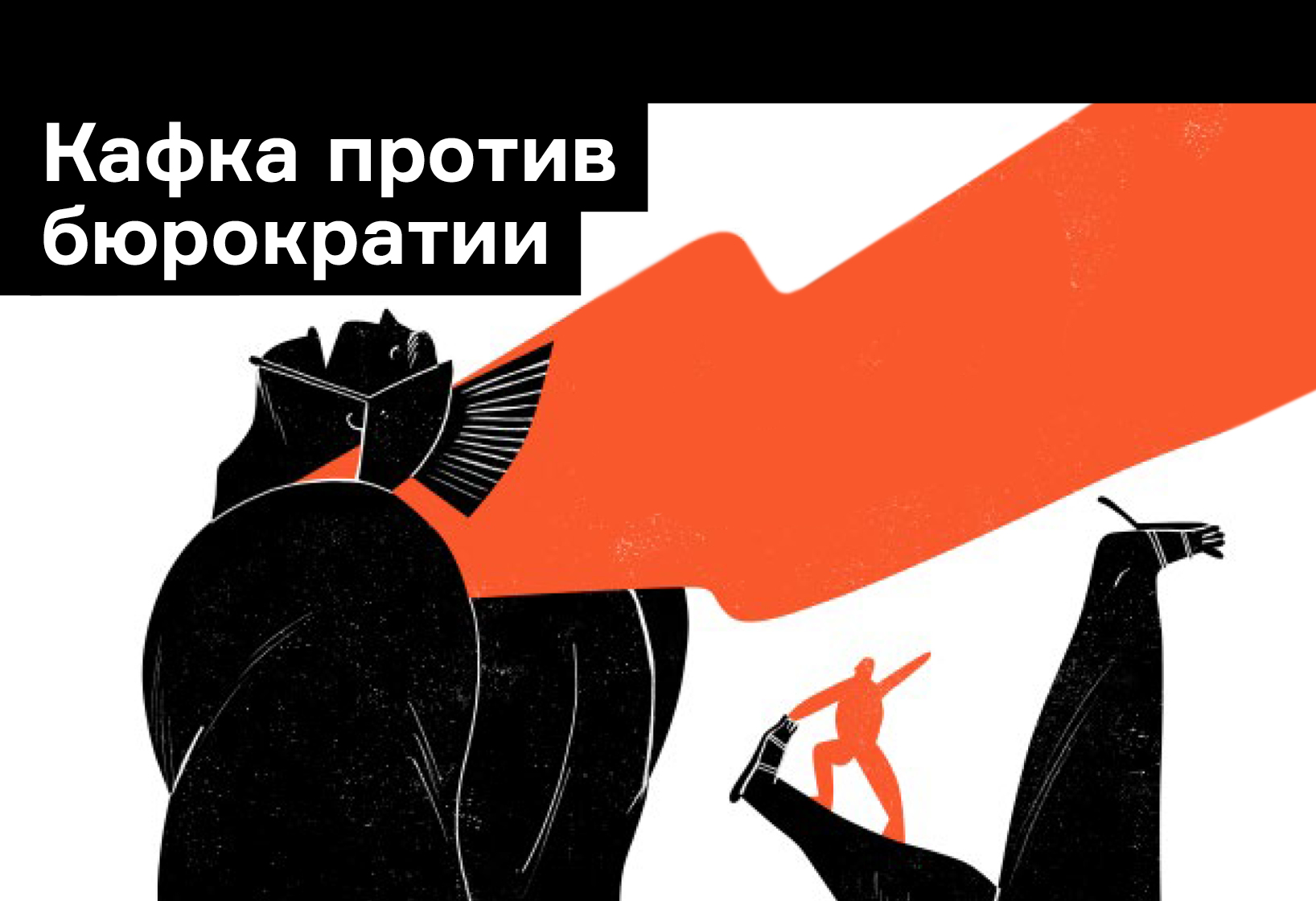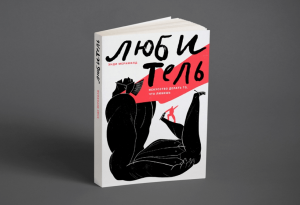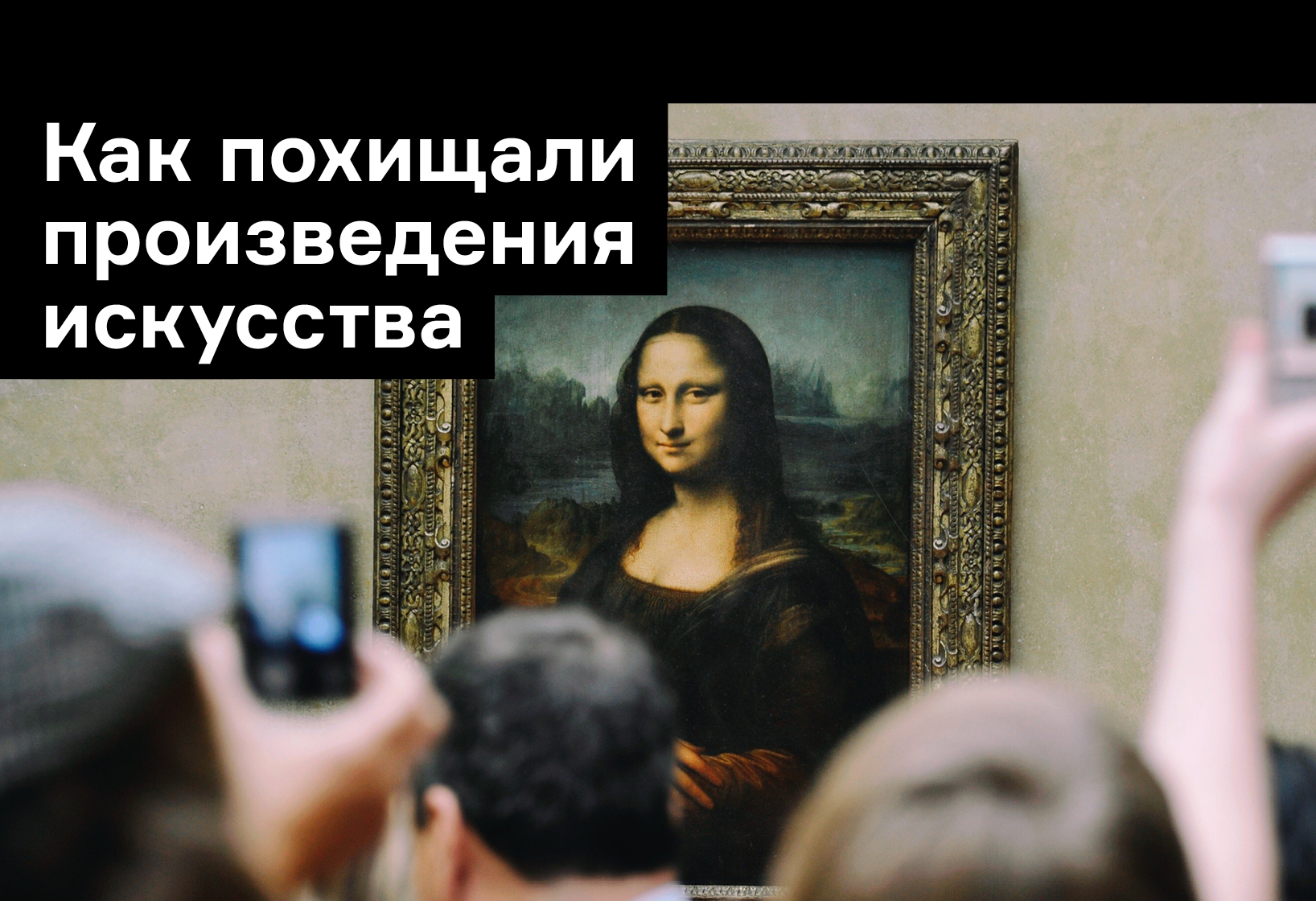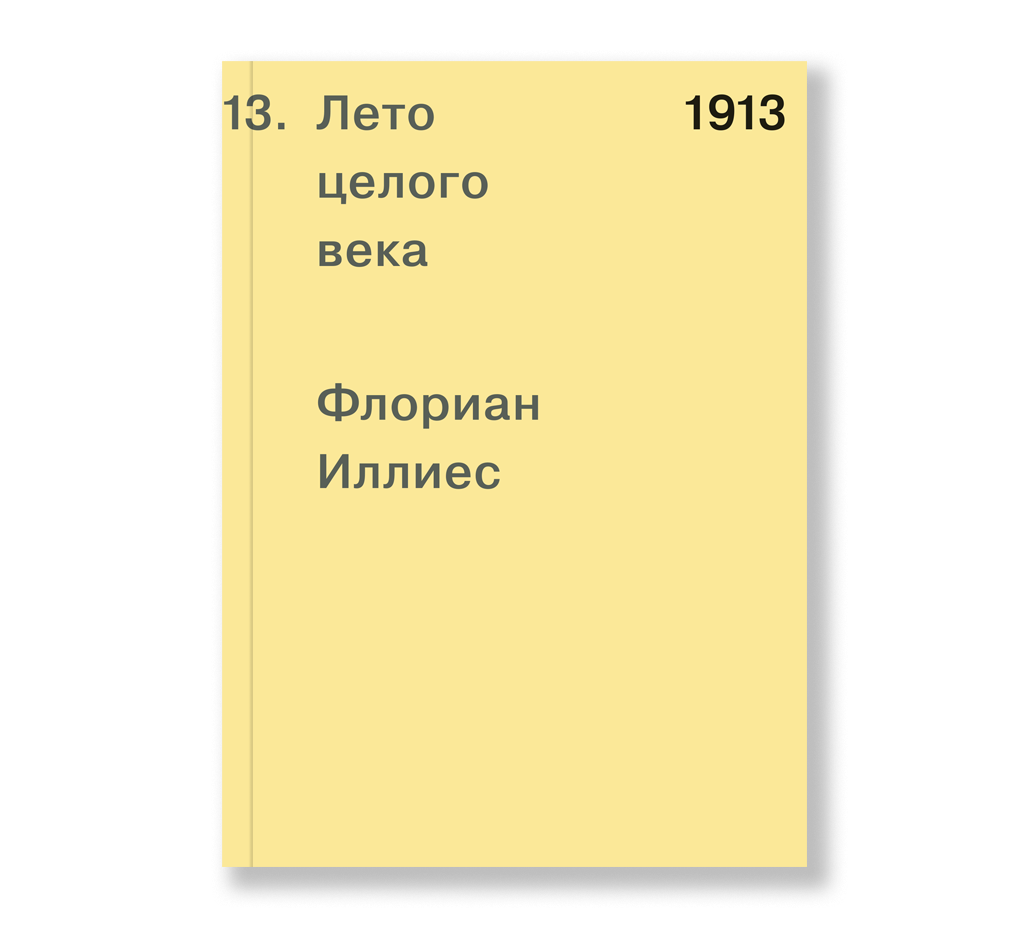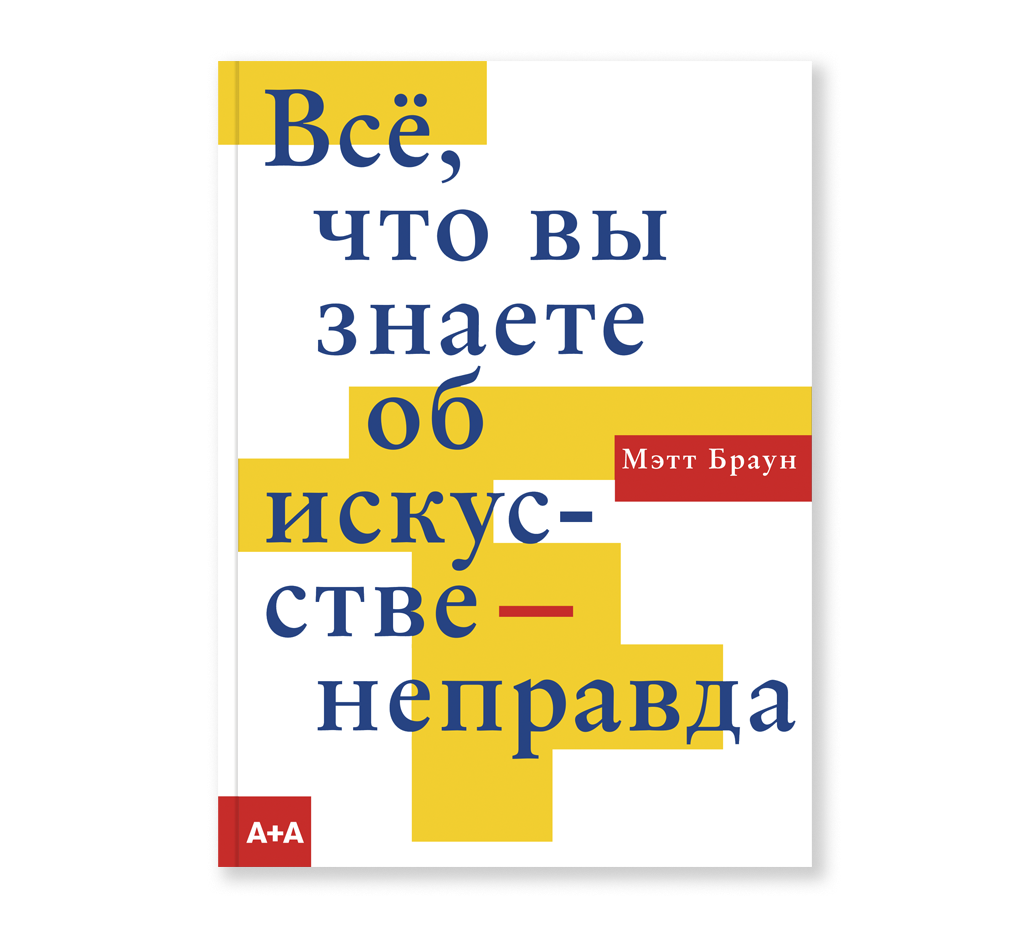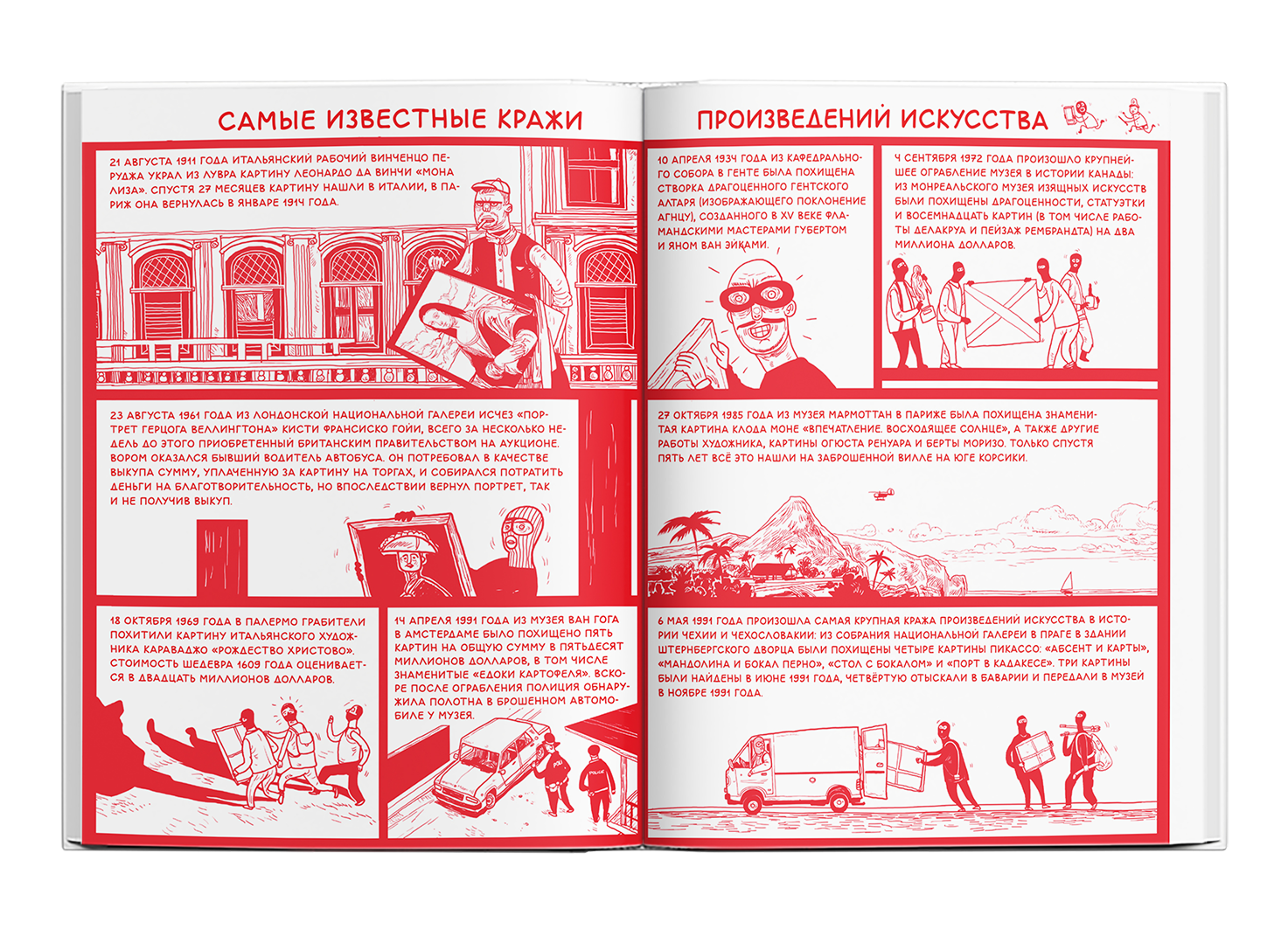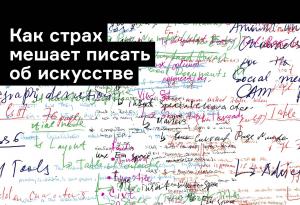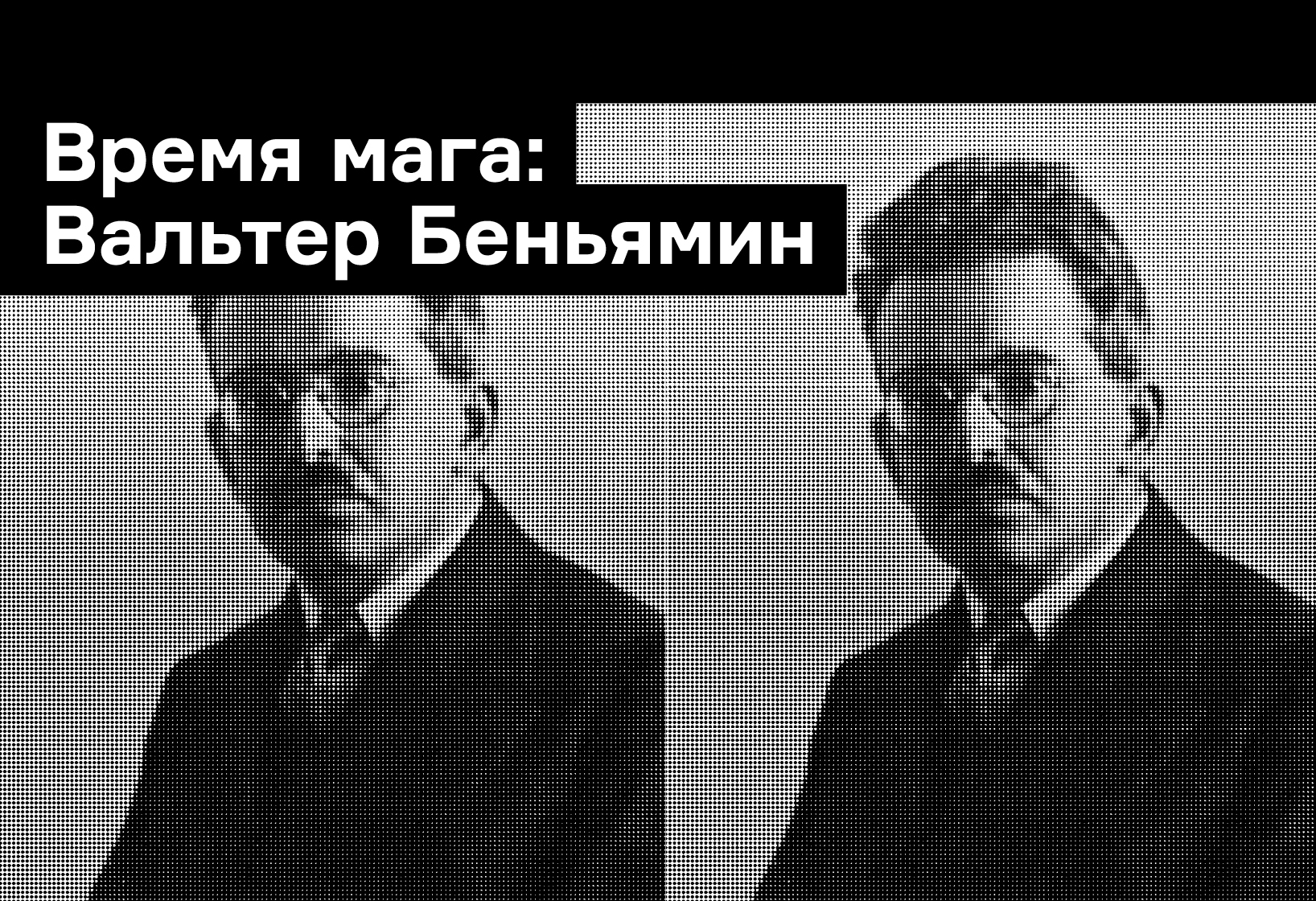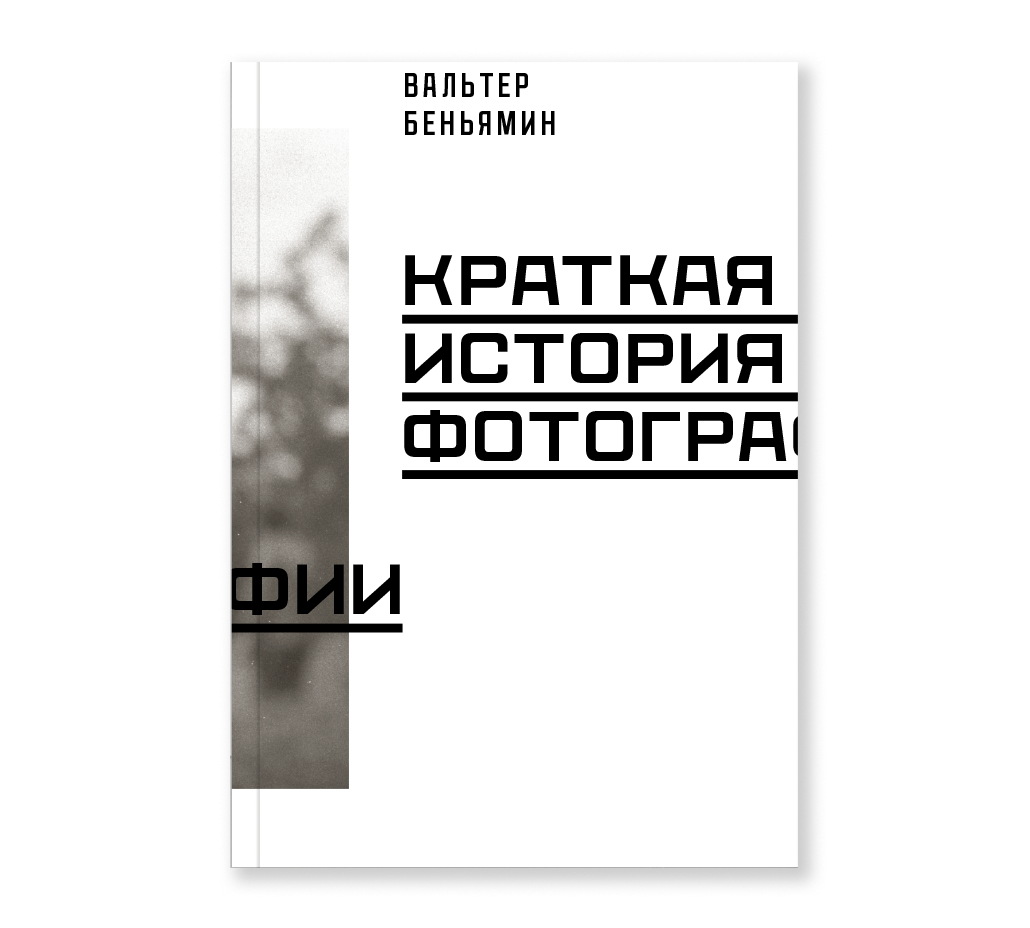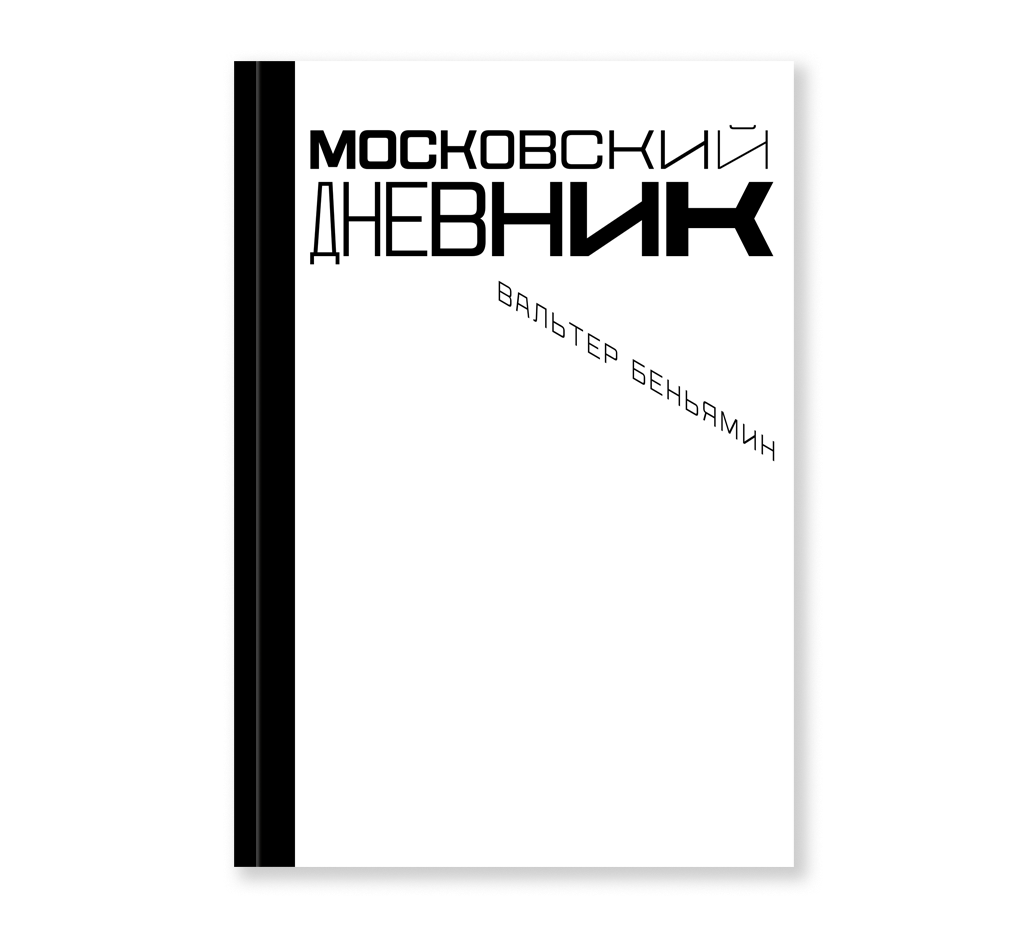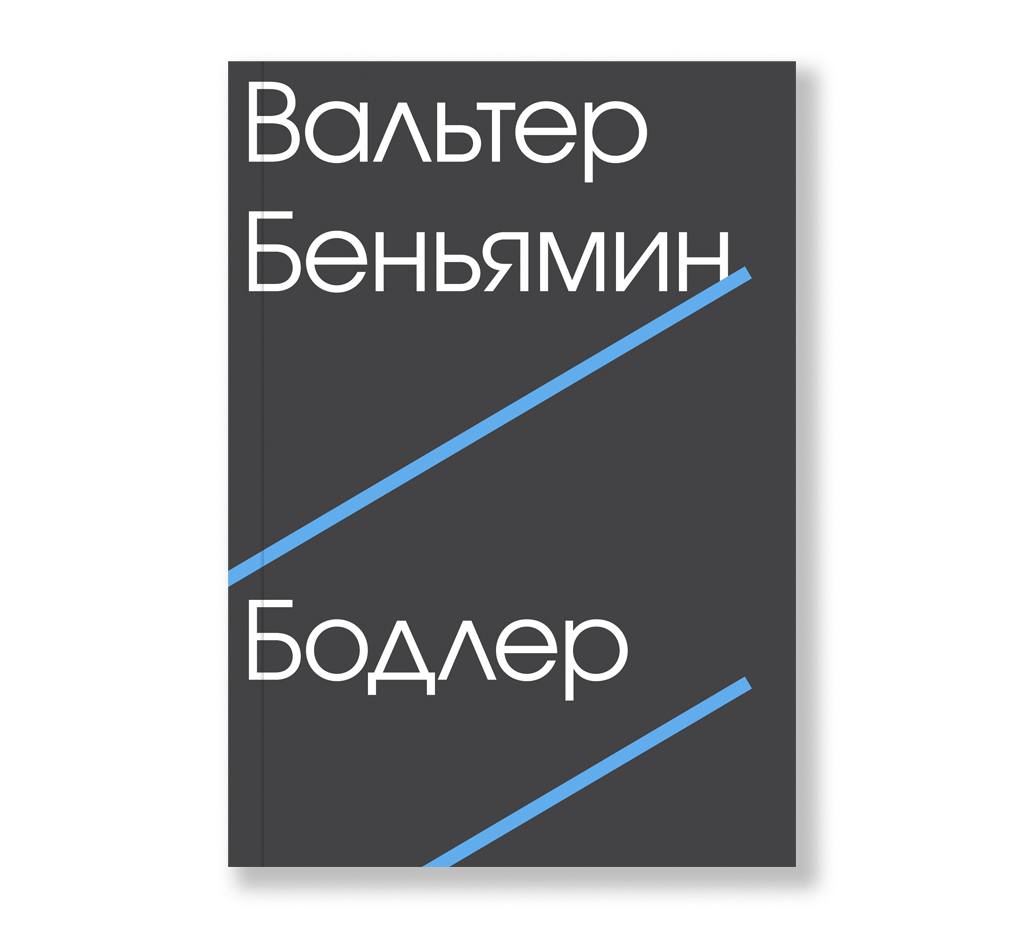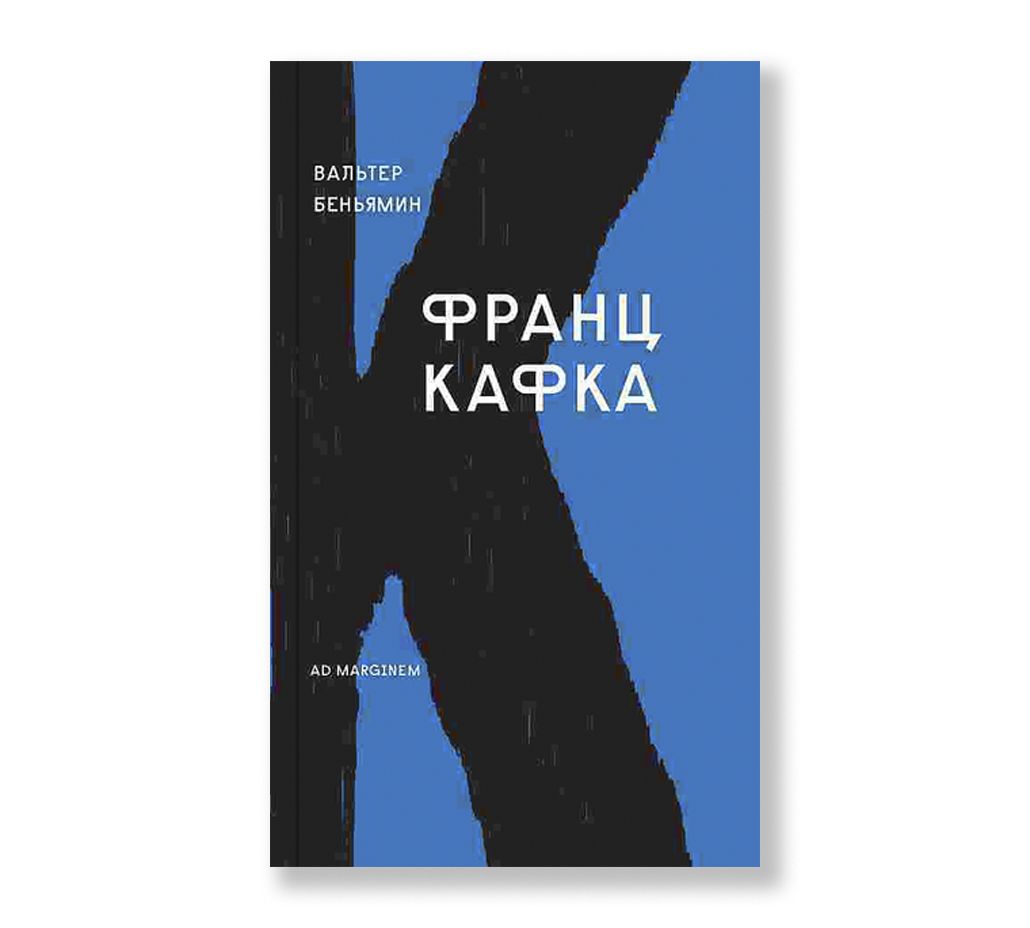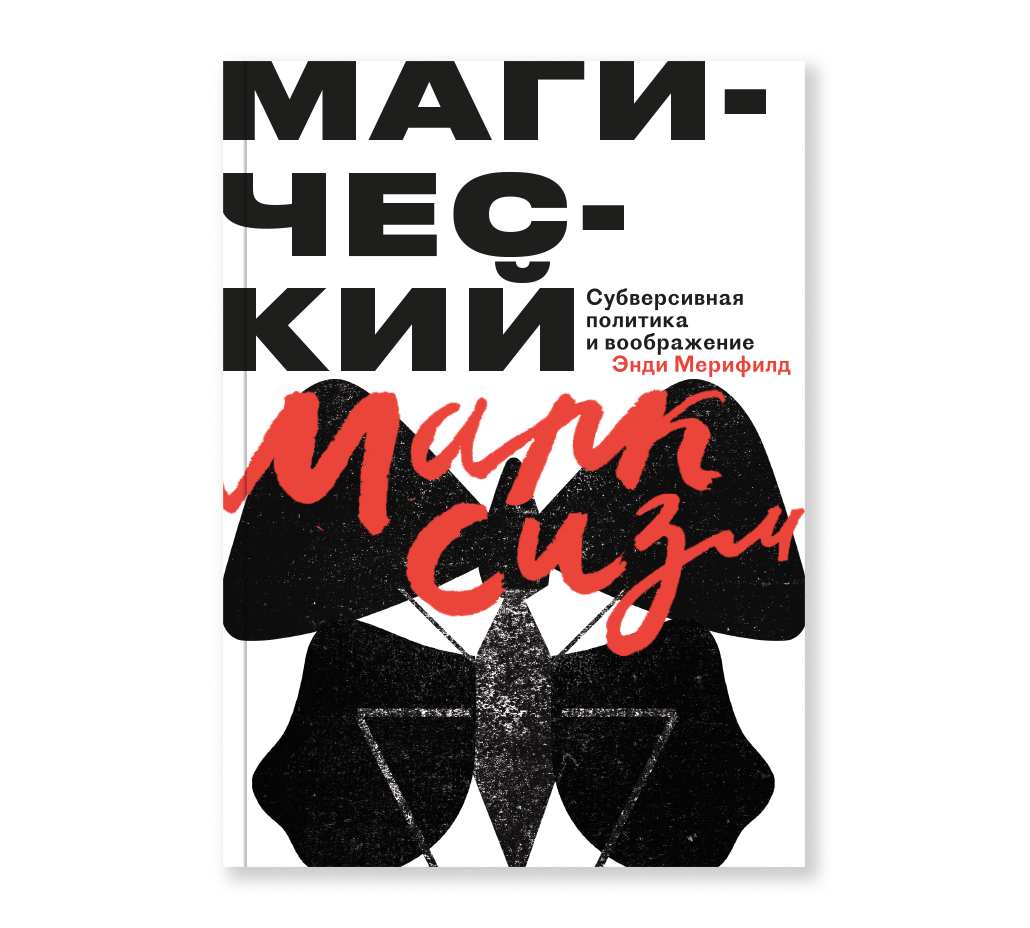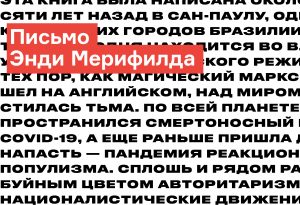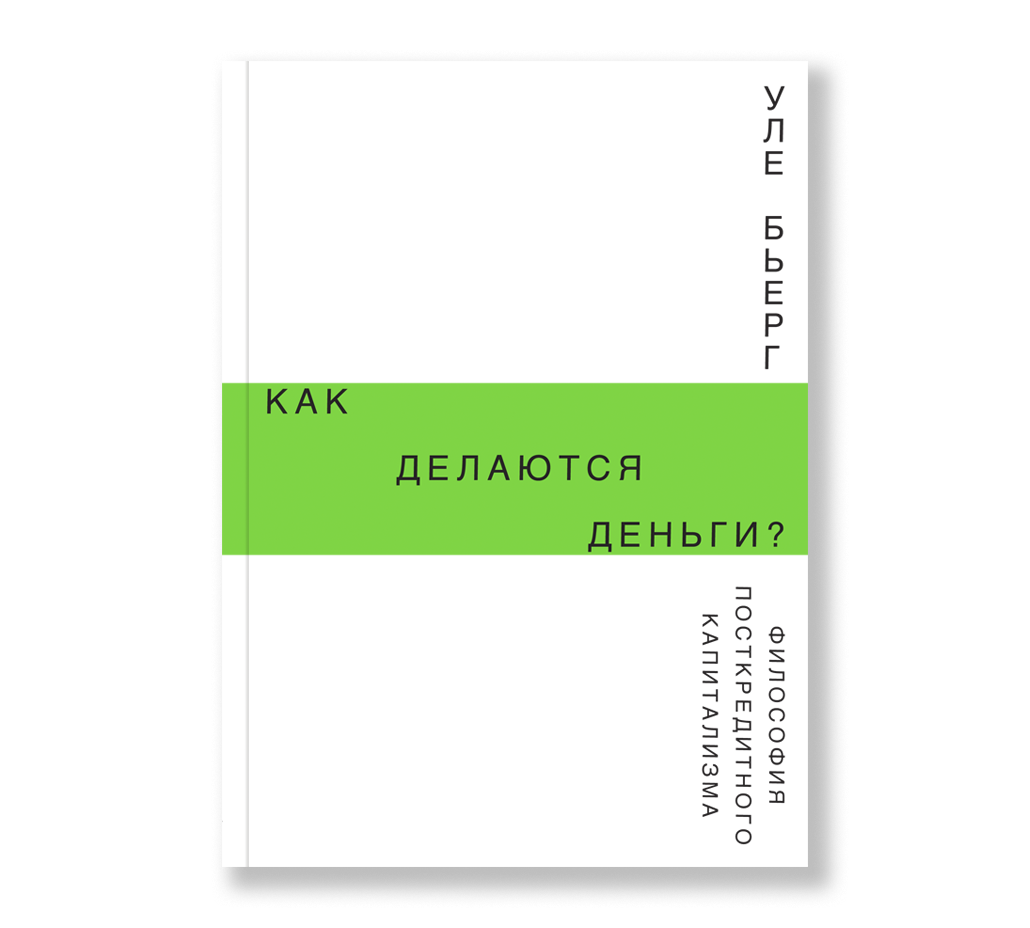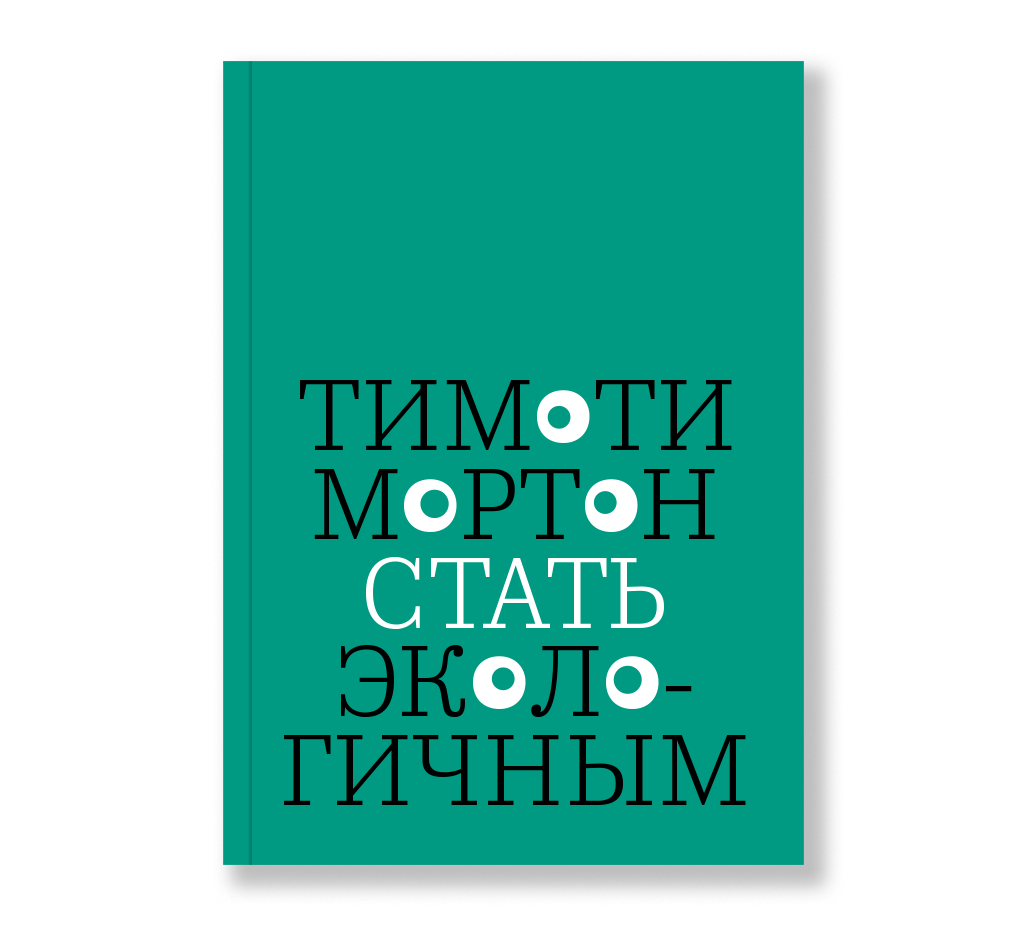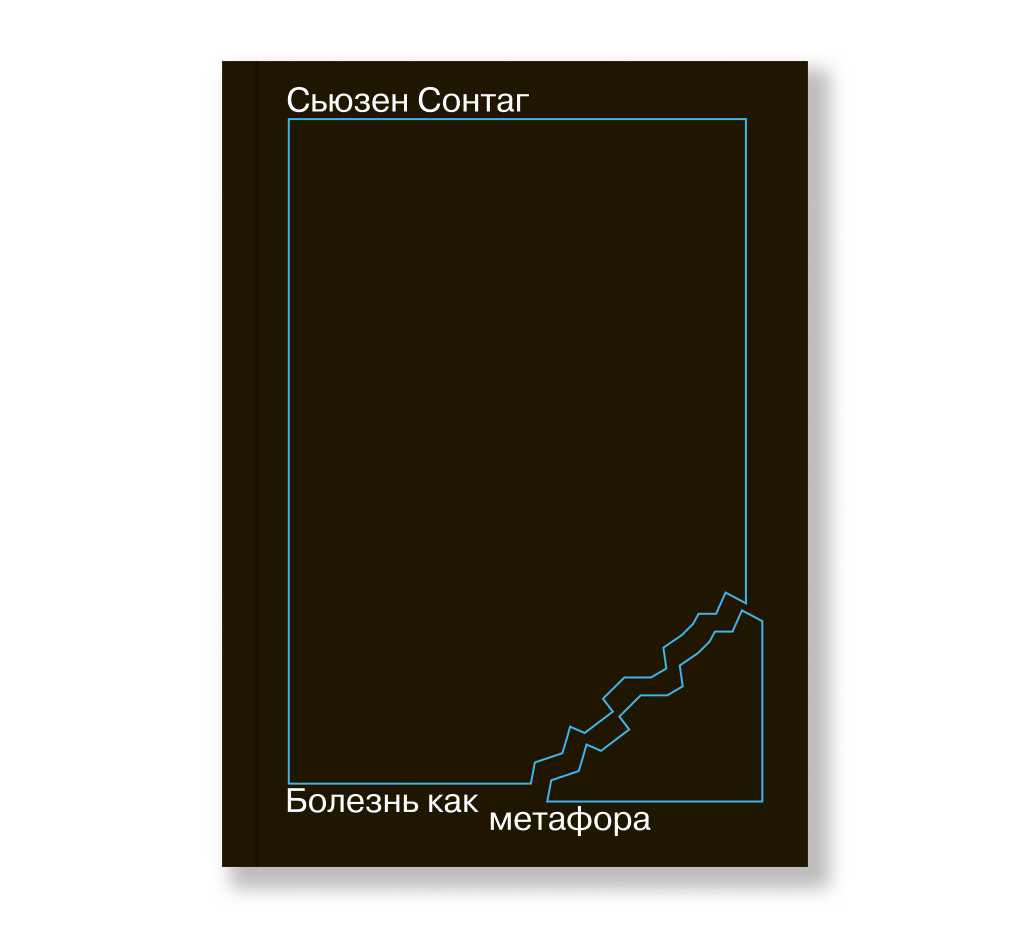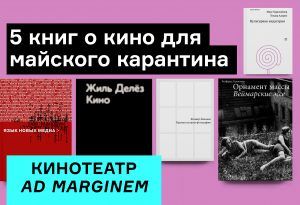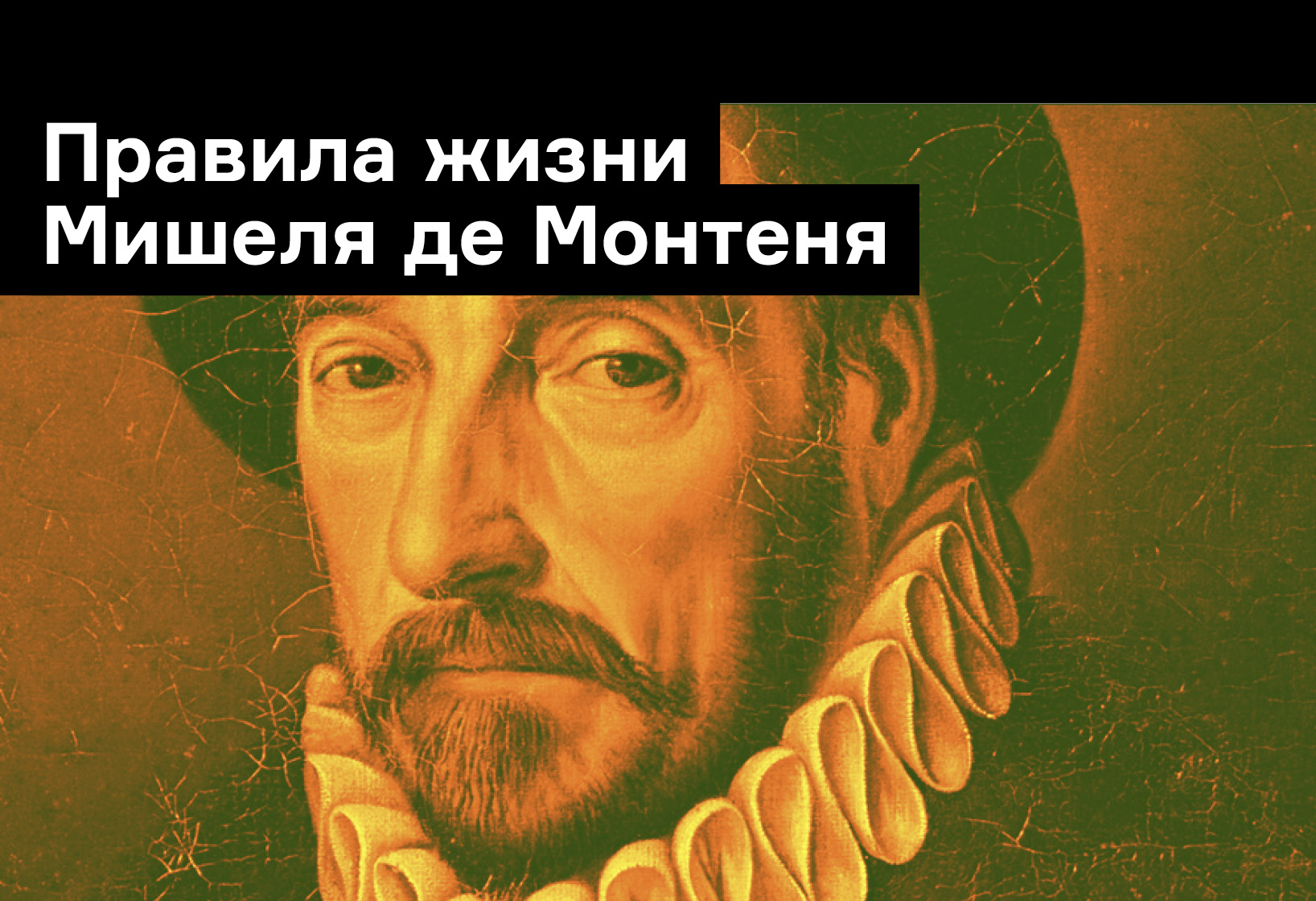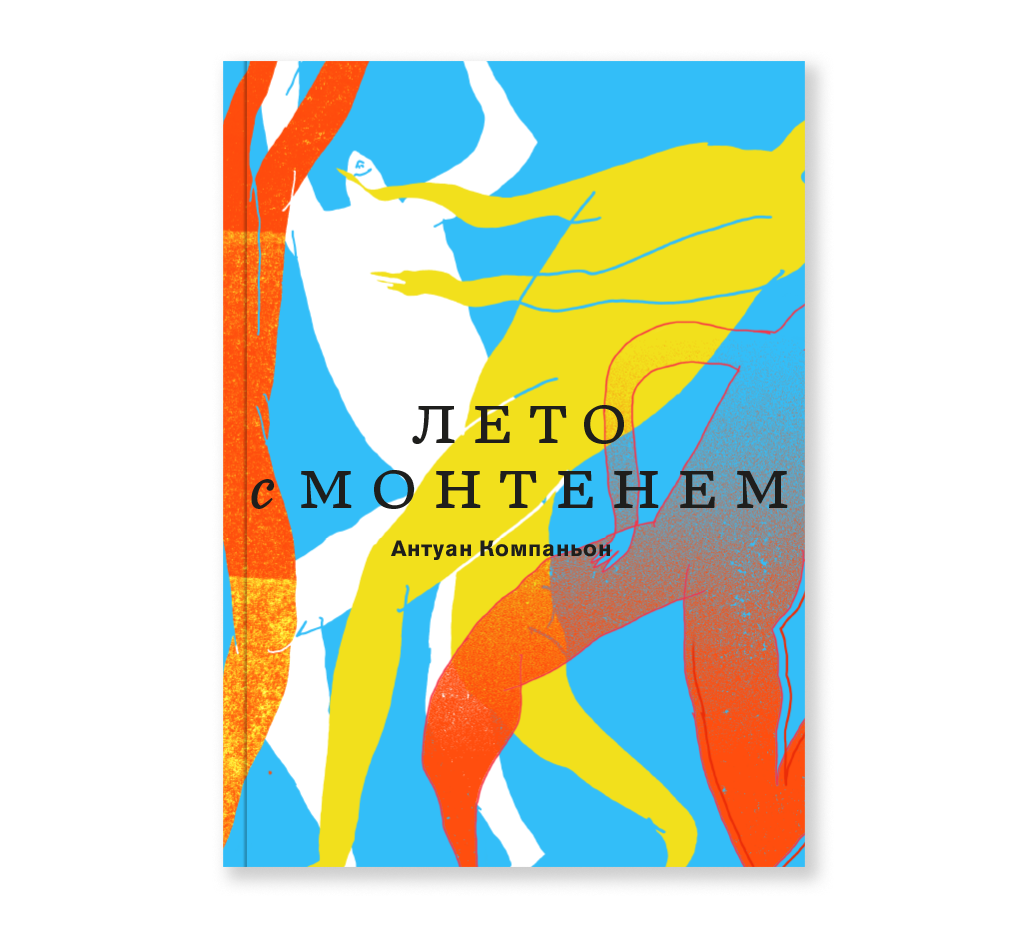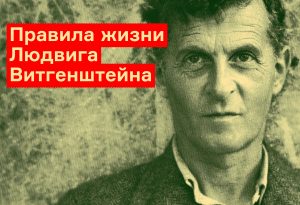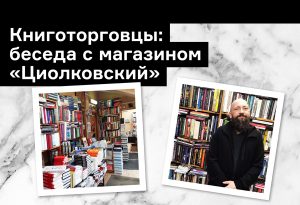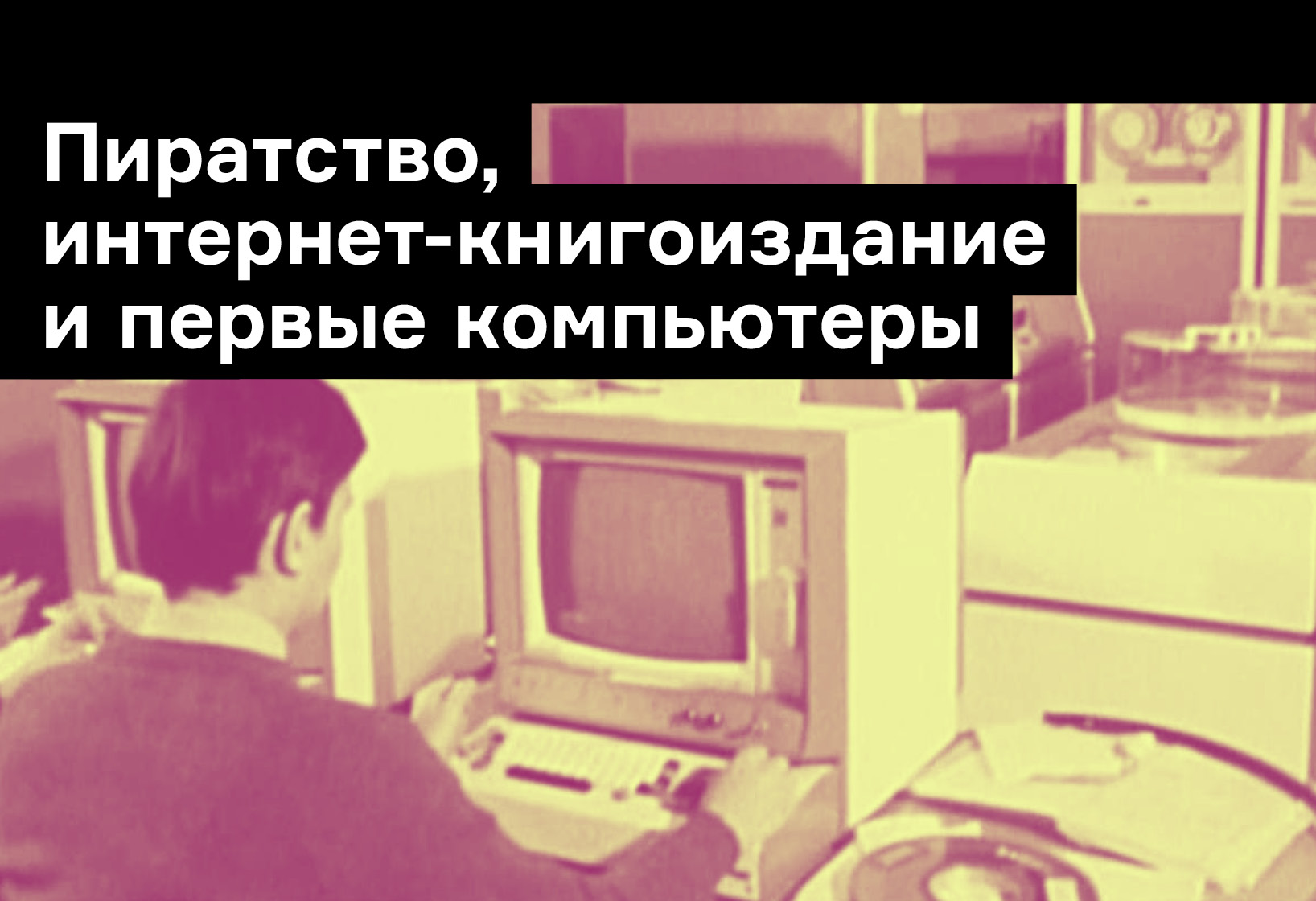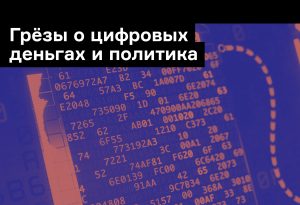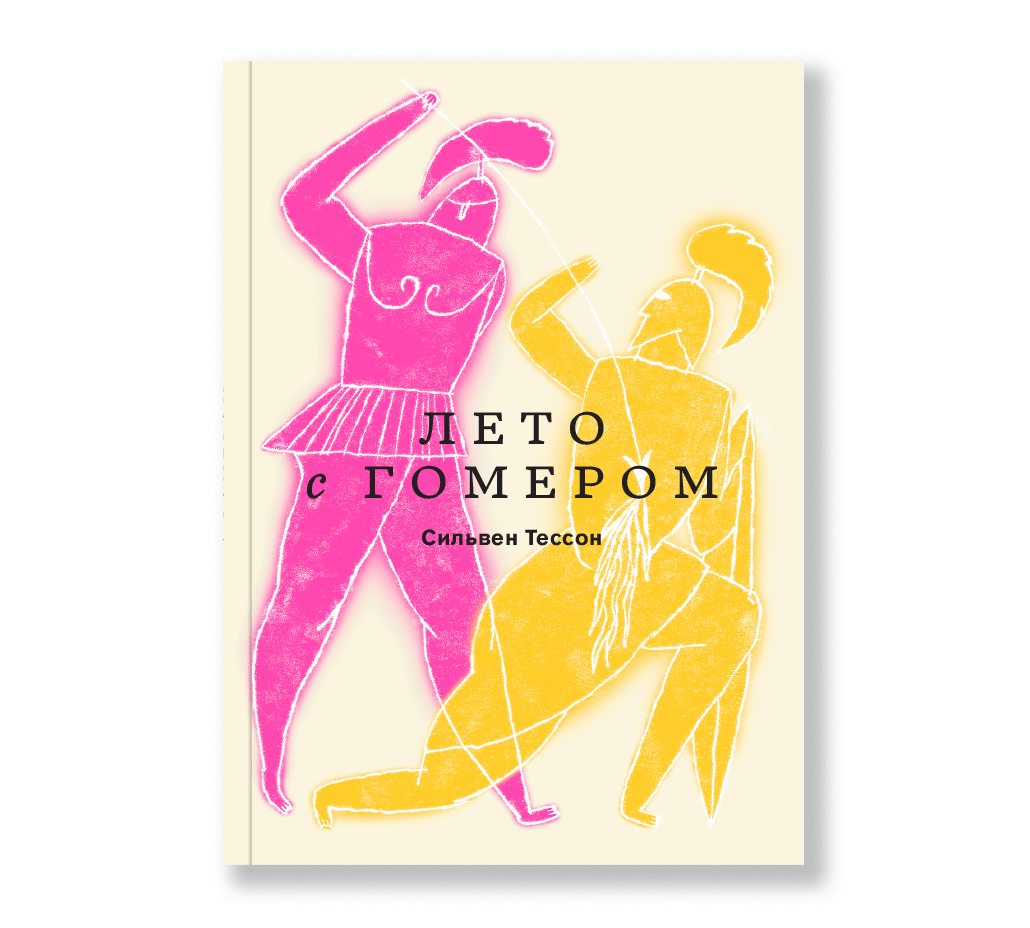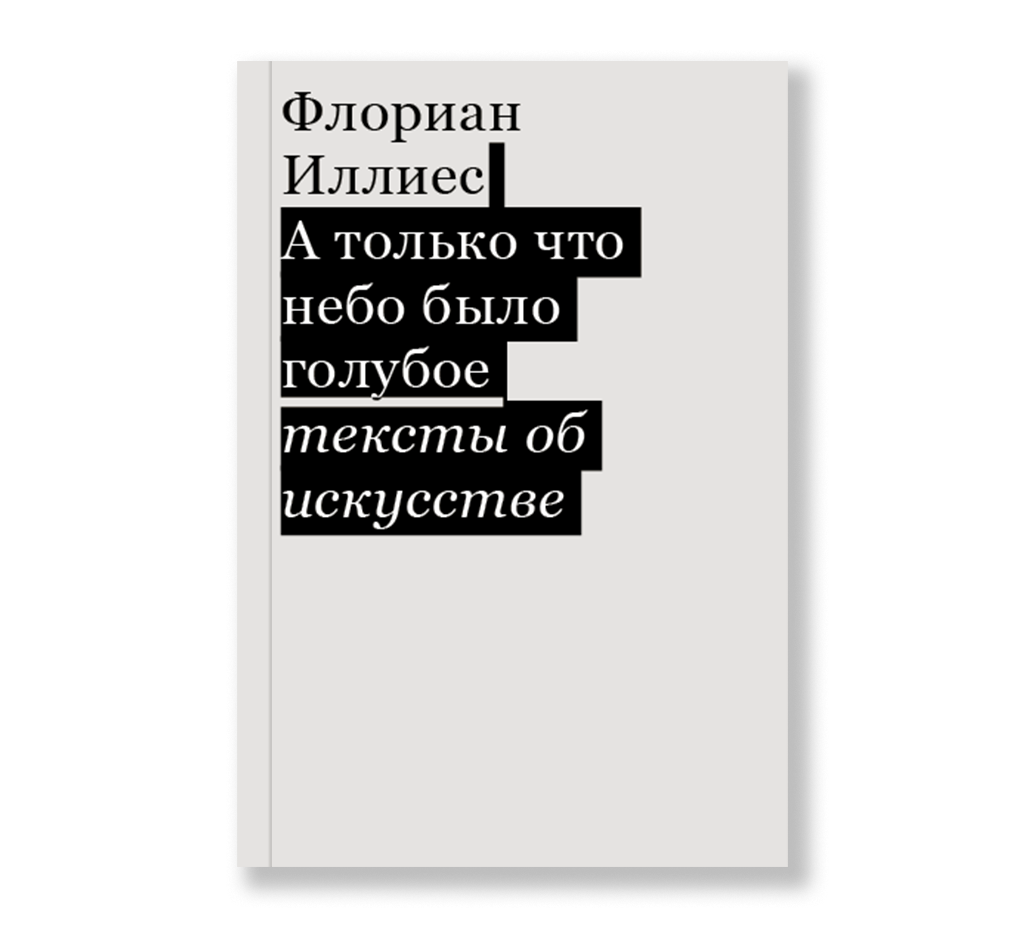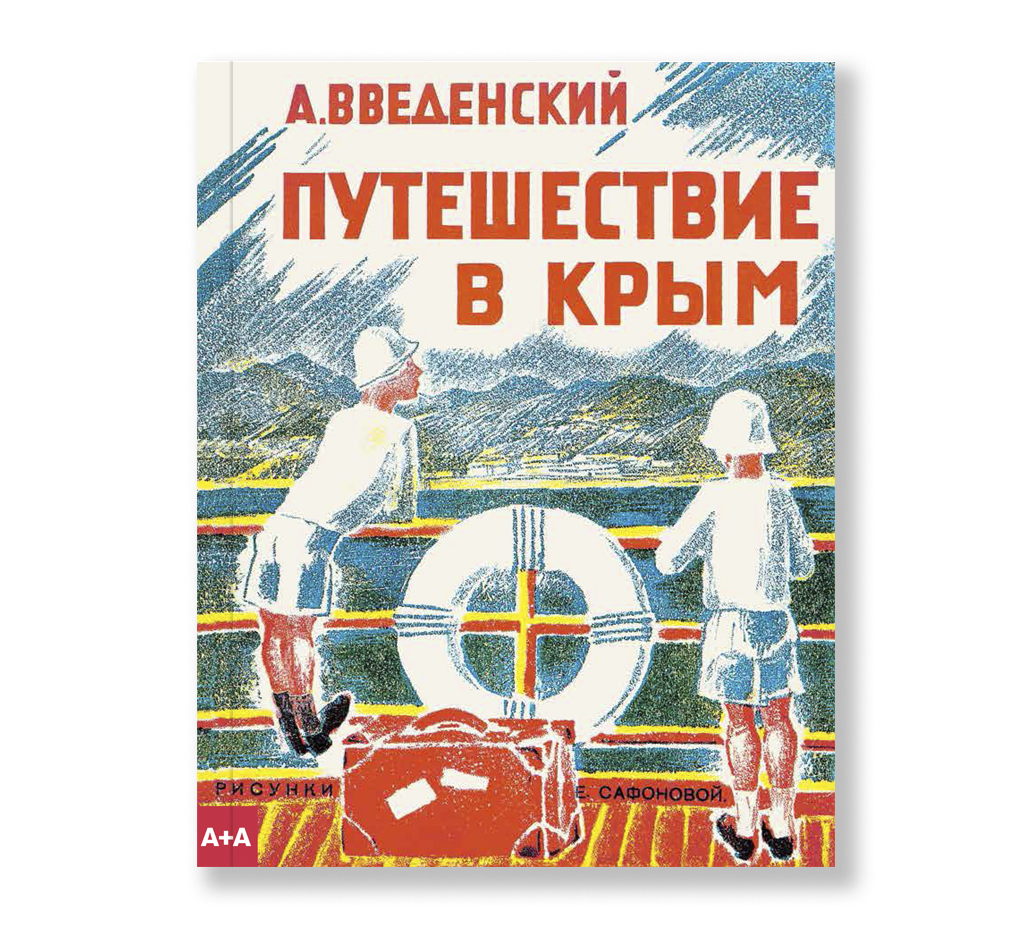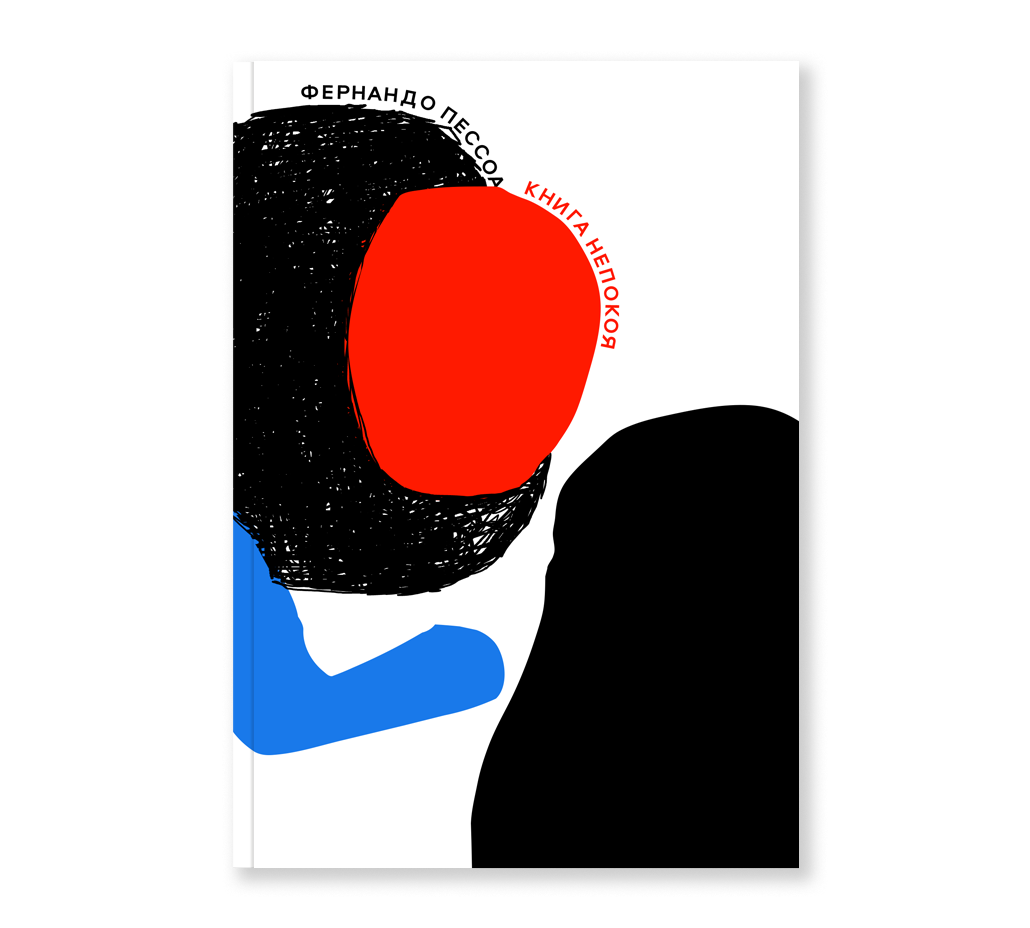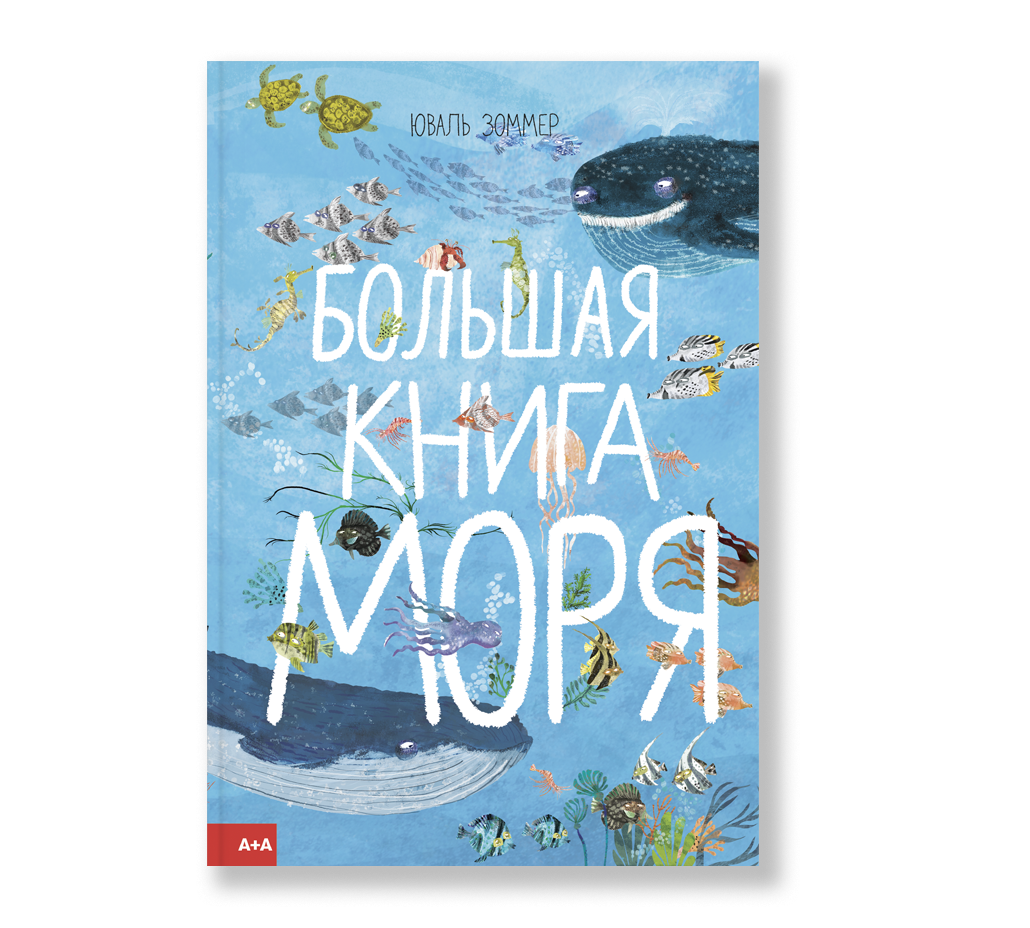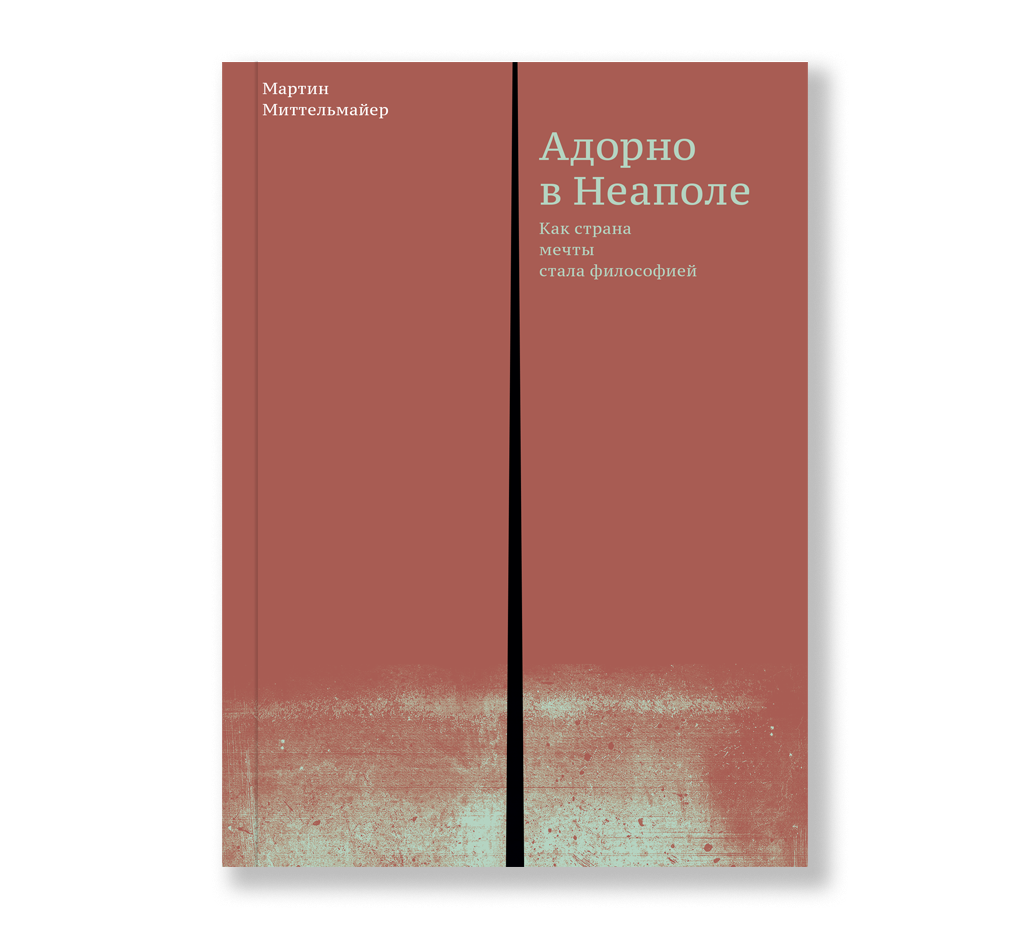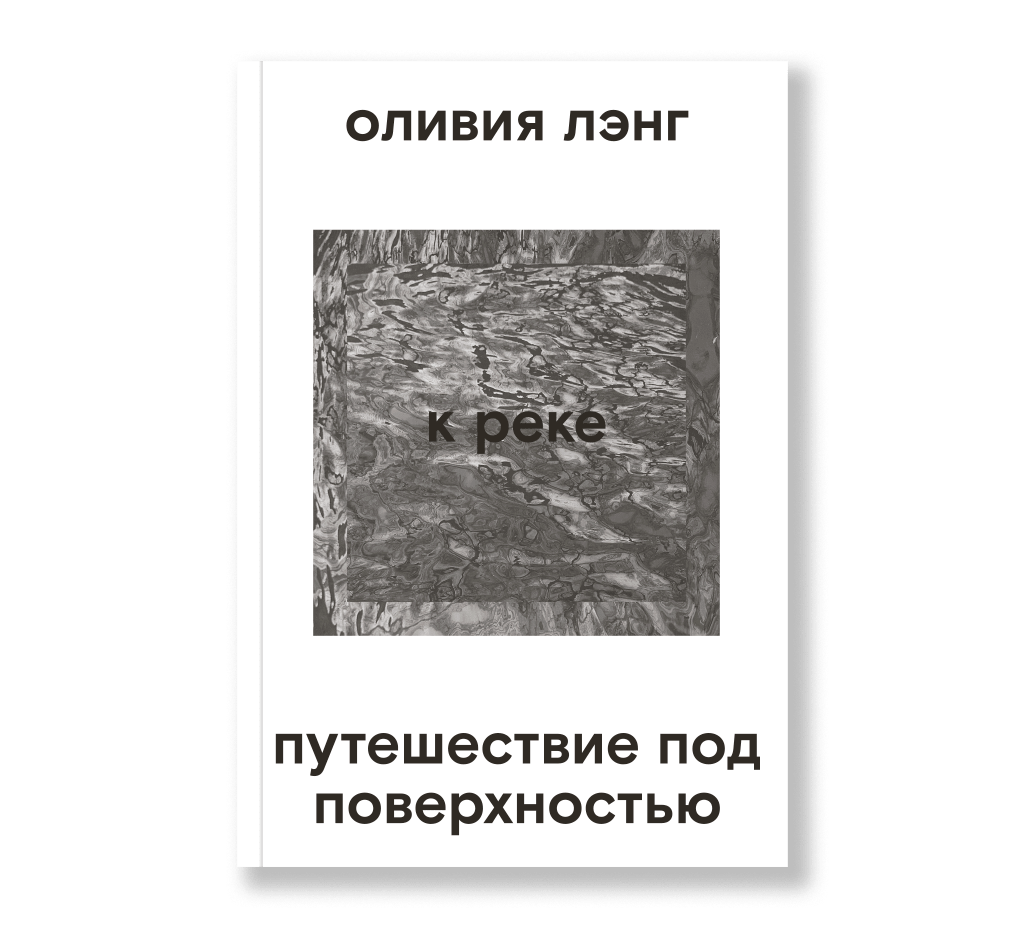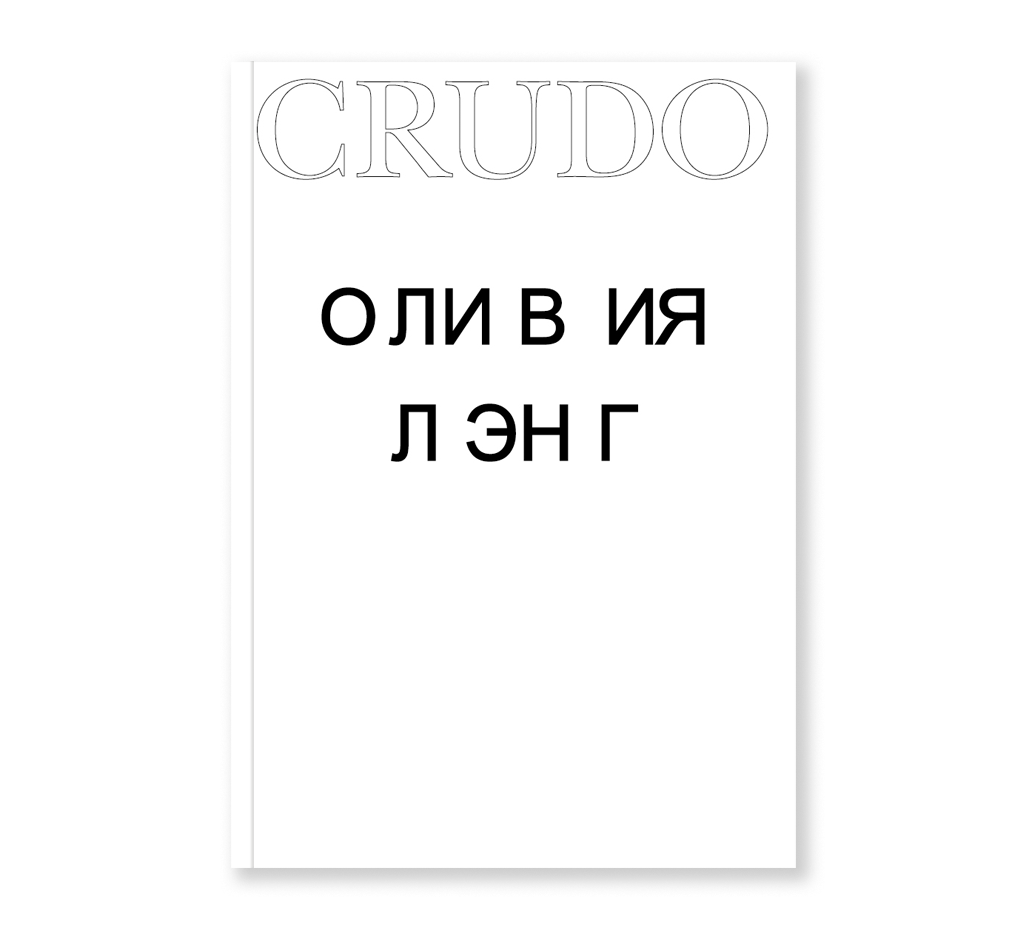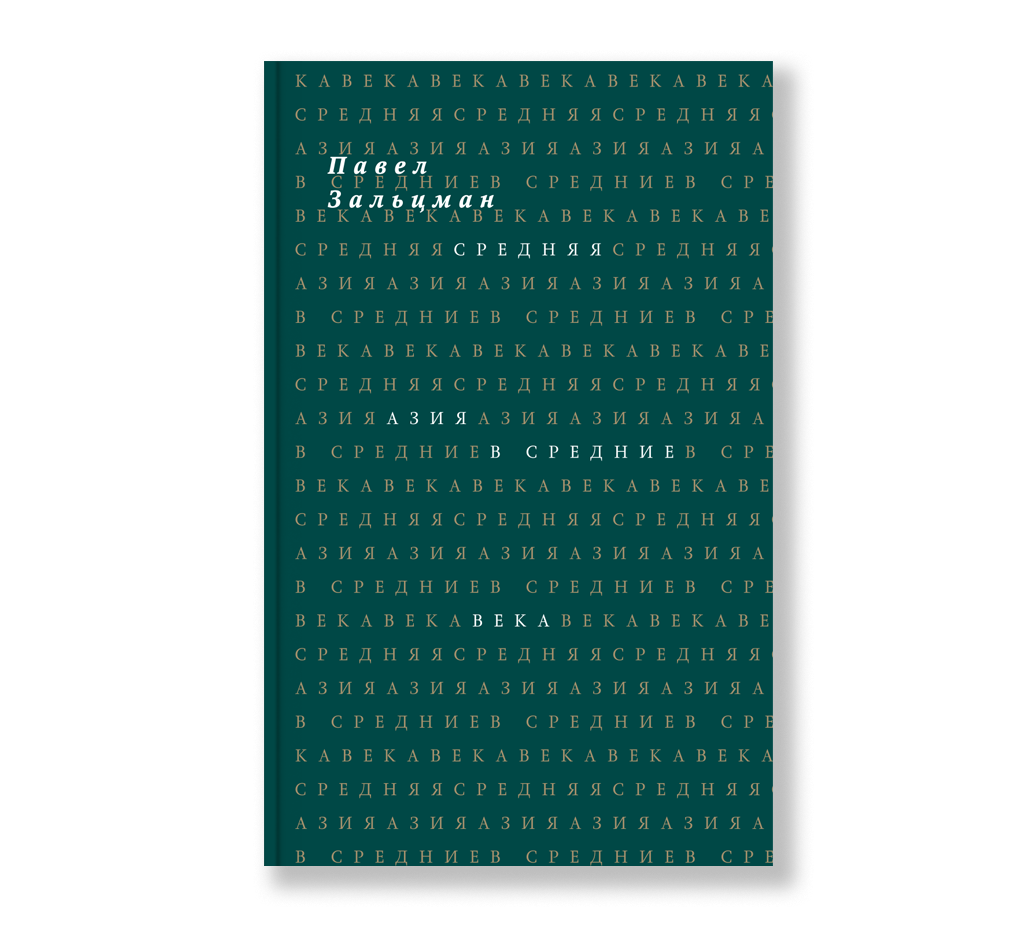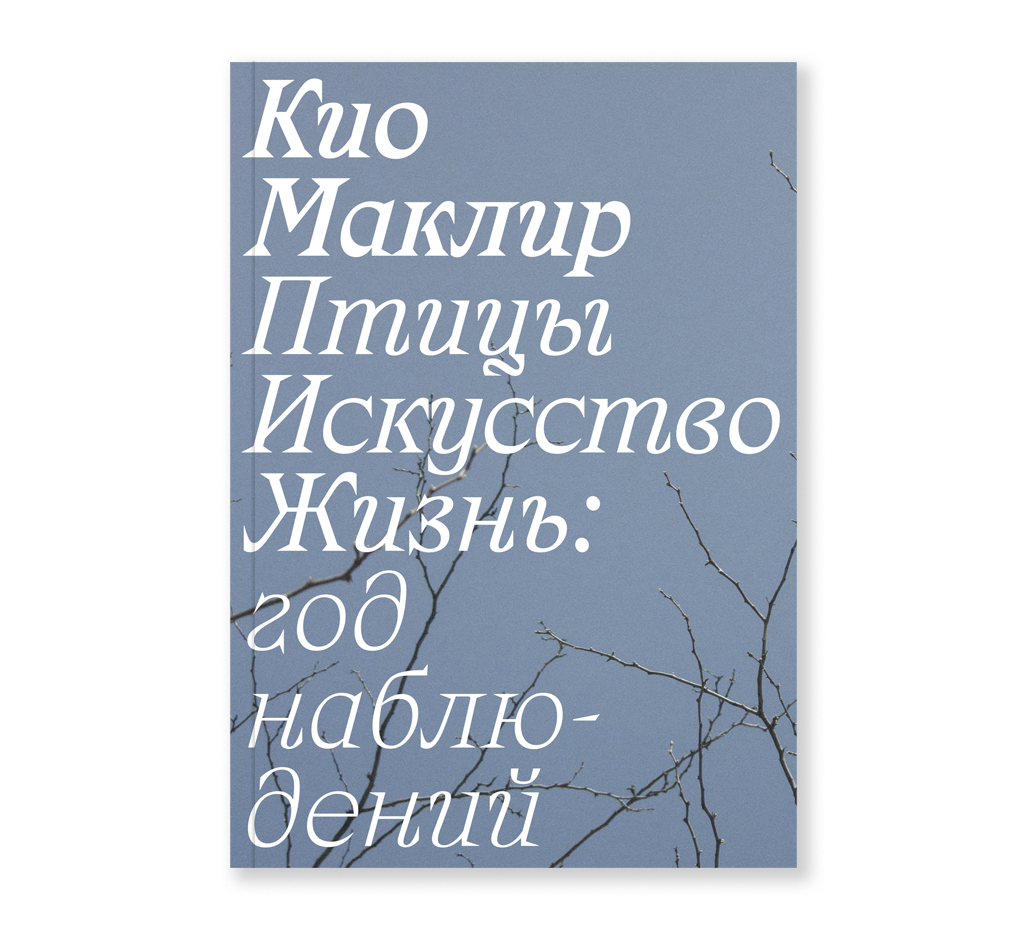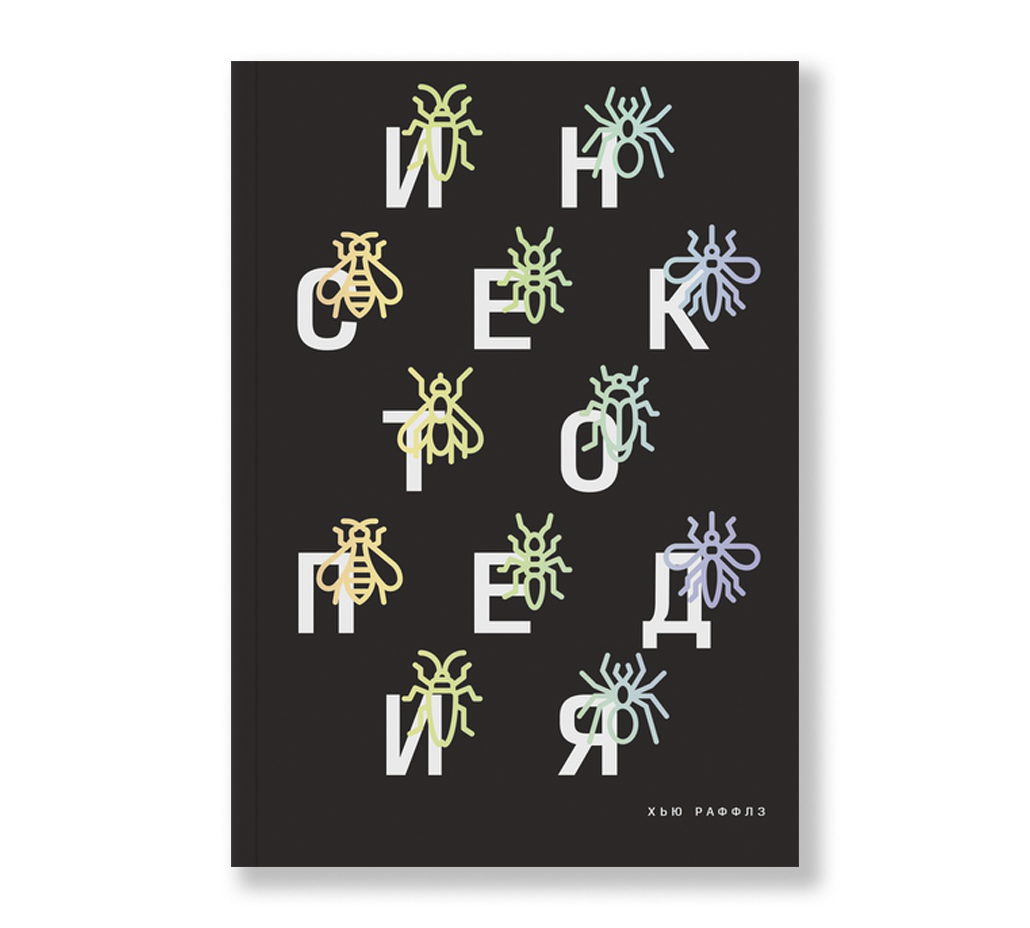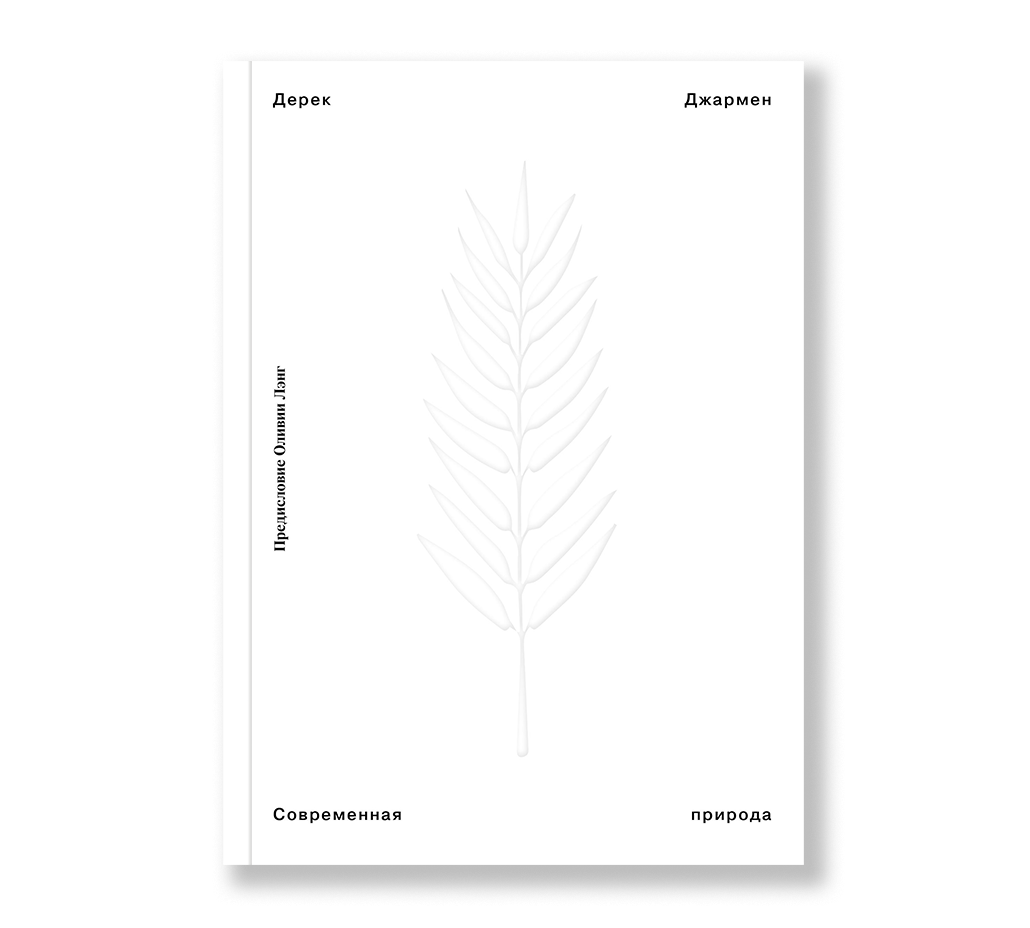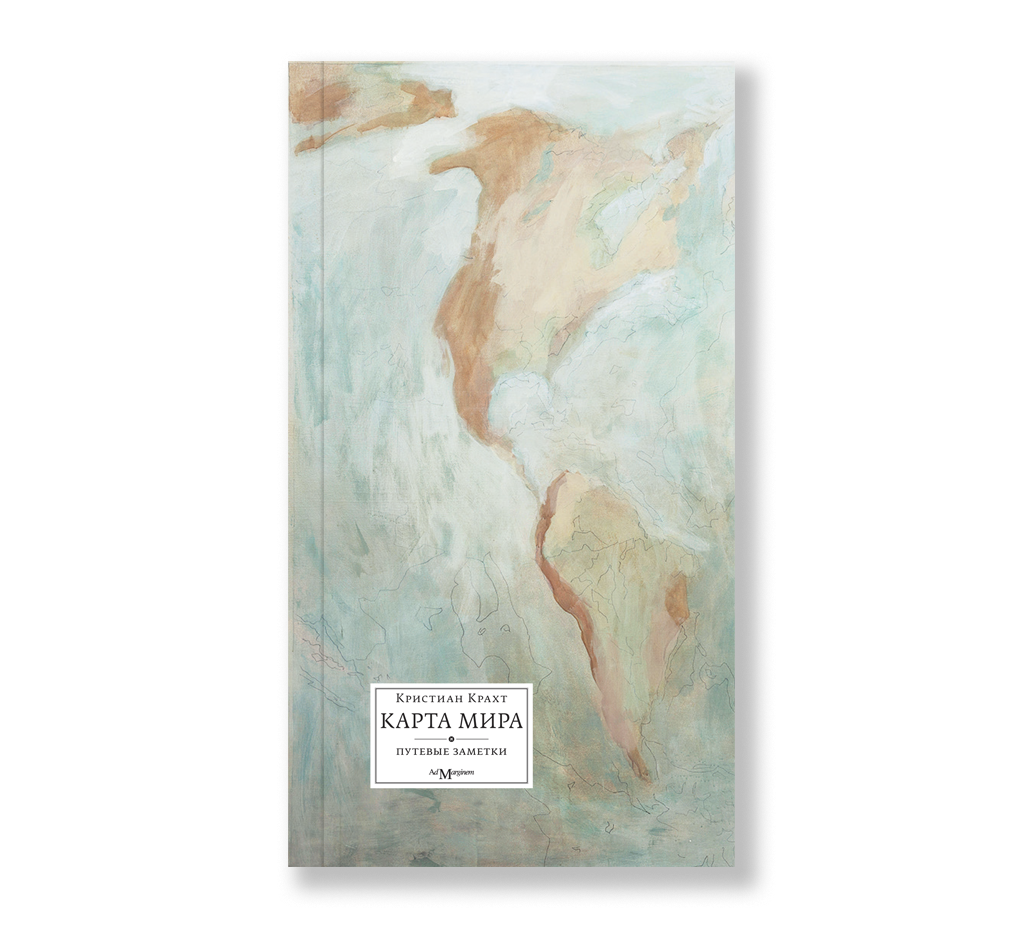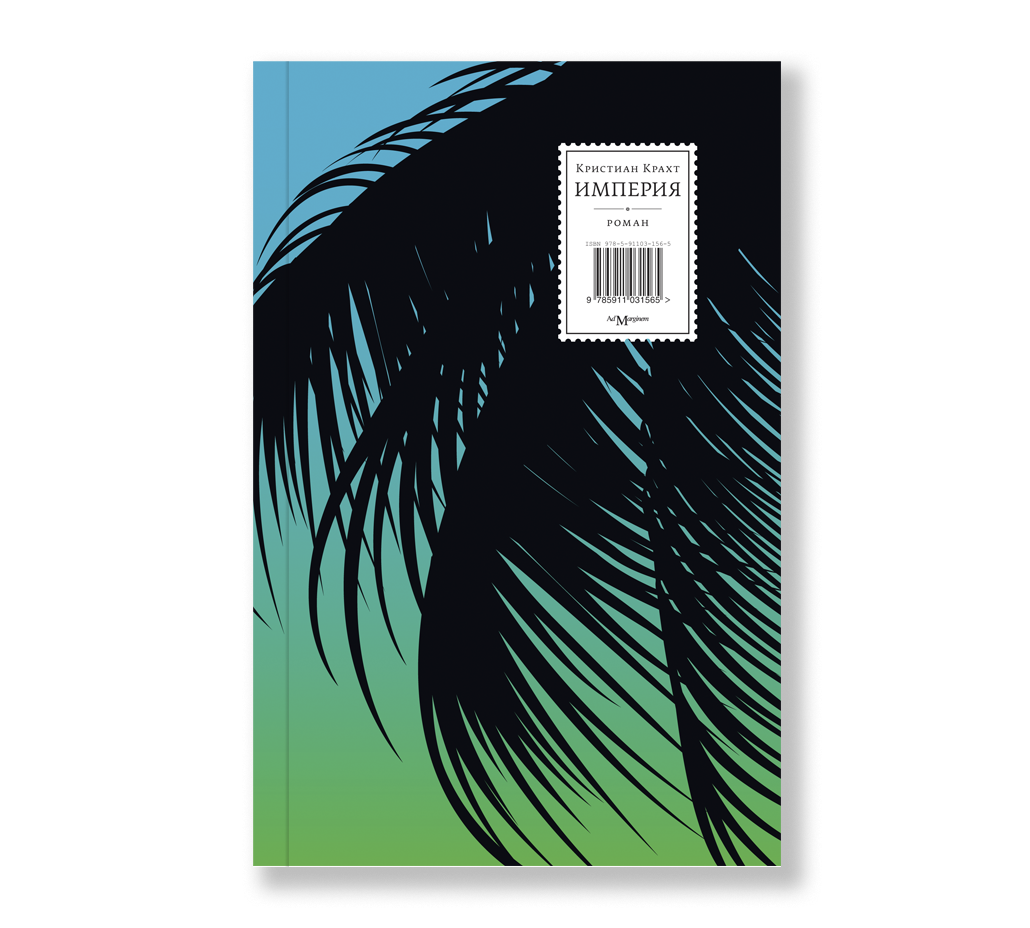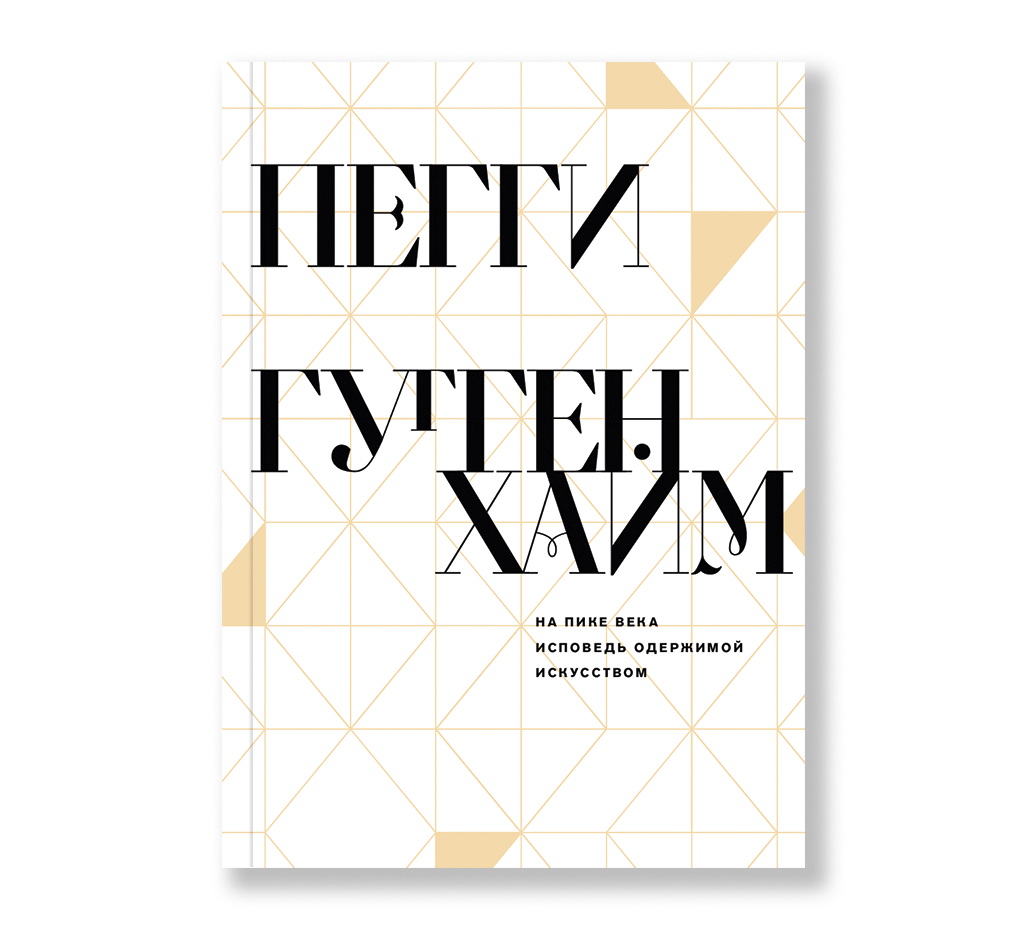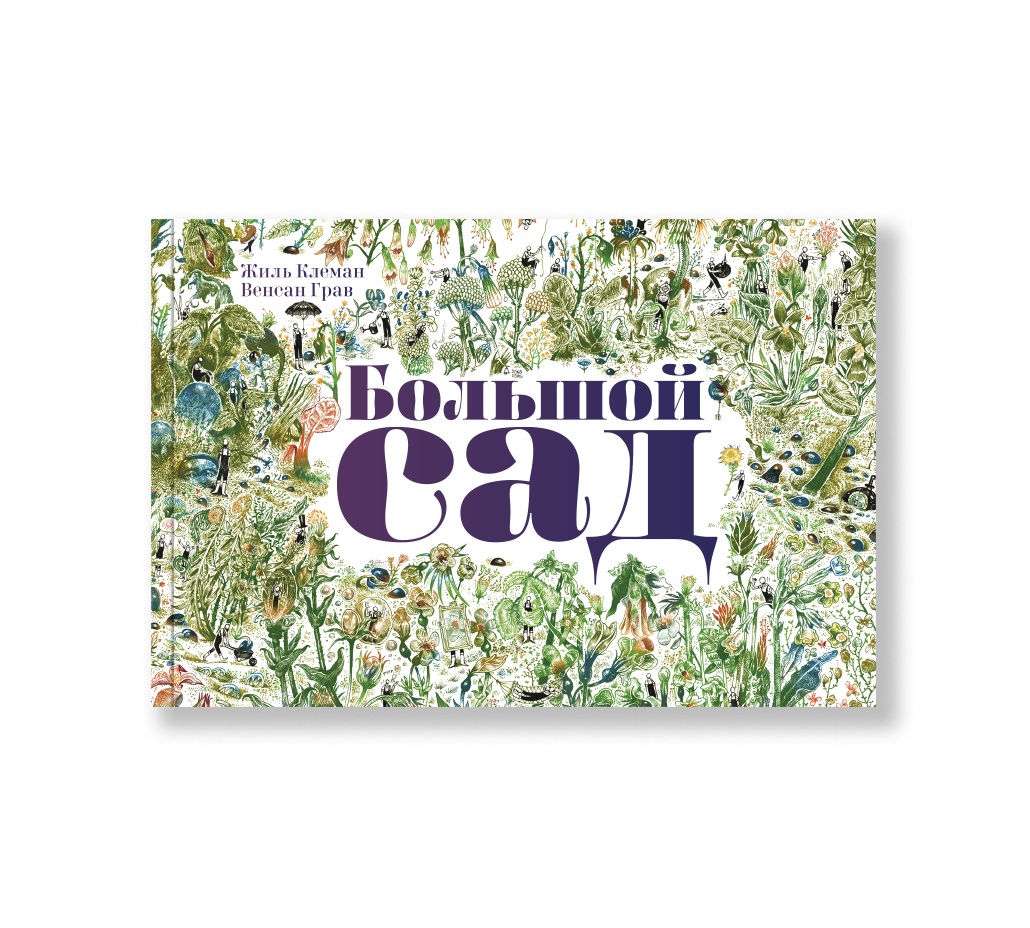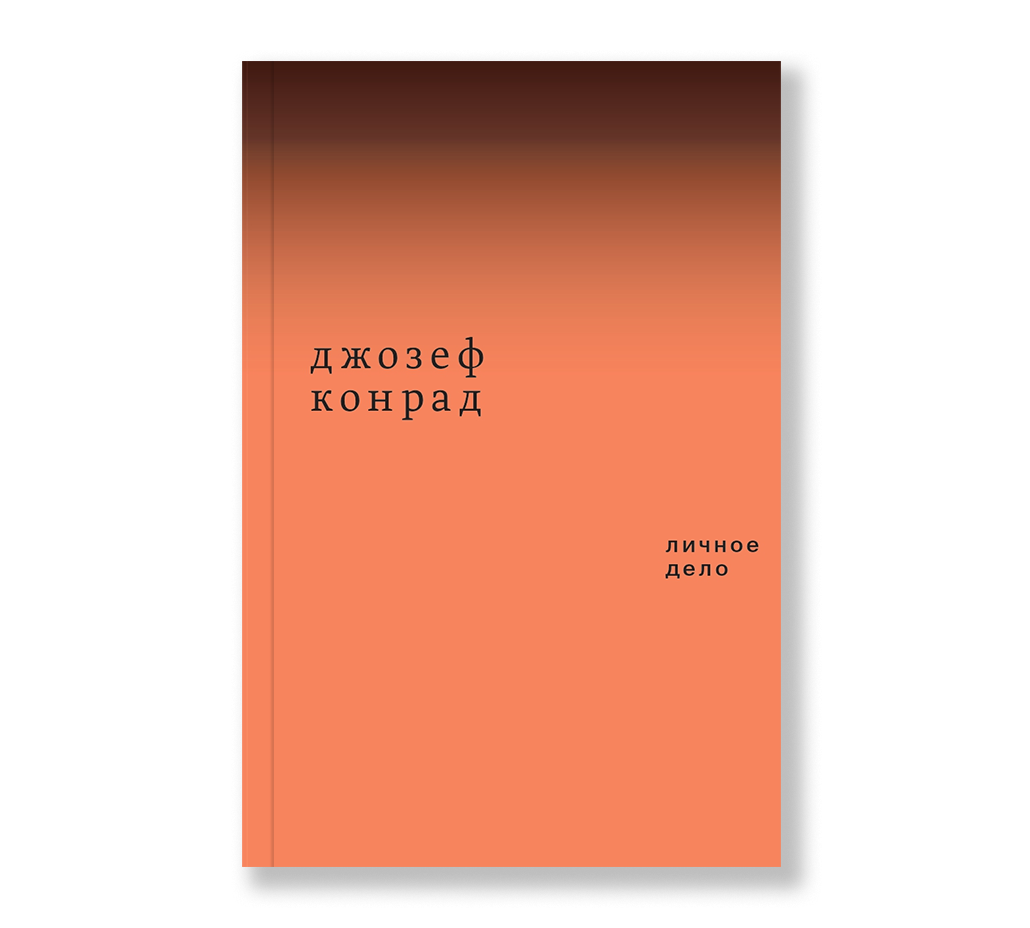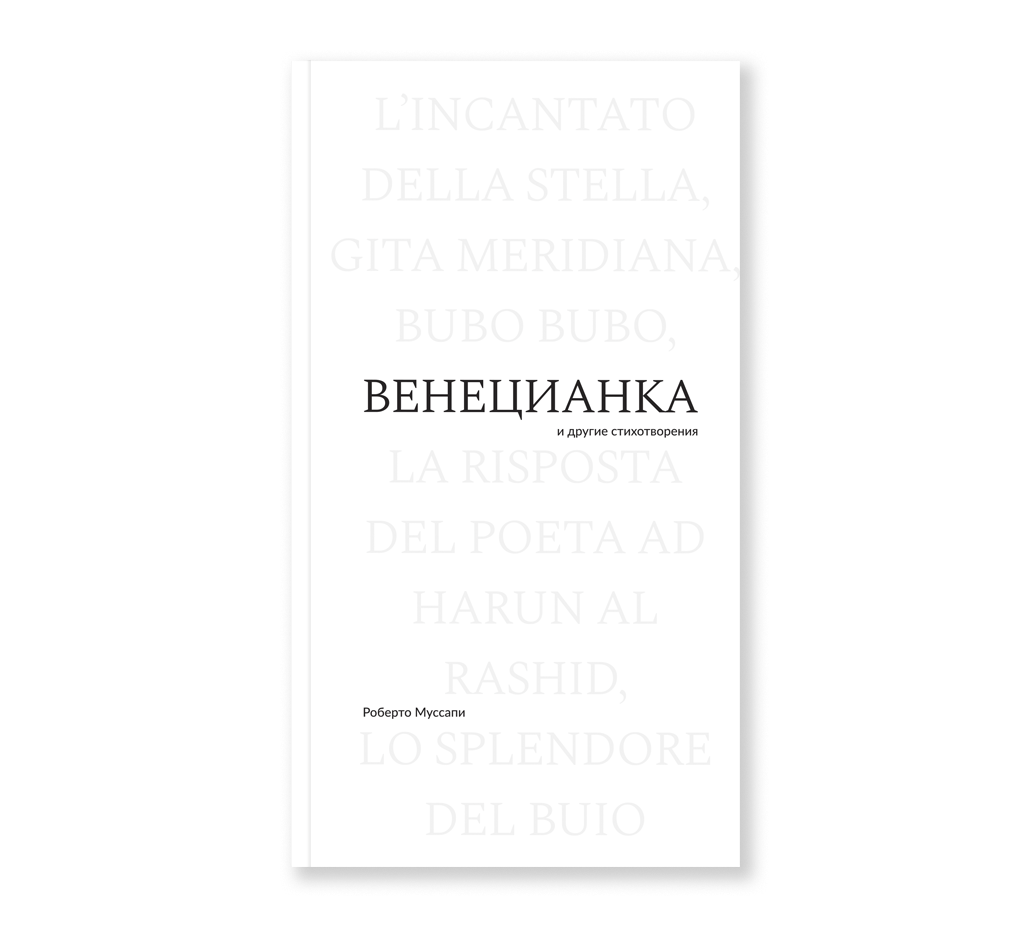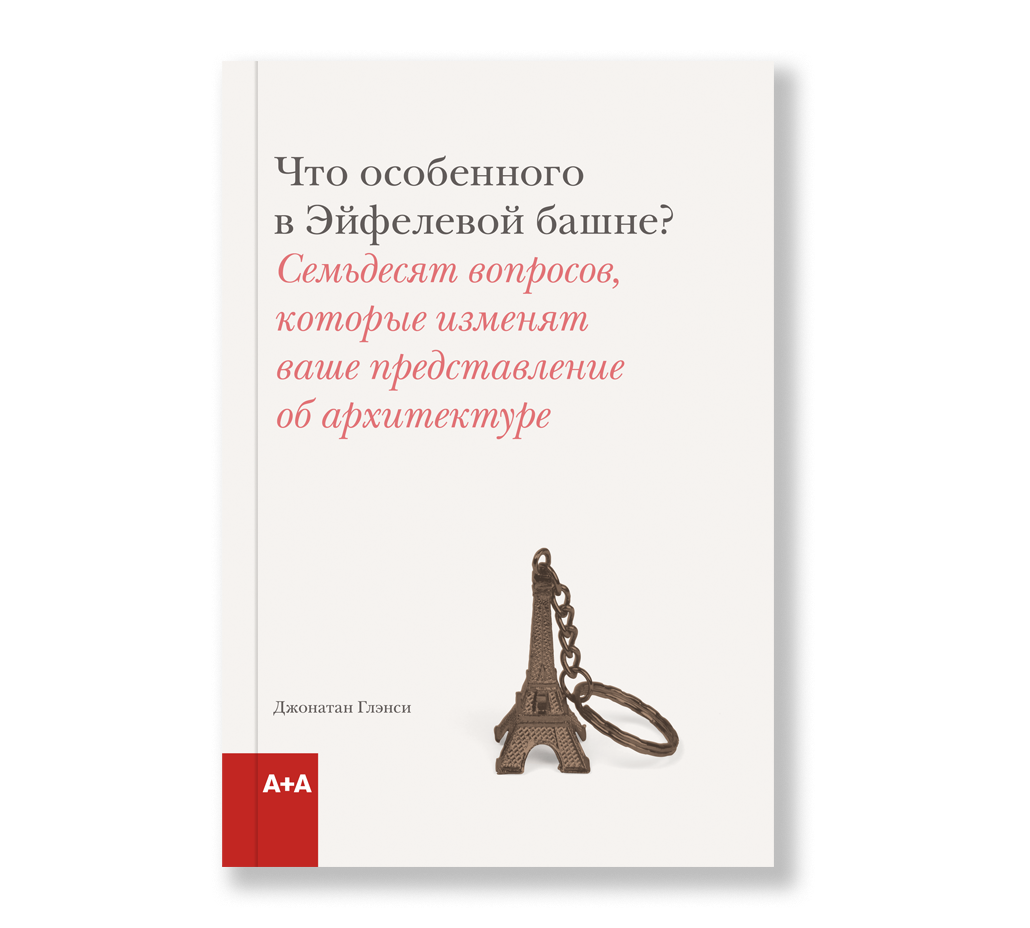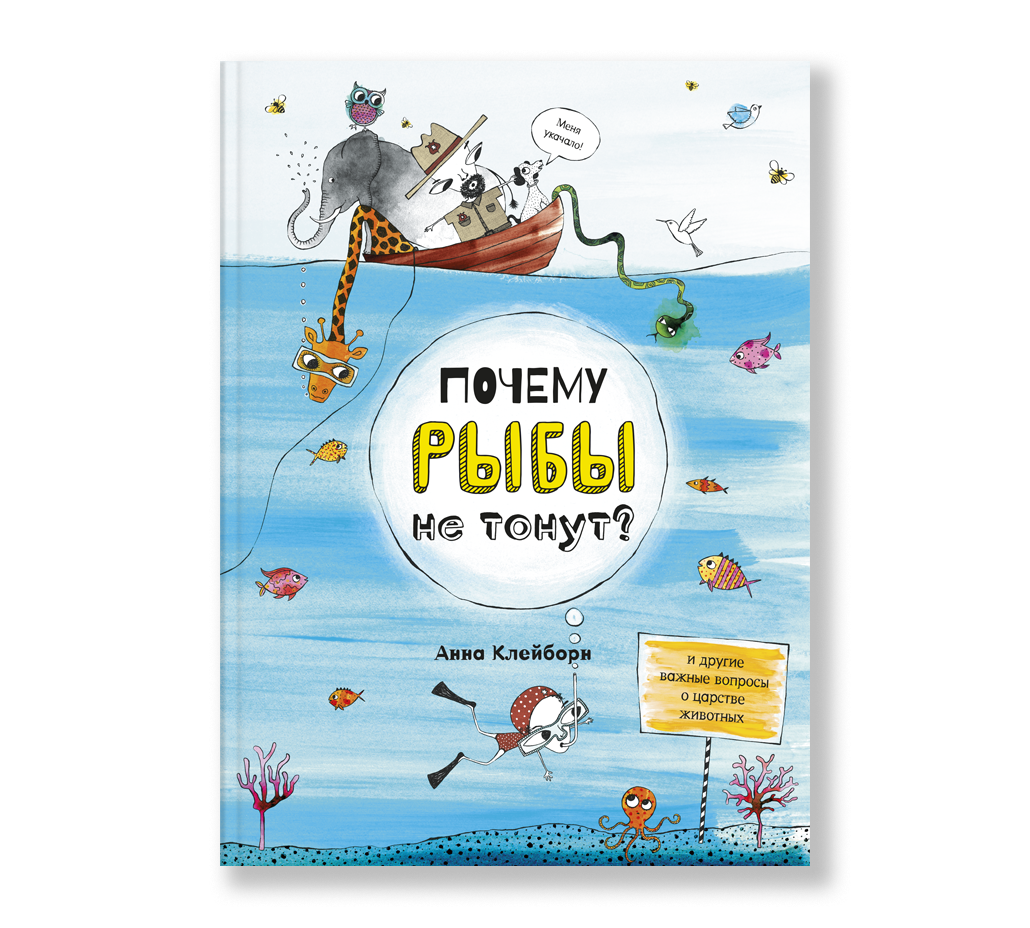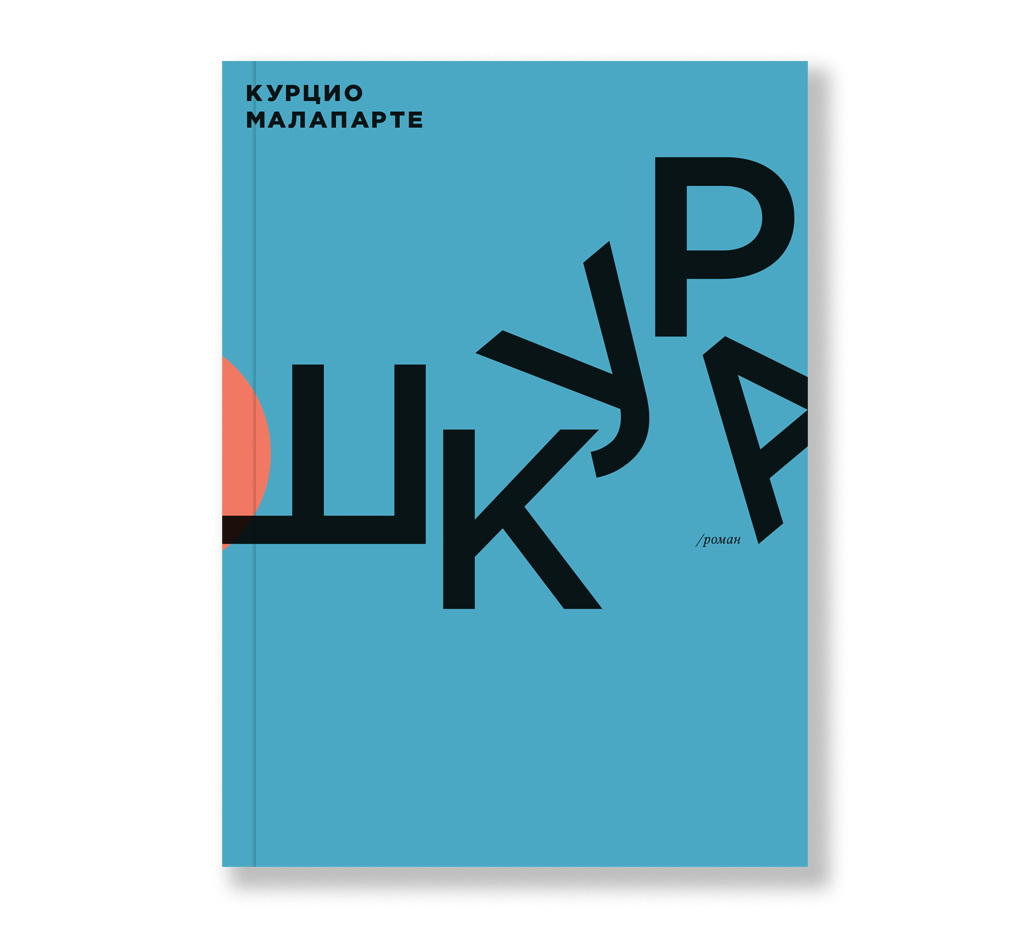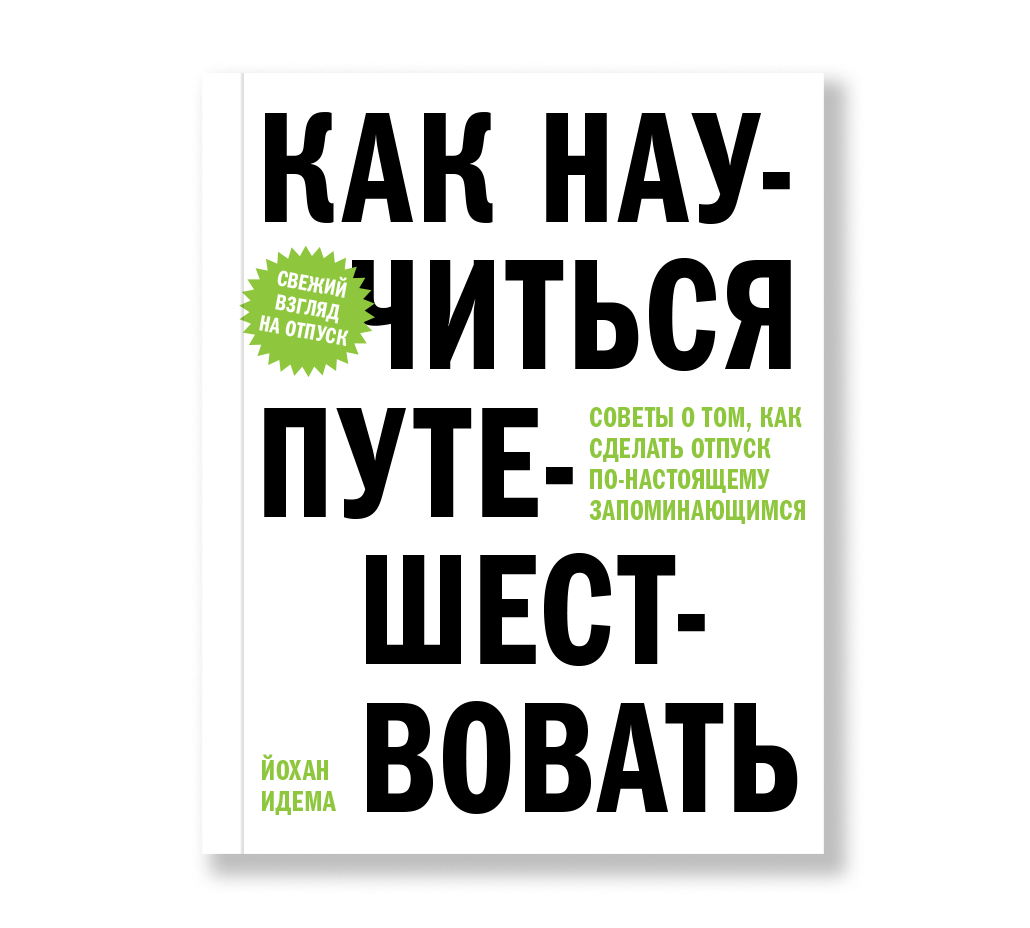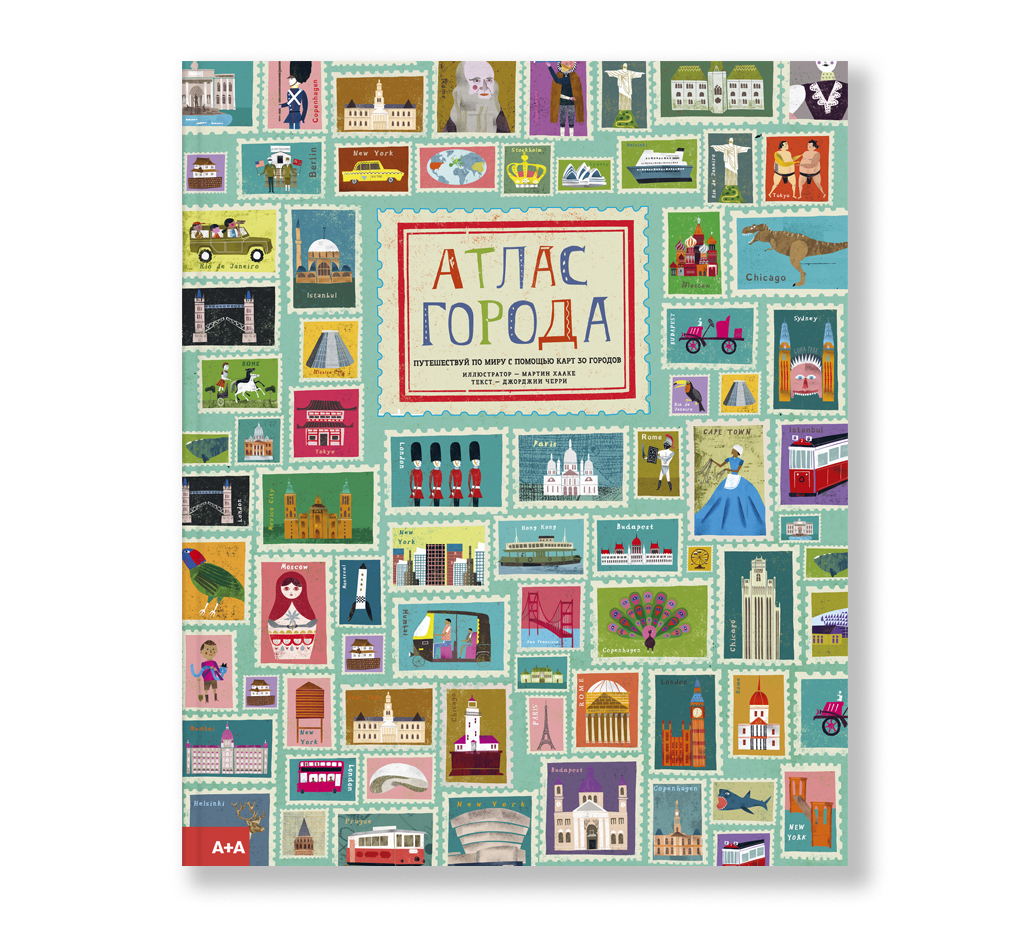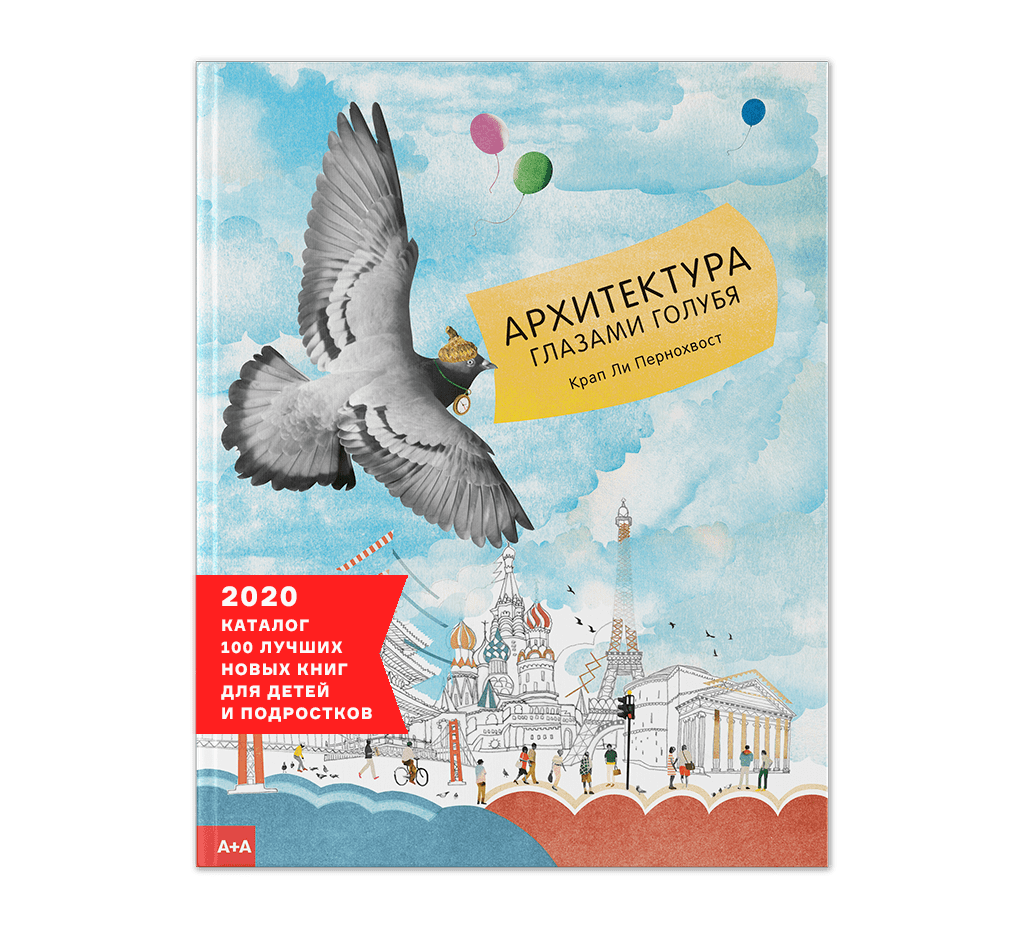Энди Мерифилд — специалист в области урбанизма и социальной теории. Нашим читателям он, скорее всего, знаком по книге «Любитель. Искусство делать то, что любишь», критикующей формализм и конформизм профессионализированной системы. Сейчас в нашем издательстве готовится к выходу другая книга Мерифилда — «Магический марксизм. Субверсивная политика и воображение». А пока предлагаем ознакомиться с переводом статьи под названием «Город после чумы», в которой Мерифилд рассуждает, как различные пандемии на протяжении истории вскрывали социальные проблемы, почему молодежь массово уезжает из города и что с этим делать дальше.
Наши самые прозорливые эксперты-урбанисты в большинстве своем сходятся во мнении, что города, где активней всего бурлит жизнь — это города с наибольшим разнообразием. Разнообразием деятельности и людским разнообразием. Еще Джейн Джекобс подчеркивала взаимосвязь экономического разнообразия и социальной витальности: первое дает силу второму, экономическая активность обеспечивает приток людей, скопление людей, людей самых разных, каждый из которых в свою очередь по-своему помогает экономической активности держаться на плаву.
Французский философ Анри Лефевр продвигал схожий тезис, хотя говорил о чуть ином. Его интересовали не столько экономические предпосылки разнообразия, сколько то, как это разнообразие отражается на динамике продуктивных встреч. Город Лефевра — это место встреч, густонаселенное и разнородное общественное пространство, где собираются люди. Живыми городские пространства становятся благодаря тому, что в них все рядом, благодаря тому что в них концентрируются различные социальные группы и предприятия. Противоположностью, врагами встреч, — и, соответственно, урбанизации, — Лефевр называл сегрегацию и сепарацию.
В течение последних десятилетий разнообразию, за которое ратовала Джекобс, и встречам, которые были оплотом процветающего города Лефевра, пришлось туго. Форма и функции городов развивались в совершенно противоположном направлении. Джекобс подчеркивала, насколько важно, чтобы в городе наряду с высоко- и среднедоходными предприятиями сосуществовали малодоходные и некоммерческие. Вместо этого хищные экономики городов задушили малый бизнес: теперь значение имеет только высокая рентабельность. Многие соседские магазинчики вместе со своими владельцами были вытеснены из дела и из города.
Города стали функционально и финансово стандартизованы, предсказуемы, малодоступны, предсказуемо малодоступны, из них высосали горячую кровь, их животворящую силу, о которой говорила Джекобс.
Между тем, мир атаковал COVID-19 и перевернул привычную городскую жизнь с ног на голову, он прикончил ее, выкрутив на полную уже существующие патологии. Случилось то самое разделение, которой боялся Лефевр: экономическое дистанцирование начало разъедать ткань города. Социальное дистанцирование подрывает городскую сплоченность, разрушает город как место реальных встреч. Неожиданно новой городской реальностью стали не-встречи; связи теперь не уплотняются, а истончаются, городская жизнь рассеивается, растворяется, люди боятся и избегают друг друга.
По мере того, как разрасталась пандемия, богачи, которые прежде как завоеватели захватывали города и меняли их под свои вульгарные вкусы, немедленно из города бежали. По всему миру происходило одно и тоже: исход богачей из города. Они пережидали бурю на морских побережьях, в горах, в загородных поместьях — где угодно, только в безлюдье. С первого марта по первое мая, за два первых месяца локдауна, из города сбежали 420 тысяч самых состоятельных ньюйоркцев. Верхний Ист-Сайд Манхэттена опустел на 40%. Эти горожане перебрались в свои вторые дома на севере штата, на Лонг-Айленде, в Коннектикуте, или во Флориде.
«Пока-пока, бедняки», — писала газета Daily Mail 19 марта 2020 года, уловив настроение лондонской избирательной миграции.
В Лондоне самые обеспеченные точно так же горожане устремились на вольный деревенский воздух, в дома с арендной ставкой до 50 тысяч фунтов в месяц. Британские риэлторы с тех пор завалены запросами на загородные особняки и обособленные усадьбы.
Когда в Европе бушевала чума, бег богачей наперегонки с распространением инфекции был популярной и проверенной тактикой. Даниэль Дефо в «Дневнике чумного года» (1722) описывает пугающие сцены «чумы бедняков» 1665 года, — бубонной чумы, охватившей Лондон, причем одни приходы больше других. Прославленный автор «Робинзона Крузо» ведет рассказ о Великой Чуме от лица своего альтер-эго, независимого торговца Г.Ф., который мучается сомнениями, остаться ли ему в Лондоне или бежать, как это сделали люди его социального класса. В конце концов Г.Ф., в отличие от прочих, решает остаться, и даже совершает вылазки в город, гуляет по улицам и становится свидетелем того, как выкашивает людей чудовищный недуг, природу которого мало кто понимал.
В 1665 году Дефо был только пятилетним мальчишкой, поэтому «Дневник» — это художественный роман, вымышленное произведение на основе исторических фактов. Дефо, будучи хорошим журналистом, тщательно исследовал тему, он читал книги, памфлеты, научные работы, и поэтому Г.Ф. насыщает свой рассказ такими выразительными, точными и правдивыми подробностями, какие мог знать только подлинный свидетель событий: опустевшие улицы и приходы, заколоченные лавки, переполненные кладбища, лихорадка и рвота, боль и опухоли, уничтожение целых семей, смерть 97 тысяч лондонцев — и все потому, что болезнь, в распространении которой обвиняли крыс, на самом деле переносили блохи.
Г.Ф. — участливый, хоть и эксцентричный, фланер, он одновременно зачарован и напуган мором. Г.Ф. сопереживает тем несчастным согражданам, по кому болезнь ударила особенно жестоко, среди которых число жертв несоизмеримо больше. Даже бунтарские настроения бедняков находят у него понимание. В какой-то момент он начинает делить волнующиеся толпы на «хорошие» и «дурные», делает различие между теми, у кого есть настоящая причина для неповиновения, и теми, кто повелся на лживую пропаганду.
Все это звучит поразительно современно, как отражение уже нашего ковидного кризиса, при котором растущее экономическое неравенство разрывает на части общество, и так уже разобщенное из-за идеологических баталий между масочниками и правыми анти-масочниками, движением BLM и белыми супрематистами.
Сепарация и сегрегация действуют рука об руку. Наша общественная жизнь докатилась до состояния окопной гражданской войны, еще более отчаянной, чем в век Дефо.
Общественное пространство стало опасно, оно несет угрозу общественному здоровью, и не только из-за распространения вируса, но и потому что оно переполнено насилием. «Не могу дышать» — предсмертные, навсегда оставшиеся в истории, слова чернокожего Джорджа Флойда, задохнувшегося на улице Миннеаполиса под коленом белого полицейского. «Не стреляйте!» — еще одни последние слова, крик Майкла Брауна в Фергусоне, штат Миссури перед тем, как полицейские открыли огонь. С этого крика отсчитывают лавину совершенных полицейскими убийств невооруженных черных мужчин (и женщин). Это тенденция к увеличению насилия вызывает вопрос: что осталось от нашего общественного пространства? Существует ли оно ради благоденствия всех граждан, ради общей безопасности? Или ради индивидуальной свободы, права личности свободно себя выражать?
(Перевод эссе Теджу Коула о смертях, зафиксированных на камеру — по ссылке)
Правые либертарианцы утверждают, что принудительное ношение масок в общественных местах — это посягательство на личную свободу. В их искаженной логике это еще одно доказательство, что защищать ничем не ограниченные собственные интересы — важнее всего, что жадное стремление к максимизации выгоды и отсутствие регулирования потребительского выбора ведут к более здоровому, более процветающему обществу. Это не так. Это ложь, прикрытие безответственного эгоизма, который не беспокоится, приносит ли он вред — экономический или иной другой — окружающим или нет. Маска — это не только средство индивидуальной защиты, это еще и забота о чужом здоровье. Необходимо установить границы приемлемого поведения каждого отдельного человека на публике.
Как никогда прежде нам нужен общественный договор, демократическое соглашение, при котором каждый признает равно свои обязанности и права, признает, что наше внутреннее «я» создается посредством общественной идентичности.
Это чувствительный вопрос. Но это проблема, которую поднял еще Жан-Жак Руссо два с половиной века назад, спустя сорок лет с момента публикации «Дневника» Дефо, и то, как он ее сформулировал, хорошо объясняет, чего нам до сих пор не хватает: «[Нужно] найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде»[1]. «Я увидел, что все коренным образом связано с политикой» — писал Руссо — «и, как бы ни старались это изменить, каждый народ будет только таким, каким его заставляет быть природа его государственного устройства». «А великий вопрос о наилучшем государственном устройстве, какое только возможно», — думал он — «казалось мне, сводится к следующему: какова природа государственного устройства, способного создать народ самый добродетельный, самый просвещенный, самый мудрый, — словом, самый лучший, понимая это в широком смысле»[2].
В наши дни люди далеки от добродетели, просвещенности и мудрости. Президенты и премьер-министры врут своим избирателям, запугивают их и пичкают фальшивой информацией, разжигают ненависть и сеют смуту, они делают из людей дураков. Из-за них мы разучились отличать правду от лжи, здравые мысли от вздора медиа и соцсетей. Все это уже порой называют подрывом нашего «когнитивного иммунитета», разрушением защитной умственной системы, уничтожением способности противостоять патологичным идеям (подобно тому, как иммунная система может противостоять патологичным процессам). Мы получили по заслугам: антиобщественный договор, модель государства, которое одурачивает свое население, уверяя людей, что они свободны, что они отстаивают свою индивидуальную независимость, тогда как на самом деле их держат в кабале.
Каждая из прошлых пандемий — Афинская чума в Древней Греции и Юстинианова чума в Римской империи, Черная смерть в Средневековье, вспышки бубонной чумы в Европе вплоть до восемнадцатого века, эпидемии тифа и холеры в девятнадцатом веке, испанка 1918 года, и так чередой до ковида — вскрыла в свое время назревавшие в обществе кризисы.
Эти эпидемии привели к ужасным трагедиям, но зачастую они были последствиями кризисов, а не их первопричиной, это был симптом уже зараженной культуры, уже зародившейся внутри болезни, которая вот-вот разойдется на полную. Ковид не сильно от них отличен: он продемонстрировал структурные изъяны нашей экономики и политики, показал, насколько разрушительны последствия вторжения человека в природу, и насколько теперь стремительней природно-очаговые заболевания (к которым относится ковид) передаются от животного к человеку.
Когда COVID-19 ударил по миру, то наш сплав вечно недофинансированного государственного здравоохранения и гонящегося только за прибылью коммерческого оказался абсолютно неспособен ему противостоять. Вирус распространился среди нас мгновенно, подобно тому, как землю охватывают все более участившиеся лесные пожары и наводнения. Разразился очередной ураган, нанеся удар по нашей городской системе, которая уже давно пребывала в заключительной стадии кризиса.
Игра пришла к эндшпилю, когда богатые вытеснили неимущих с шахматного поля города, когда они изгнали с поля всех, кроме пары пешек, полностью зачистили свое однородное бизнес-пространство. Все уловки нечестной игры на виду, но мы продолжаем делать вид, будто наши ходы имеют значение.
Ирландский драматург Сэмюэль Беккет написал пророческую пьесу «Эндшпиль» о конце света. В ней он оттачивает свой специфический талант к созданию чувства клаустрофобной замкнутости, — хотя в нашем случае замкнутость порождена разрастанием городов, жадно поглощающих пространство и движимых рынком. Небоскребы поднимаются все выше, стен, разделяющих миллионы людей, возводится все больше. Пространства для спекуляций становится больше, пространства для жизни — меньше, его кромсают и делят ради максимизации ренты и роста рыночной стоимости. Изобилие для немногих ведет к стесненности большинства, тесным квадратикам для пешек.
Отсутствие доступного социального жилья в Великобритании, как и везде, вынуждает всё больше и больше людей селиться в квартирах размером с коробку из-под обуви.
И исследования показывают, что жизнь в таком микро-пространстве негативно влияет на здоровье и психическое благополучие его обитателей — даже в «спокойные» времена.
Рассказ Беккета «Заблудшие», описывает неуютное чувство, когда на вас надвигаются стены: «одно тело на квадратный метр, или двести — все это приблизительно… в тесноте и мраке трудно различить». Что это — образ лагеря смерти или пересыльного лагеря для беженцев? Или это обычное, повседневное безумие совместной аренды в ставшем недоступном городе, где цена за квартиры взлетела до небес? В любом случае, это самое подходящее для вируса пространство.
Общественное пространство где-то вовне, лишенное людей и денег, напоминает еще одну беккетовскую пьесу, «В ожидании Годо», с ее декорациями главной городской улицы с заколоченными магазинами, деревом и парой околачивающихся бродяг. Мы едва можем расслышать, как ворчит один из них, Эстрагон: «А как же наши законные права?». «Мы их разбазарили» — откликается Владимир. — «Ну? Что, идем?». «Да, идем» — отвечает Эстрагон.[3] И они никуда не идут.
Впрочем, история может быть на нашей стороне, и, если смотреть в перспективе, у нее есть для нас хорошие новости. На протяжении веков люди переживали немыслимые трагедии, потому что стоически отказывались от бегства, не сдавались, яростно сопротивлялись, проявляли поразительную изобретательность. В Древней Греции войны, моры, разграбления городов привели к появлению великой литературы: поэме Гомера «Иллиада», трагедии Еврипида «Троянки», труду Фукидида «История Пелопонесской войны» и «Государству» Платона. Когда в семнадцатом веке в Британии разразилась эпидемия бубонной чумы, театры закрылись, и Шекспир больше не мог ставить свои пьесы на сцене. Но это не помешало Великому Барду их писать, поддерживать живые токи творчества даже в горести и изоляции и сотворить такие шедевры как «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра».
Когда в середине 1850-х годов в Лондоне бушевала эпидемия холеры, Карл Маркс жил в лондонском Сохо, где люди умирали сотнями — они заражались из-за загрязненной воды местной водоразборной колонки.
Маркс сильно нуждался, несколько его маленьких детей умерли, он ютился с семьей в убогой и тесной квартире. Экономический кризис усугублялся, рабочее движение было в упадке. Однако Маркс продолжал трудиться, продолжал изучать механизмы капитализма и написал «Капитал». Он никогда не переставал надеяться на лучшее, и писал к своему товарищу Энгельсу: «При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, меня всегда поддерживала мысль о тебе и твоей дружбе и надежда, что нам вдвоем предстоит сделать еще на свете кое-что разумное».[4]
В XX веке отвращение к экономическому и политическому порядку, ввергнувшему мир в две кровопролитные войны, высекло первую искру сюрреализма — революционного течения в искусстве, создавшего свою собственную поразительно творческую диалектику. С одной стороны, Маркс Эрнст пишет поразительный хоррор маслом, картину «Европа после дождя II» (1940–1942) — это адский пейзаж, где всякую надежду задавили под собой грузные окаменелые конструкции, трупы, хилые растения, обезображенные существа — это будто доисторическое предсказание нашей собственной ковидной судьбы. С другой стороны, в сюрреализме нашлось место и оптимизму, в живописи и литературе прославлялась романтичная любовь, эта главная форма сюрреалистической встречи, которую ярче всего описал в «Безумной любви» Андре Бретон. Фашистские бомбы падают на Гернику, гитлеровский Третий рейх вот-вот начнет свой марш по Европе, а Бретон пишет: «Среди всех психологических состояний, считал я, любовь — самый активный проводник (…) неожиданностей, идеальный катализатор для слияния разноплановых феноменов»[5]. (Три десятилетия спустя, с этим согласится Джон Колтрейн, записав альбом A Love Supreme — «Всевышняя Любовь». Америка была отравлена расовой ненавистью, но триумфальные ритмы Колтрейна искали решения» в любви, и стремились к достижению этого любовного решения.
Возможно, сейчас мы находимся в периоде междуцарствия, который прогрессивным людям нужно переждать, прорваться сквозь него, уповая на всевышнюю любовь, дружбу, веру в свет за мраком, веру в то, что мы еще можем «сделать кое-что разумное еще на этом свете».
«И это пройдет». Надо надеяться. Пока мы сидим в карантине по одиночке, мы можем совместно размышлять, коллективно подумать над тем, как нам преобразовать общественные пространства наших городов, или даже общественные пространства наших жизней. Возможно, нам стоит придумать новую, переходную форму общественного пространства, которая будет внедрять виртуальное в реальное, развивать между людьми онлайн-связи, преодолевать внешнюю социальную дистанцию внутренне сжимая время и пространство: с помощью мониторов компьютеров или зум-конференций, которые станут еще привычнее.
Мы можем плести заговор о новом общественном мире прямо из наших домов, стать сообщниками, так сказать, в подполье, где традиционно скрывались диссиденты и активисты в тяжелое для политики время. Там мы могли бы переизобрести концепт «интимности», подстроить его под текущий момент. В конце концов, ведь в зуме мы видим не только лица людей: мы входим в их дома, вторгаемся в личное пространство, видим картины на стенах, книги на полках, семейные фотографии, мы ощущаем необычную общность и товарищество, благодаря которым мы почти можем коснуться друг друга.
Да, это не идеально, не то же самое, что встреча лицом к лицу; но, всё же, давайте воспользуемся тем, чем имеем, давайте попробуем найти что-то хорошее в этот период междуцарствия: будем делиться идеями, устраивать дискуссии, организовывать ридинг-группы, вебинары, и прочие онлайн-встречи, общаться, спорить, прислушиваться друг к другу, помогать друг другу собраться, и созидать солидарность между группами, если не между отдельными людьми. Это будет «первой сборкой» образа новой действительности.
Уже появляются первые намеки, что можно сделать городам после пандемии, чтобы вернуться к нормальной жизни. В основном предлагаются изменения в локальном устройстве, а не общегородском планировании. Главная задача — влить в города новую живую кровь, создать открытые, распахнутые для общества города, превратить их в театры на свежем воздухе, вернуть нашей цивилизации хоть немного духа Древней Греции, где амфитеатры под открытым небом были местом политических собраний и интеллектуальных встреч. Исследования показывают, что в закрытом помещении заразиться ковидом в двадцать раз вероятнее, чем на улице.
Следовательно, нам надо перестроить публичную жизнь под открытые пространства, так, чтобы она выстояла перед лицом будущей пандемии, чтобы общественная среда была разнообразной и доступной для всех, а возможности для бизнеса и досуга не только заманили людей обратно в города, но и вызвали желание остаться.
Чтобы жить в новых городах было не только выгодно, но и безопасно.
Первые проекты предлагают сузить дорожное полотно и сделать шире пешеходные тротуары, увеличить террасы кафе и ресторанов, с помощью мобильных обогревателей и кондиционеров их можно будет использовать целый год. Будущие города будут намного зеленее, в них будет приятнее гулять и удобнее ездить на велосипедах. В них станет меньше автомобилей и ориентированной на них инфраструктуры. Заброшенные пустыри и ненужные многоуровневые парковки буквально расцветут, превратившись в городские фермы, оборудованные гидропонными системами, что позволит снабжать городские сообщества более дешевыми и свежими продуктами прямо к порогу, сократив логистику и затраты. Подобные инновации уже стали общим местом реформаторских городских проектов. Тоже самое можно сказать про предложения сделать улицу привлекательной для частных предпринимателей и малой торговли, подстегнуть коммерческую активность в городе, позволить ей свободно развиваться — как уже когда-то, кажется, было.
После десятилетий кампаний «За уровень жизни»*, это будет крутой разворот для такого мегаполиса как Нью-Йорк. С середины 1990-х годов, когда мэром города был Руди Джулиани и районные торговые управления объявили войну нелицензированной уличной деятельности, Манхэттен превратился в разукрашенный корпоративный загородный тематический парк — его жителей загнали в сетевые торговые центры, а улицы зачистили от такой неприглядной пестроты: киосков с едой, торговцев с рук, выступлений музыкантов, бездомных книготорговцев — от любых ростков непосредственной жизни на тротуарах.
Городская жизнь в стиле al fresco всегда находила отклик у урбанистов-романтиков. В их образах идеального города всегда подчеркивалось внешнее пространство, пространство улицы.
Они сидели в кафе, писали книги, хлопотали одни дома, но подлинная муза навещала их только когда над ними не было крыши, когда они были среди толпы, когда они в любую погоду шли по мостовым. Это была интимность под открытым небом, среди незнакомцев. Поэт Бодлер предлагал «упиваться множеством», «наслаждаться толпой», «входить, когда пожелаешь, в роль каждого человека», «отдаваться безраздельно непредвиденной встрече, случайному незнакомцу», уметь «населить людьми свое одиночество», но и уметь «остаться наедине с самим собой в шумной толпе».[6] Сюрреалист Андре Бретон ценил свою великую героиню Надю за то что она хорошо чувствовала себя исключительно на улице, «для нее улица — единственное место, где можно получить подлинный опыт». Загадочная незнакомка выбрала себе имя Надя, потому что «по-русски это начало слова “надежда”», и она, Надя — это только начало.
У Лефевра горожане встречались на улицах и учились всему на улицах. Для него улицы были манящим местом, местом сбора, единения, соседства, местом человеческого сосуществования. Джейн Джекобс как-то заметила, что на самых оживленных улицах — самая динамичная хореография движения, «изощренный уличный балет»[7], так она сказала, и он варьируется в течение дня и на каждой улице он особенный и неповторимый. В последние месяцы мы были наблюдали, как эти хореографии адаптируются и меняются, как танцоры уворачиваются и отклоняются друг от друга, кружат вокруг других участников ансамбля, — все, чтобы держать социальную дистанцию на улицах.
Но Джекобс знала: для того, чтобы в городе бурлила жизнь, недостаточно урбанистического дизайна, нужно больше, чем тут скамейка, а вот там прелестный парк. Одним дизайном далеко не уедешь. Нам нужны более смелые видения как дать общественной жизни второе дыхание. Как вернуть городу разнообразие и витальность, столь милые сердцу Джекобс, особенно когда возносимые ею малый бизнес и магазинчики на углу стали вымирать.
Локальной торговле требуется даже больше поддержки, чем до ковида. Во время мартовского локдауна в Британии закрылась 21 тысяча малых предприятий. Британская торговая палата высказывает опасения, что в скором времени прекратят свою работу до миллиона малых предприятий, оставив за собой пустые помещения и заколоченные витрины на всех крупных улицах страны. Нью-Йорк за мартовский локдаун потерял 3 тысячи предприятий малого бизнеса. В Манхеттене многие маленькие магазинчики на углу, даже в таком дорогом районе как Гринич-Виллидж, заколочены досками и разрисованы граффити. Крупные сетевые ритейлеры, посовещавшись со своей совестью, попросту сбежали.
Годами они как стервятники опустошали Манхэттен, выжимали маленьких независимых конкурентов, высасывали жизнь из многих нью-йоркских районов, а теперь такие крупные бренды как Gap, J.C.Penney, Subway, Domino’s Pizza первыми мчатся прочь из города.
Нам нужно выработать публичный план действий, благодаря которому можно было бы обуздать нападки частных интересов на общественное благо. В наших крупнейших городах общее благосостояние проматывают огромные корпорации, которыми управляют элиты, наживающиеся на непроизводительной активности. Они играют в рулетку на бирже, радостно пританцовывают как акционеры, навариваются на cкачках валютных курсов, хлебают из общей кормушки, устанавливают заоблачную арендную плату, обращаются с землей и имуществом исключительно как с финансовыми активами, еще одним средством выжать деньги. Все они, конечно, уклоняются от справедливых налогов. Они как пиявки всасывают финансовую кровь из города, и занимаются тем, что можно назвать девелопмент «паразитарного города». Это полностью противоположно идее «порождающего города» — которой мы должны руководствоваться, составляя наш публичный план действий.
Накопленные средства следует перераспределить в пользу простых людей и общественной инфраструктуры. Главная задача такого плана — сделать город удобным и доступным для малого бизнеса и обыкновенных людей. Нужно установить какого-то рода контроль за коммерческой арендой и наценками бизнеса. Когда городская экономика процветает, арендодатели задирают ренту, искусственно завышают рыночные цены на недвижимость, и становятся той «чудовищной силой», о которой говорил Маркс. «Одна часть общества — пишет Маркс— собирает с другой дань за право жить на земле». Когда экономика начинает проседать, арендодатели предпочитают сидеть, как собака на сене, на своей вакантной собственности, оставить площади пустыми, пока не найдутся жильцы, которые будут готовы платить по взвинченной рыночной цене. Из-за этих двух приемов у менее обеспеченных арендаторов никогда нет шансов найти хорошее жилье.
Как метод пряника, муниципалитеты могут предлагать арендодателям налоговые послабления, если те будут сдавать квартиры по более доступным ценам, это может побудить их снизить арендные ставки.
Но есть и более суровые альтернативы, возможно придется задействовать метод кнута.
Это может быть, например, программа «минимальной прожиточной арендной ставки» — аналог концепта прожиточного минимума, уже применяемого во многих городах по всему миру, только для жилья. Минимальная арендная плата позволила бы владельцам малого бизнеса зарабатывать себе на жизнь и платить за аренду в соответствии с их скромными доходами. При наличии рынка недвижимости, который существует не для того, чтобы снимать с ближнего три шкуры, идея малого бизнеса могла бы иметь гораздо больше реальных воплощений. Люди чувствовали бы больше поддержки, с большей готовностью шли на риск и открывали свои маленькие фирмы и заведения. Арендная ставка, привязанная к прожиточному минимуму, позволила бы арендодателям получать гарантированный доход, справедливый, а не вымогательский и паразитарный, облагающийся налогом по соответствующей ставке. Договоры аренды пересматривались бы каждые 5 лет. При каждом обновлении «прожиточная аренда» менялась бы в зависимости от предыдущего поведения жильца и его зарплатных горизонтов. Если арендодатель откажется от участия в программе минимальной прожиточной аренды, то муниципалитет мог бы реквизировать у него собственность и сдавать ее от лица государства.
Представьте, какой выводок маленьких предприятий могла бы породить такая благоприятная среда. По отдельности это были бы скромные фирмы, магазинчики, небольшие кафе. Но если бы они разбежались по всему городу, их присутствие было бы очень заметно. Это был бы знак, что в город вернулись рабочие, овладевшие новыми навыками, радующиеся труду, и отвечающие за результаты своего труда перед собой и перед местным сообществом. Эти мастера высокого класса открыли бы свои маленькие стартапы, вроде тех, что начали появляться незадолго до пандемии. Тогда в угрюмых и заброшенных кварталах города вдруг начали возникать микро-пивоварни и винокурни и успешно выпускать свою продукцию в малых объемах. Хочется надеяться, что после пандемии они снова будут процветать, и что рядом с ними откроют собственные небольшие предприятия и другие мастера: пекари и свечники, переплётчики и печатники, гончары, плотники, реставраторы мебели, сыровары, сварщики, скульпторы, швеи и ремесленники, художники и городские фермеры. Можно представить, как они живут бок о бок, как в местные районы вернулись разнообразие и неожиданность, и как в привычных продуктовых магазинчиках на углу стало веселей, потому что их владельцы тоже спокойно могут заплатить за аренду.
А пока что городские власти должны придумать, что делать с бесконечными пустыми офисами, которые покинули привилегированные «белые воротнички», когда они перешли на работу из дома. Большая часть этих офисов строились на средства накопленного капитала, с расчетом на будущую завышенную арендную плату, и даже в лучшие времена они зачастую простаивали. Сейчас, в худшие времена, нам осталась это нависающая над городом темная громада, которой грозит девальвация.
Вот урок, как можно уничтожить город: построить бесконечные безликие ряды, настолько безликие, что этого можно добиться только за деньги.
Опять же, только представьте, что эти огромные офисы с открытой планировкой перепланированы и превращены в доступное жилье для одиноких людей и для семей, в квартиры, где стены разделяют настоящие площади, а не кубиклы, где есть балконы и широкие, полные воздуха террасы. Городская администрация могла бы взять эти пространства в аренду или выкупить их, нанять местных архитекторов, чтобы они придумали для них инновационный редизайн, а местные строительные компания осуществили это реконструкцию.
Важно, чтобы часть этого доступного жилья предназначалась молодым людям. Во время локдауна миллениалы тоже предприняли массовый исход из города, и этот бег продолжается повсюду, от Нью-Йорка до Лондона, от Парижа до Токио. Уже до пандемии молодежь сгибалась под давлением запредельной стоимости жизни в большом городе, но они мирились с крошечными квартиркам, потому что вокруг, прямо у порога, было море удовольствий: бары и рестораны, театры и арт-галереи, культурные институции, да кипящая энергия массы людей и чувство бесконечных возможностей. Теперь же, когда многие из этих мест закрыты, дорогие для жизни большие города стали утрачивать свою привлекательность. Их ослепляющий блеск потух. Многие миллениалы уехали, кто-то выбрал более дешевые маленькие города, другие вернулись к родителям и стали работать из дома, гадая, вернутся ли они когда-нибудь обратно в город.
Всё это говорит о нашей цивилизации, о том, что пошло не так.
Молодежь пулей вылетает из городов, потому что жить в них слишком дорого, а игра больше не стоит свеч, потому что все обещания города оказались пустышкой.
Для будущего городов это не сулит ничего хорошего, когда так много молодых креативных людей решает убраться из них куда подальше, оставляя за собой пустой грустный след своего былого присутствия. Исторически города притягивали к себе молодых людей, они устремлялись в города за свободой, за взрослением среди новых людей, за независимостью, прочь от родительской опеки. Город был местом, где происходит экзистенциальный ритуал перехода. А теперь это место безвыходности. Стоимость жизни заоблачно взлетела, и городской роман превратился в прения об алиментах.
Любой, кто когда-либо смотрел кино французской «новой волны» — фильмы Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо или Луи Маля, — тот пережил этот городской роман, окунулся в его переменчивую атмосферу. Большая часть действия этих фильмов происходит на улицах, там же звучит большинство диалогов, в обыденном общественном пространстве, на террасах кафе и на бульварах, днем и ночью. Именно в городе молодые люди влюблялись и расставались, спорили о политике, читали книжки, лучше узнавали себя, становились кем-то большим, чем раньше. Мало кто приезжал в город ради денег. На самом деле, юность в городе предпочитала быть бедной — ведь так приключений будет гораздо больше. И то, что в квартире идет только холодная вода, было честным условием сделки.
Город изображали как Великую Книгу, кафедру сакрального знания, библиотеку под открытым небом, где полагалось учиться, освоить гуманистический базис того, как быть человеком в обществе, как разобраться со своими гражданскими правами и обязанностями. Здесь, вы, почти даже не замечая этого, вовлекались в то, что американский философ образования Роберт Хатчинс однажды назвал «Великим Разговором». Как нам снова подступиться к «Великому Разговору о Городе»? Как сделать так, чтобы люди вновь стали рассуждать о городе с точки зрения гуманизма, а не только перекраивать его на карте дельца или прогонять через алгоритм технократа?
Великий Разговор о Городе — это диалог о нашей общей судьбе.
Будет ли наша гражданская инициатива достаточно отважной, будет ли она уметь дать волю фантазии, будет ли она достаточно интеллектуальной, чтобы взять ответственность на себя, принять этот вызов, поможет ли она нам сообща выработать новый общественный договор, сделать так, чтобы и в наших головах, и в наших городах рождались новые идеи? Трудно сказать. Иногда это кажется невозможным. Однако несмотря на кажущуюся безнадежность, я не могу оставить эту мысль, не могу оставить надежду что после пандемии, после всего, что свершается ныне, после Трампа, после Джонсона — что после наступит время, когда город будет не заражать нас, а вдохновлять.
ПРИМЕЧАНИЕ: Я очень благодарен Биллу Морришу (Новая школа, Нью-Йорк) за помощь в подготовке этого эссе. Многие из этих идей — его, только облаченные в мои слова.
13.10.2020
Перевод — Дмитрий Мальков
Редактура — Александра Устюжанина
[1] Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. С. 207
[2] Руссо Ж. Ж. Исповедь / Пер. с фр. Д. Горбова. М. Я. Розанова. М., 2011. С.351
[3] Беккет С. В ожидании Годо/ Пер. О. Тархановой
[4] Маркс, К. Письма // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч. в 30 т. Т. 28 Изд. 2-е. М.: Госполитиздат, 1962. С. 361
[5] Бретон А. Безумная любовь, звезда кануна / Пер. с фр. Т. Балашовой. М.: Текст, 2006.
* Кампания «За уровень жизни» или «Нулевой толерантности» (к беззаконию) — политика, проводимая мэром Нью-Йорка Руди Джулиани в 90-х годах. Была направленная на борьбу с преступностью, насилием и нищетой в городе. В частности, Джулиани провозгласил, что «в цивилизованном городе на жить улице запрещено». Вызвала противоречивые реакции, многие считают, что она усугубила финансовый разрыв среди населения города.
[6] Шарль Бодлер. Стихотворения в прозе (Парижский сплин). Фанфарло. Дневники / Пер., коммент. Е. В. Баевской. СПб.: Наука, 2011, С. 35
[7] Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. / пер. Леонид Мотылев. М.: Новое издательство. 2011. С.61.