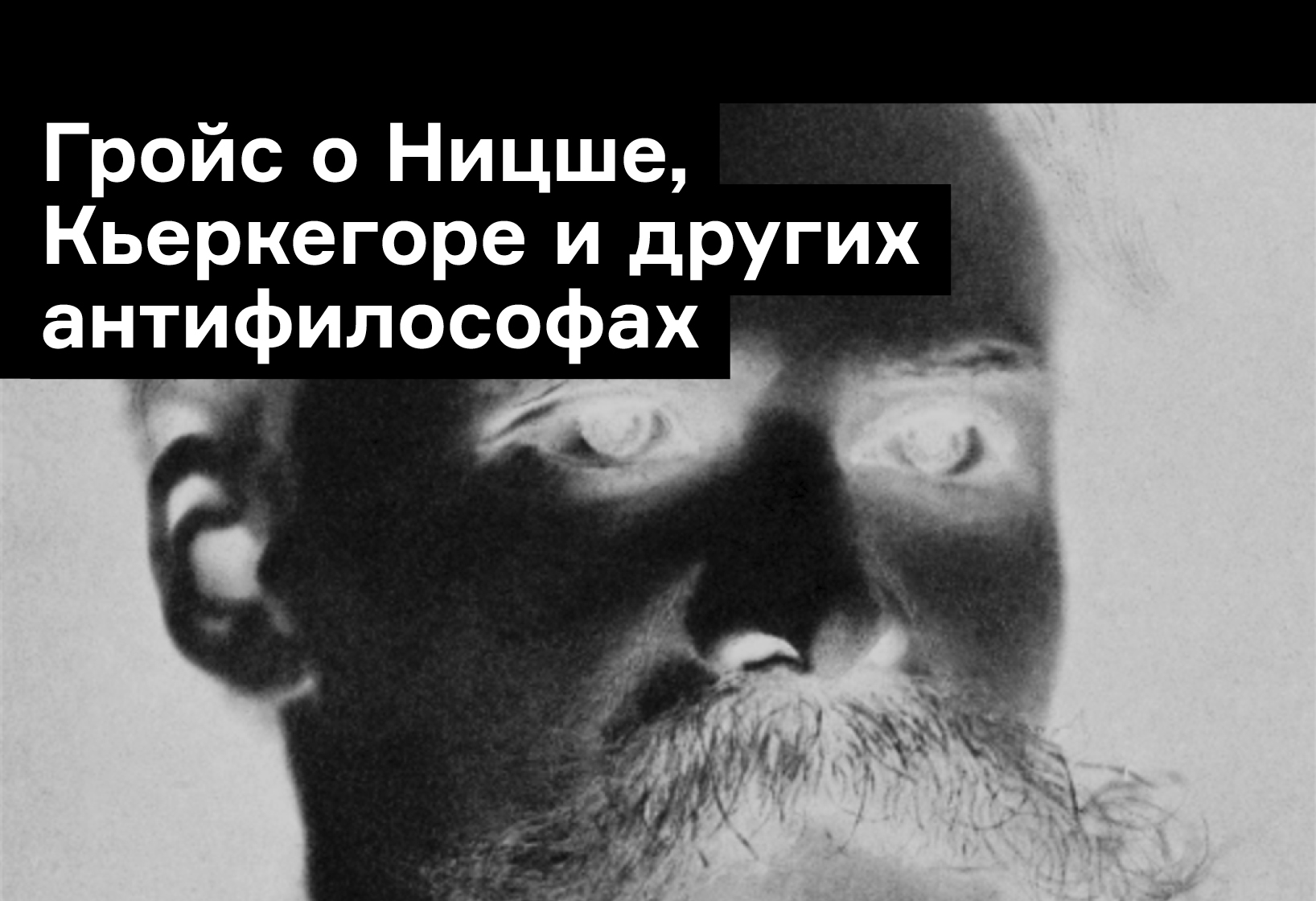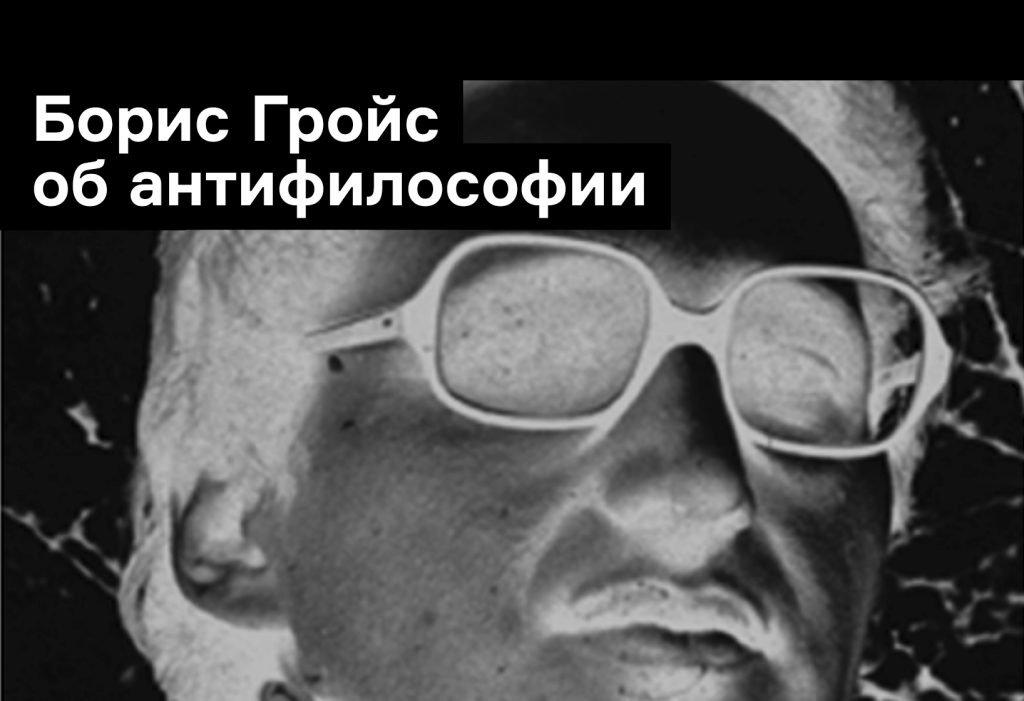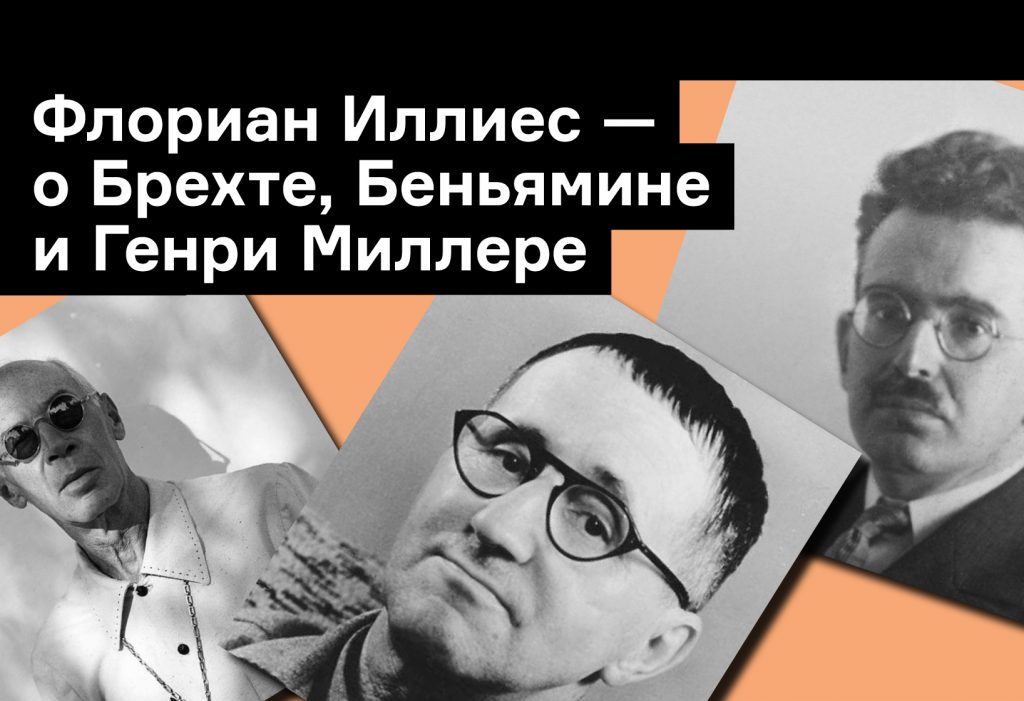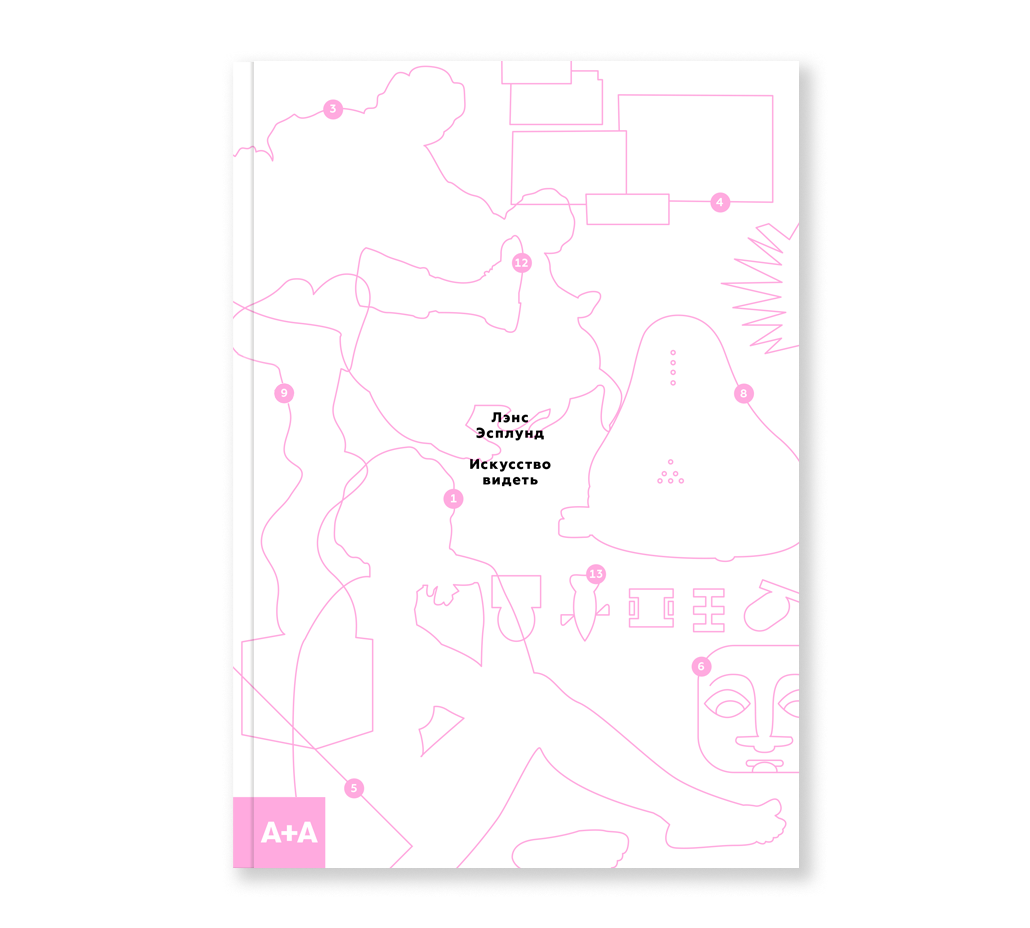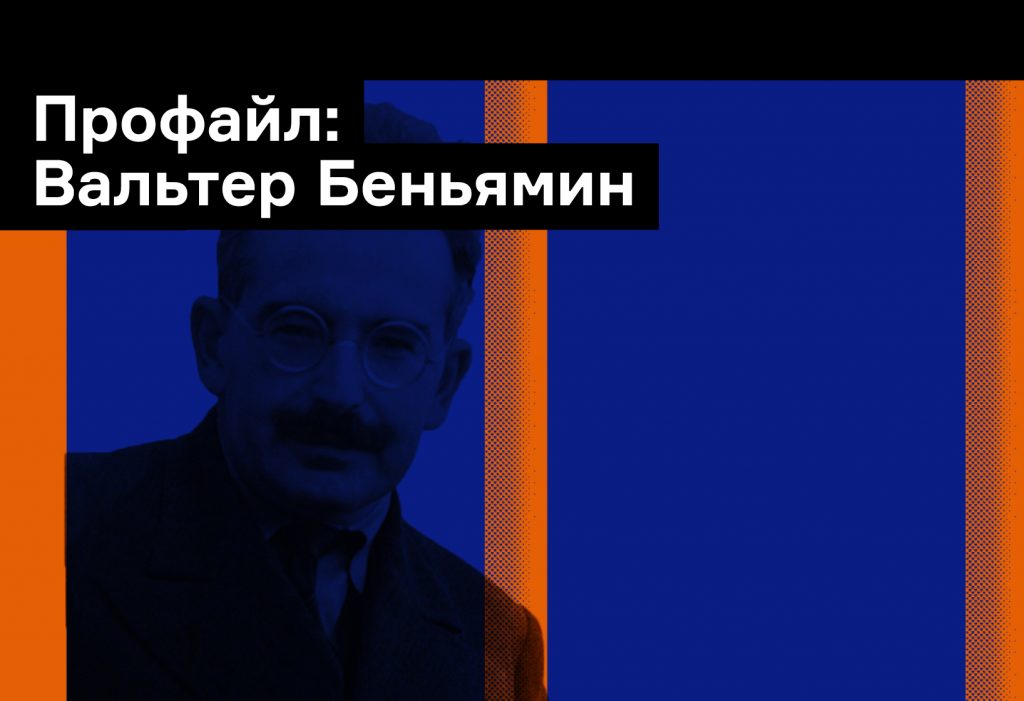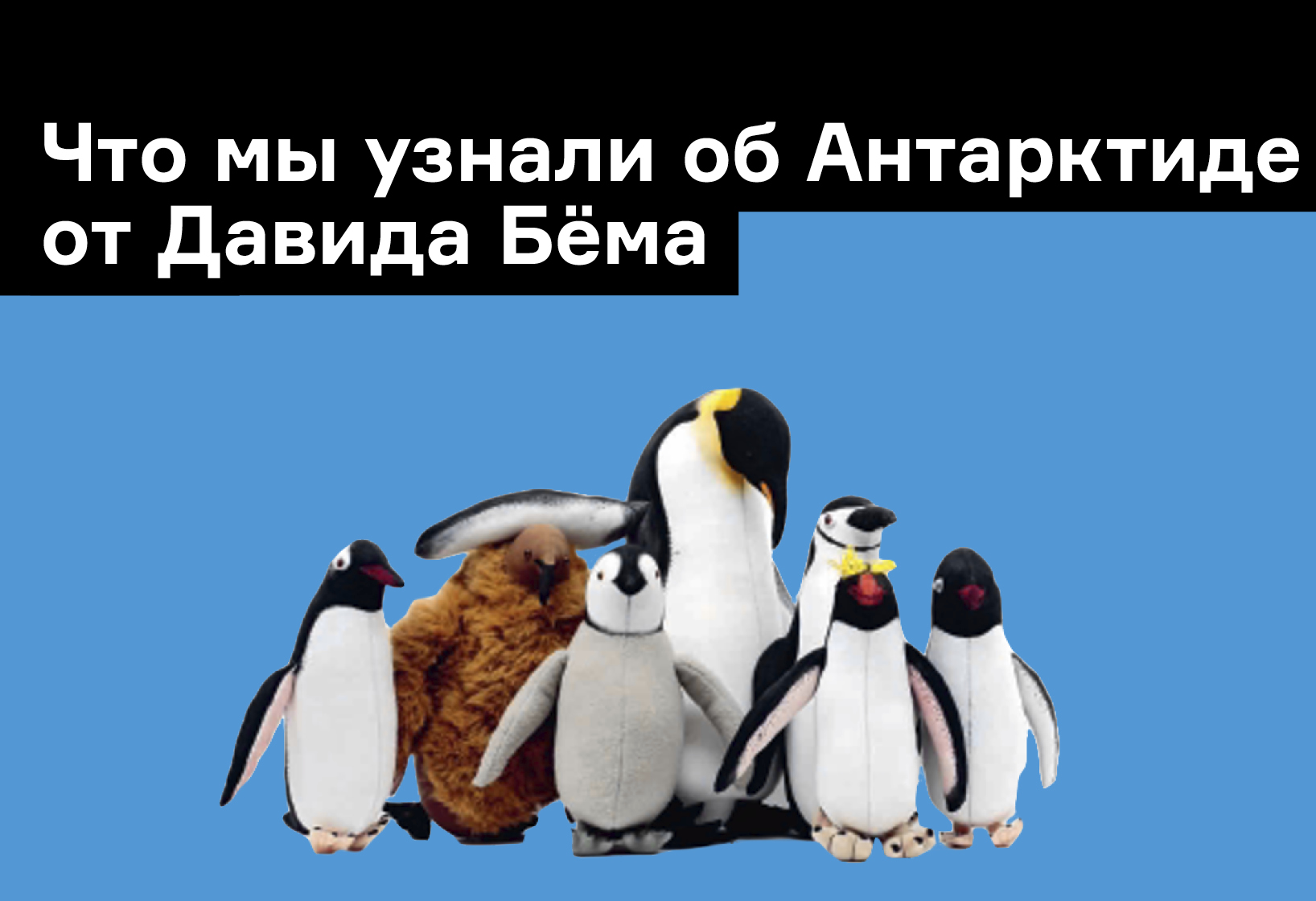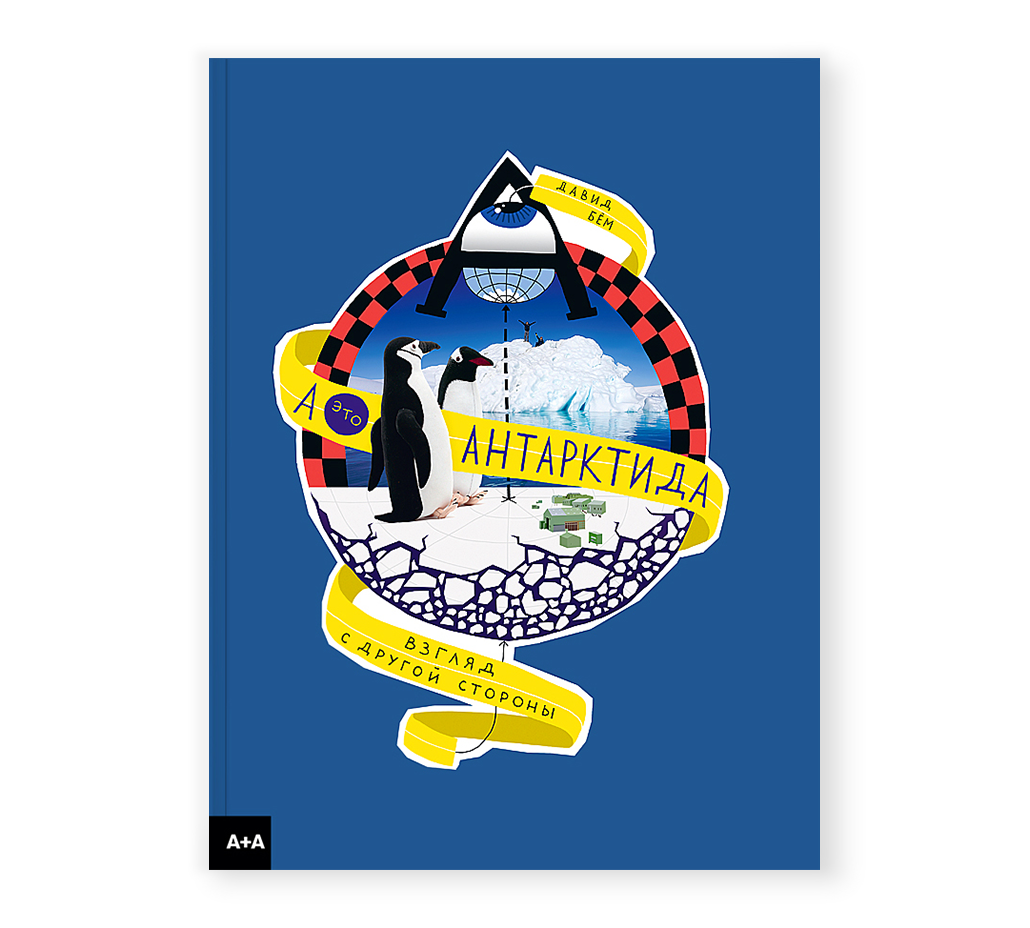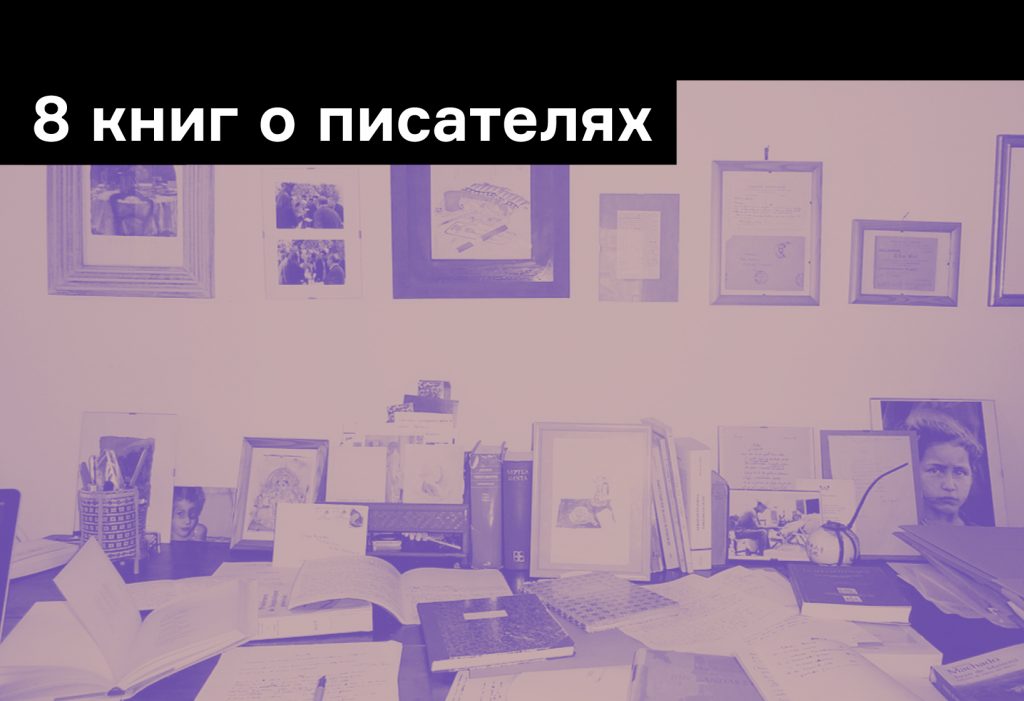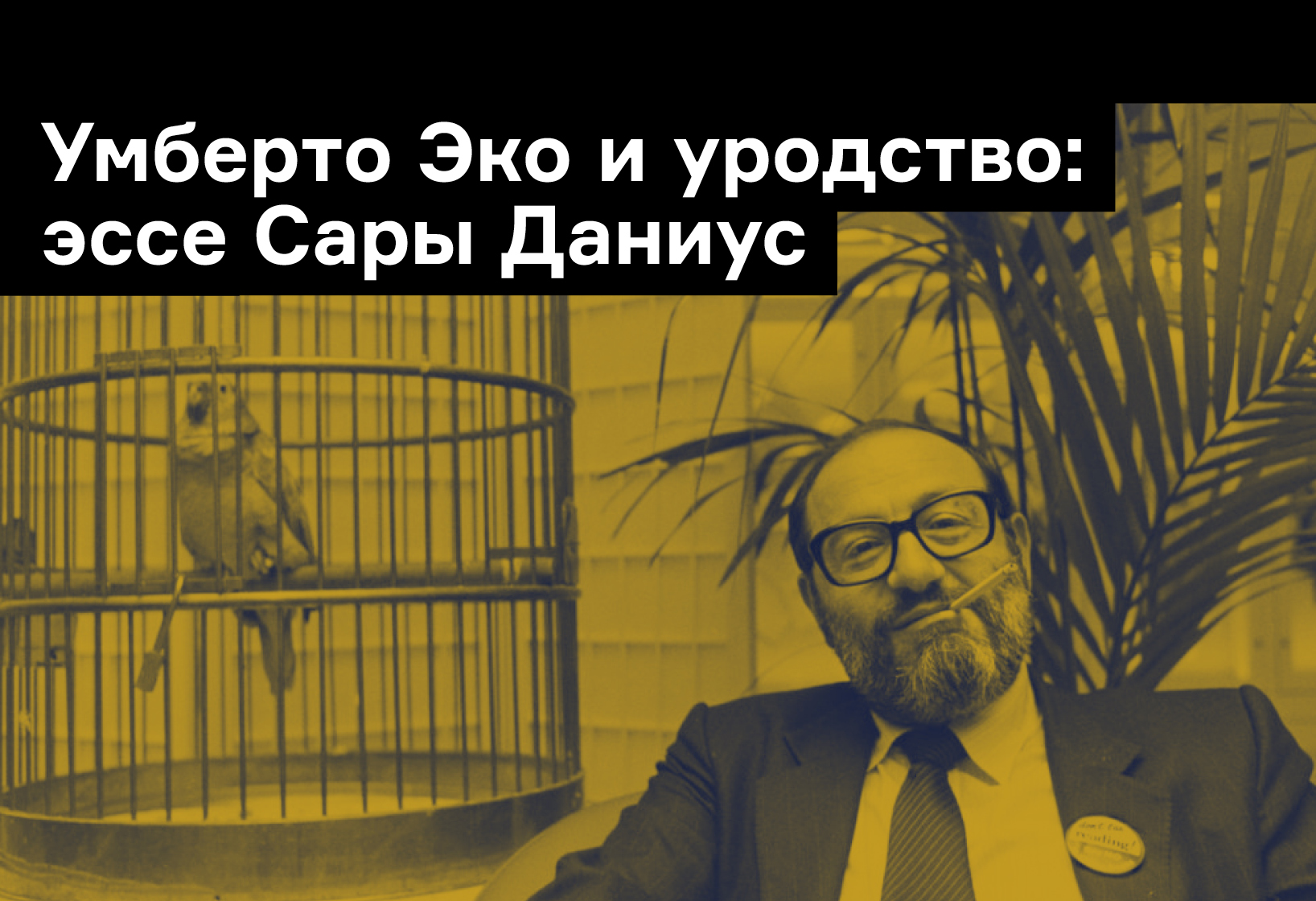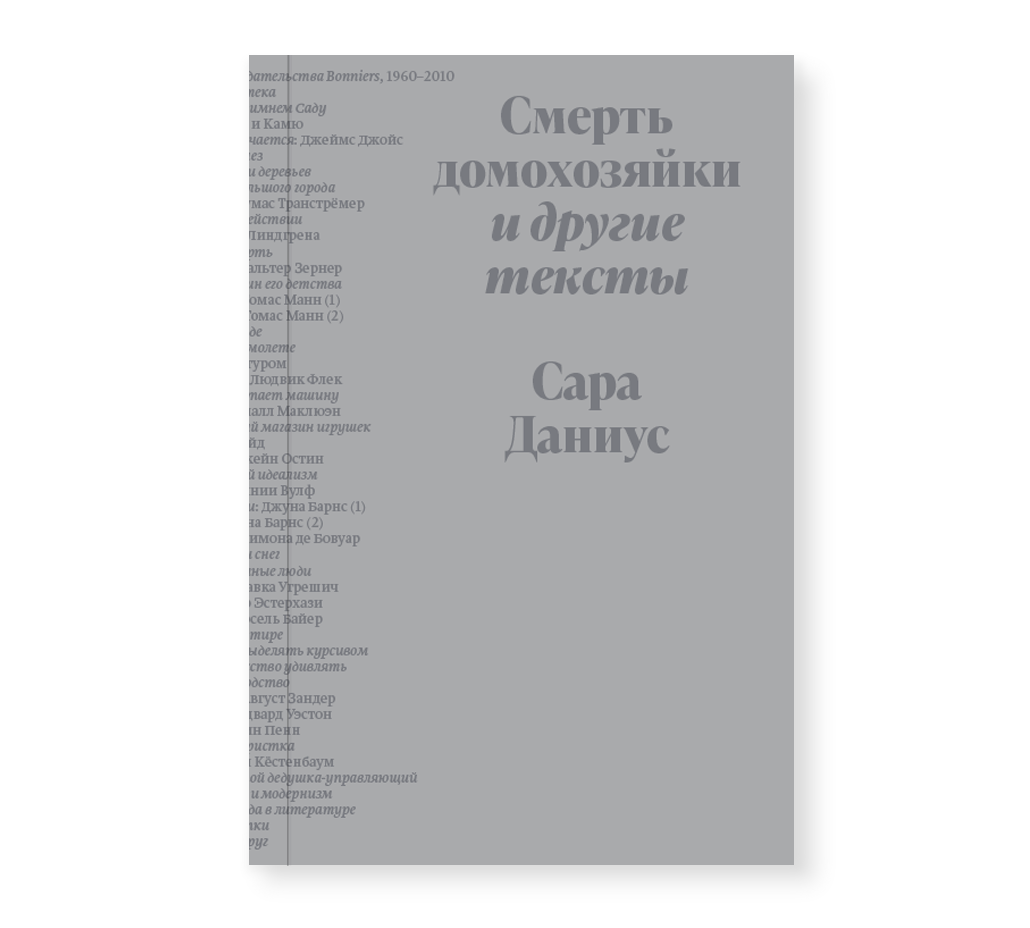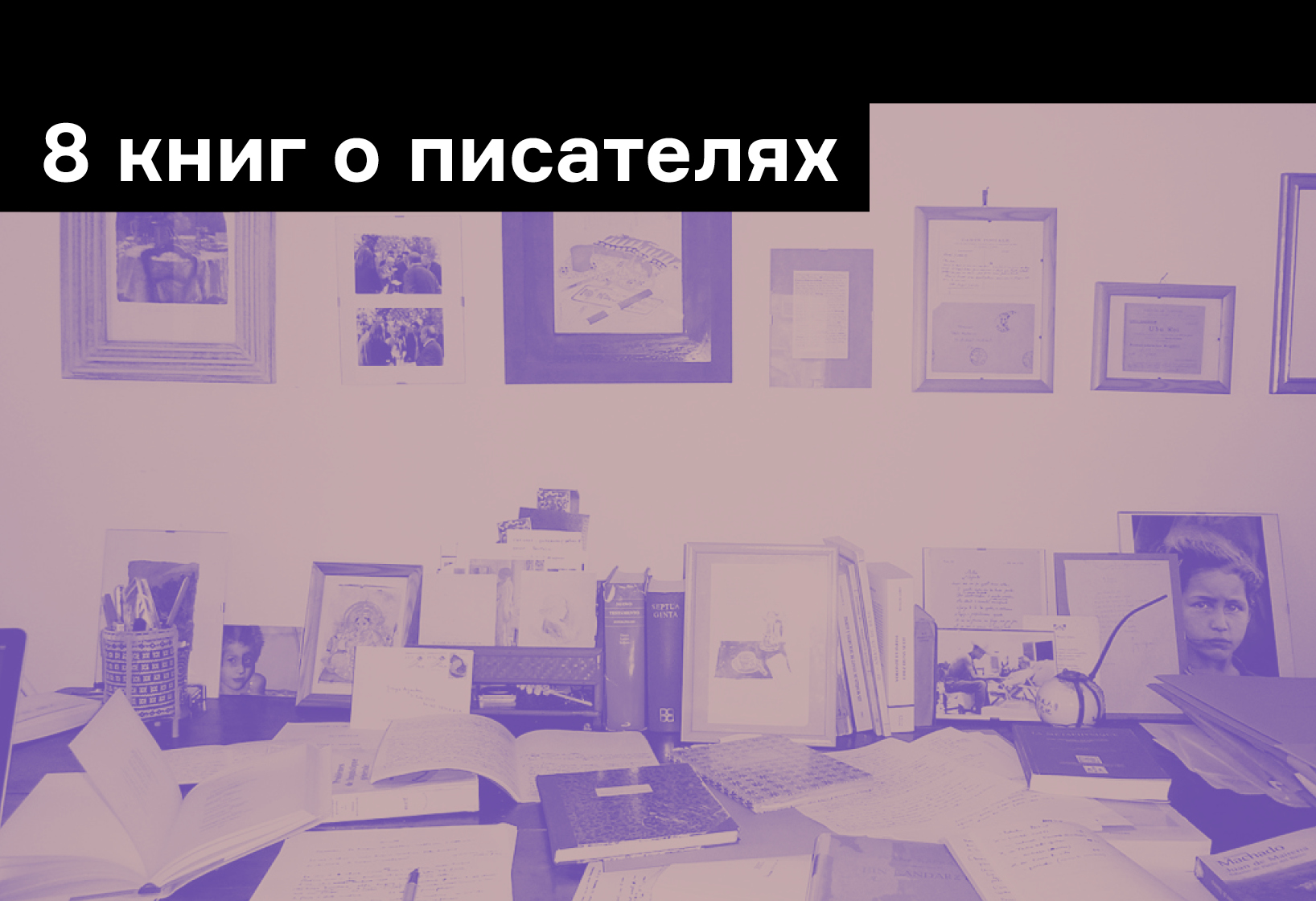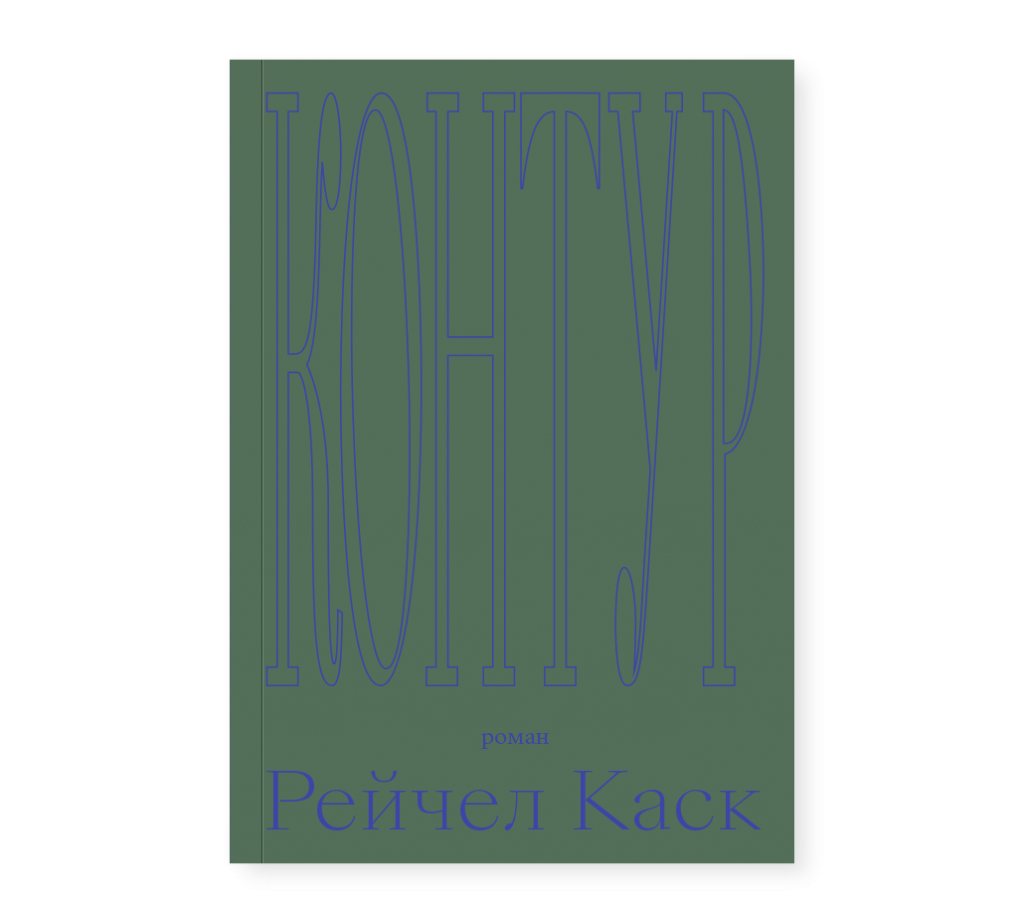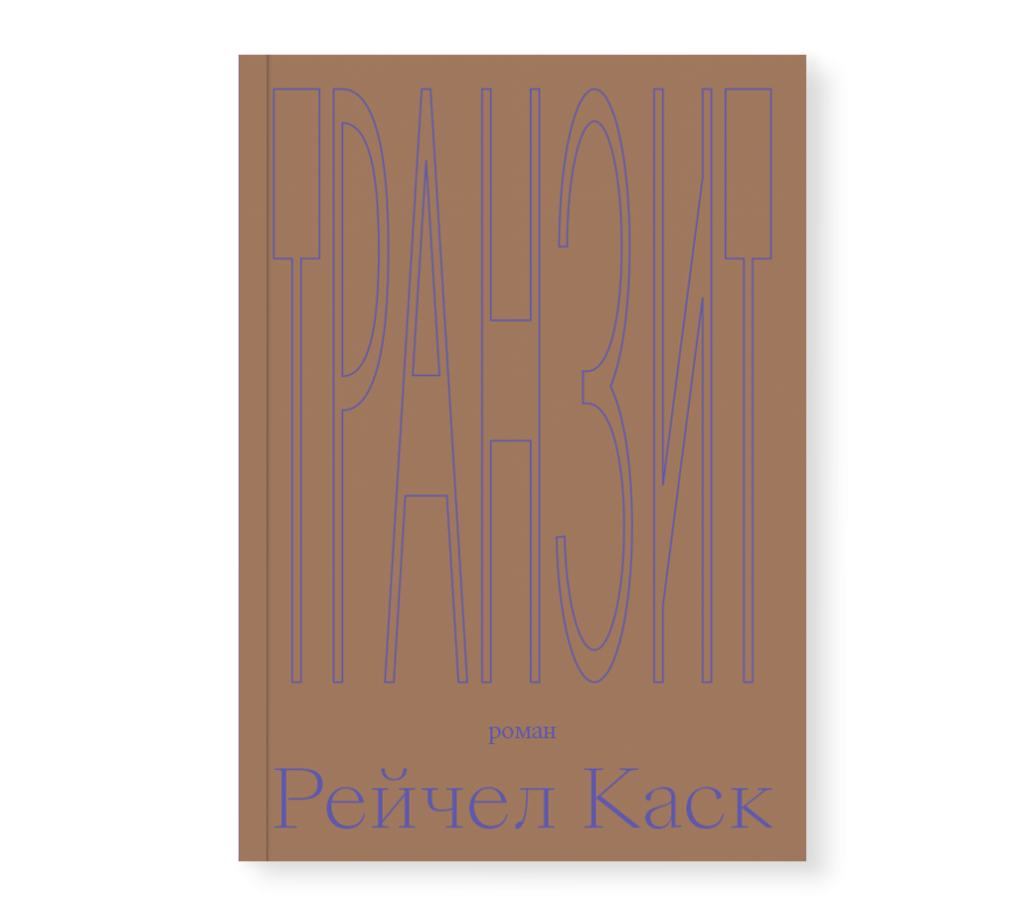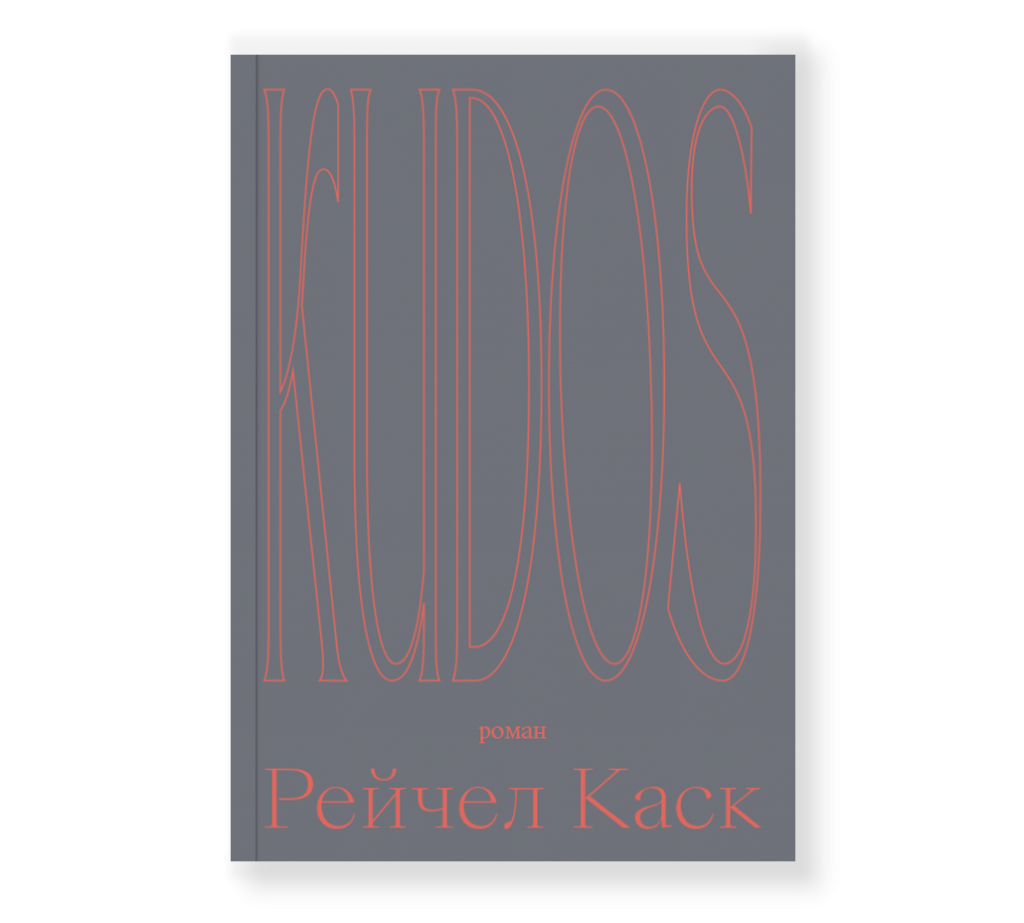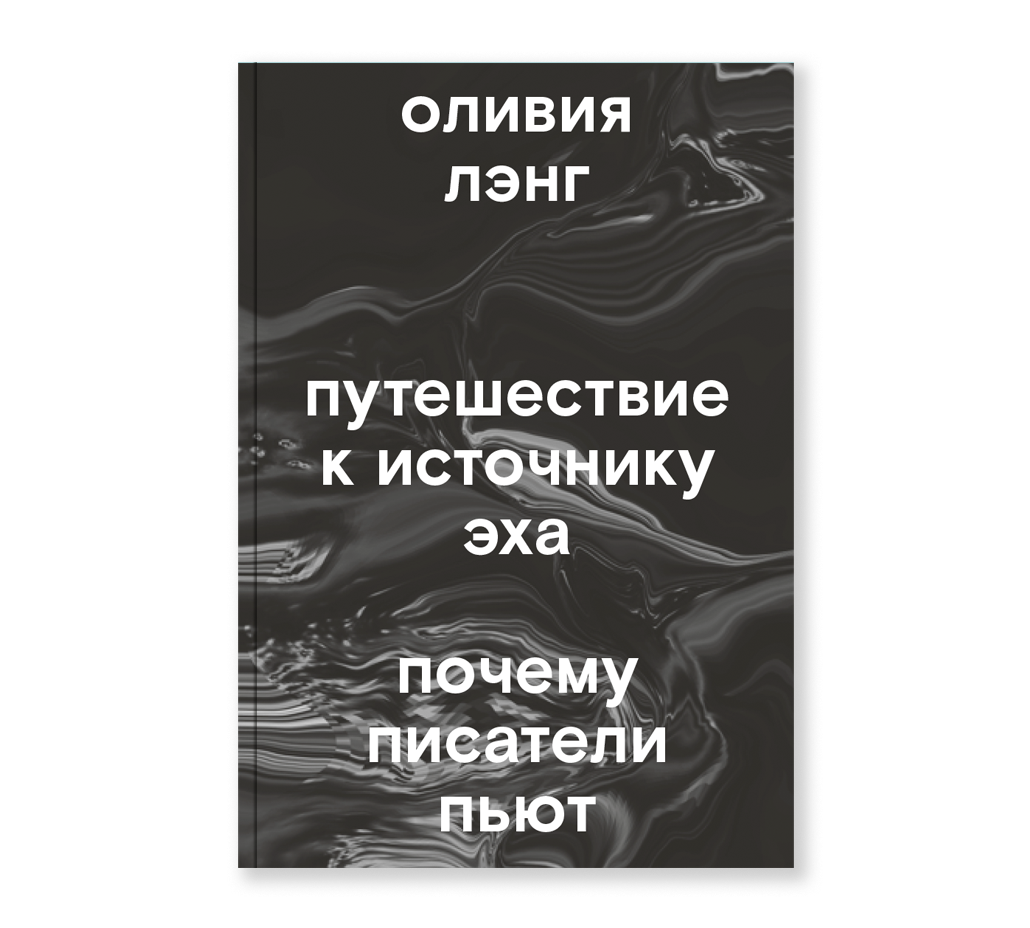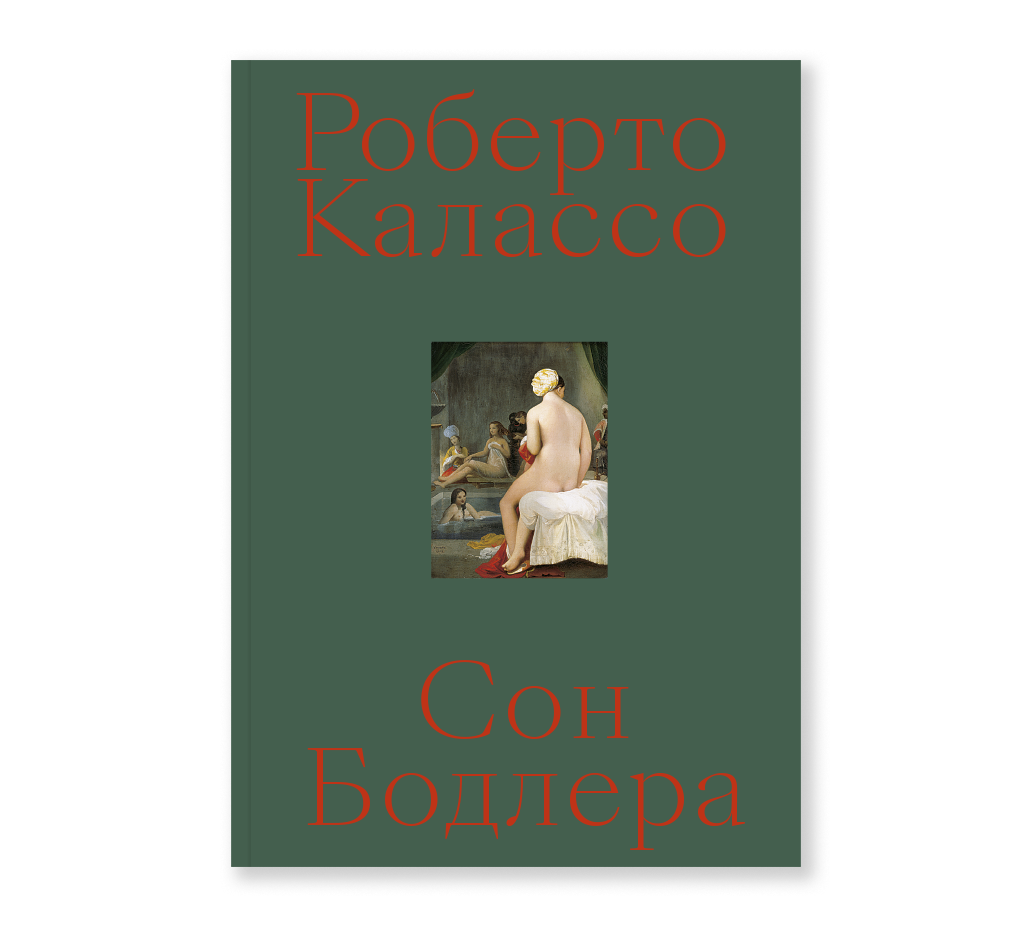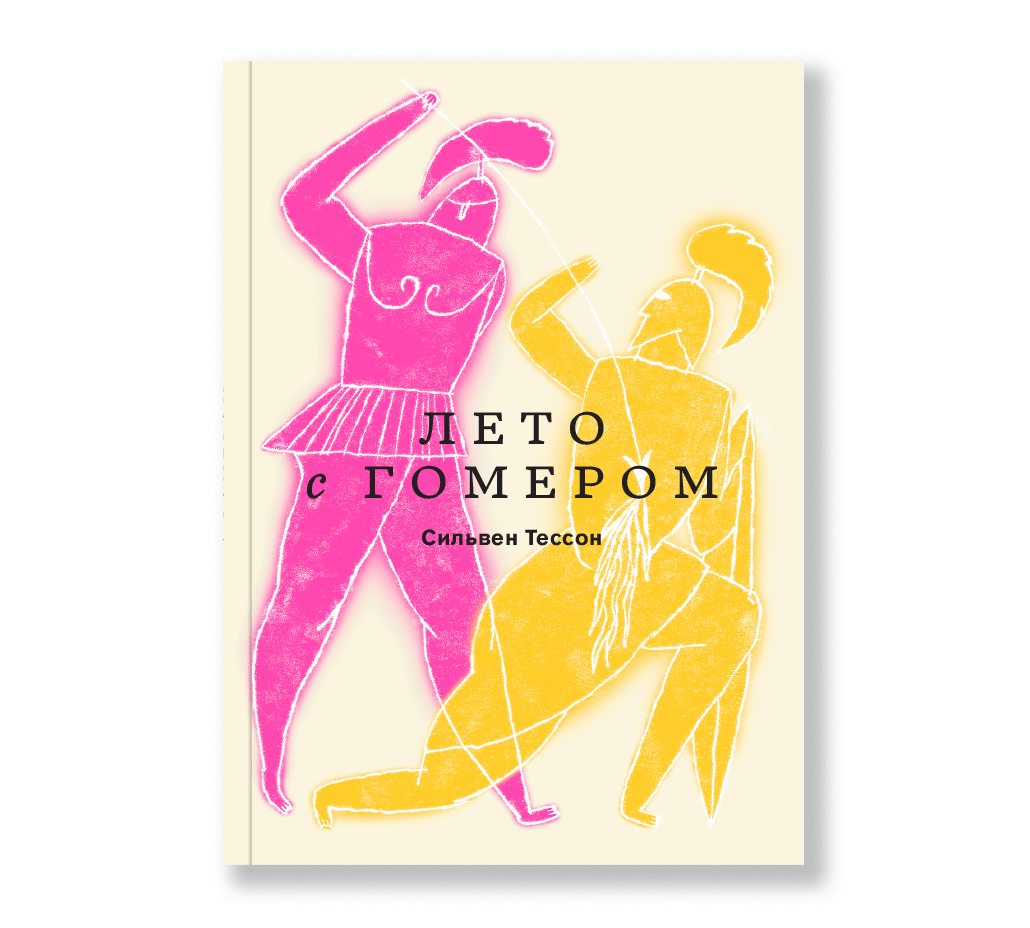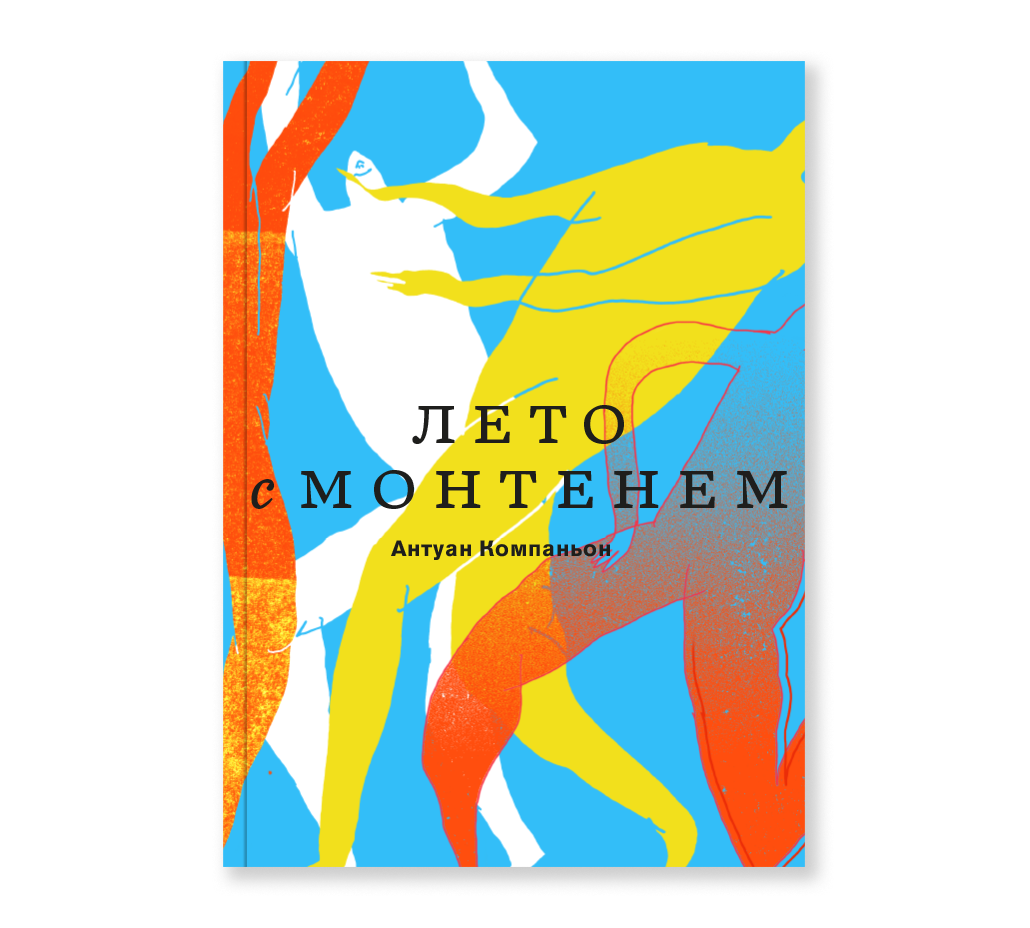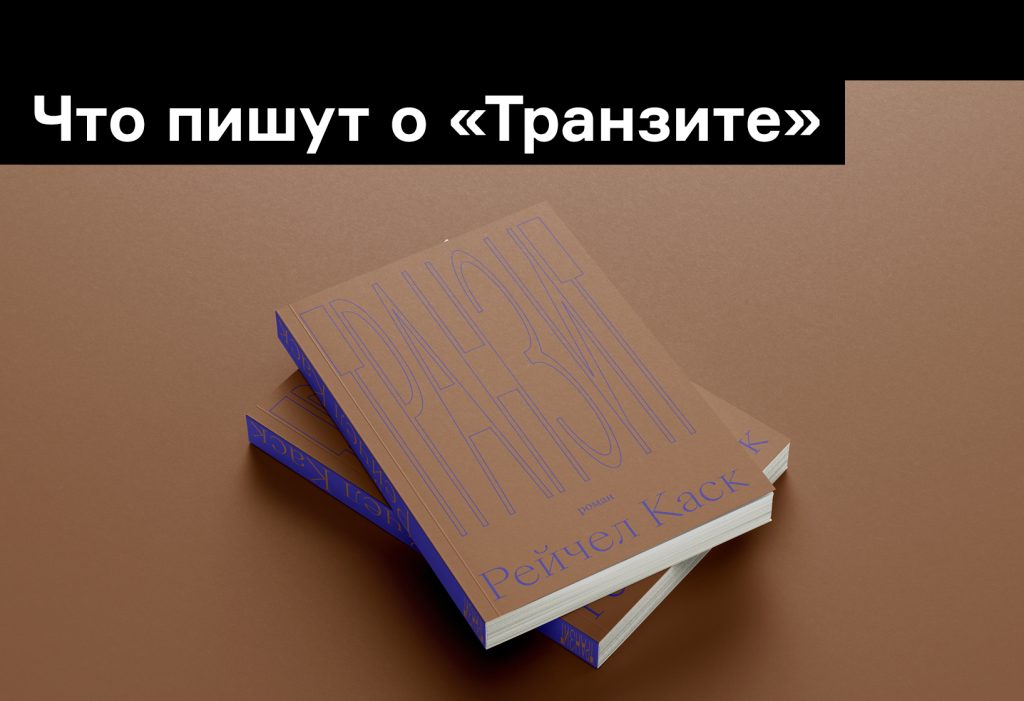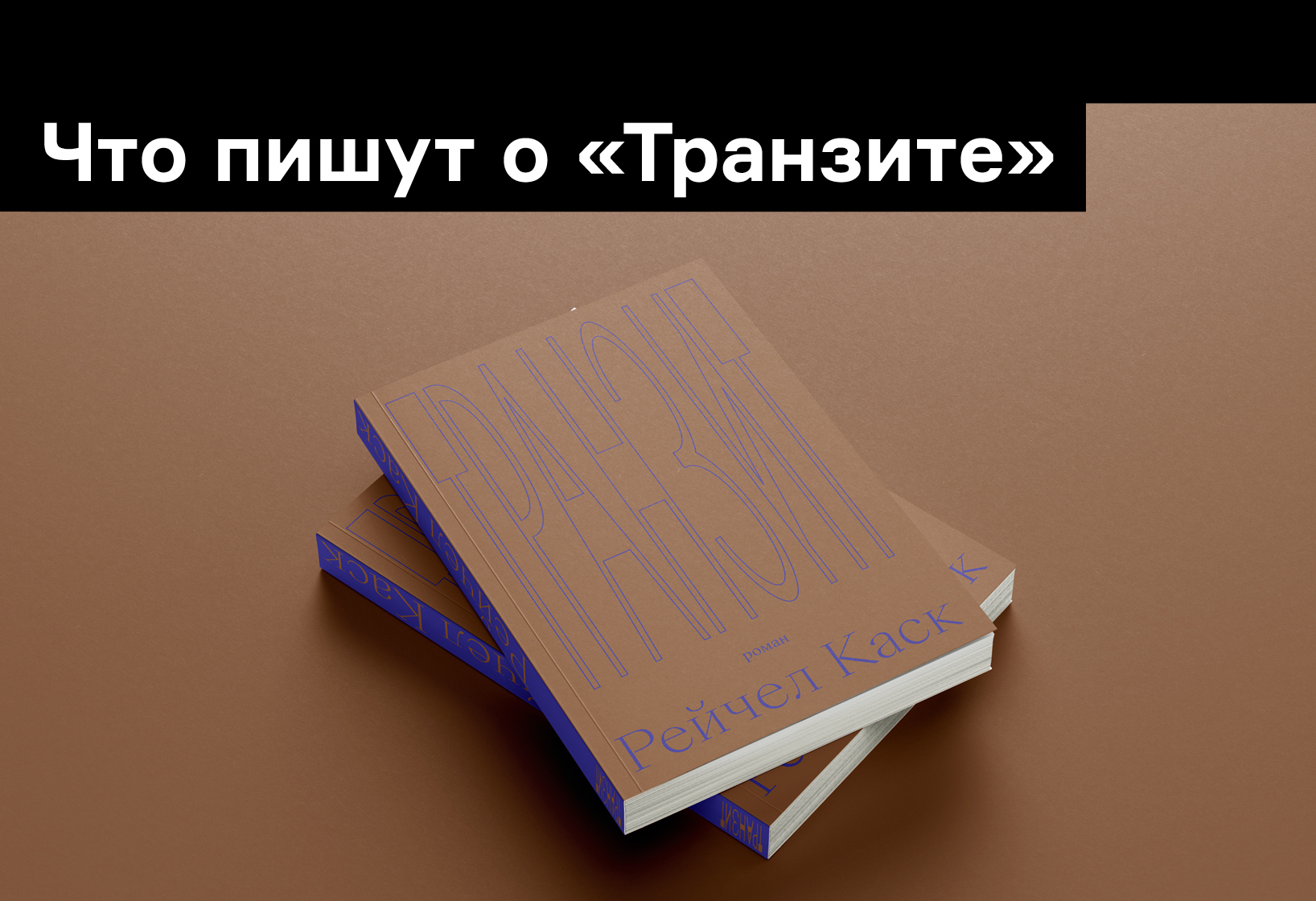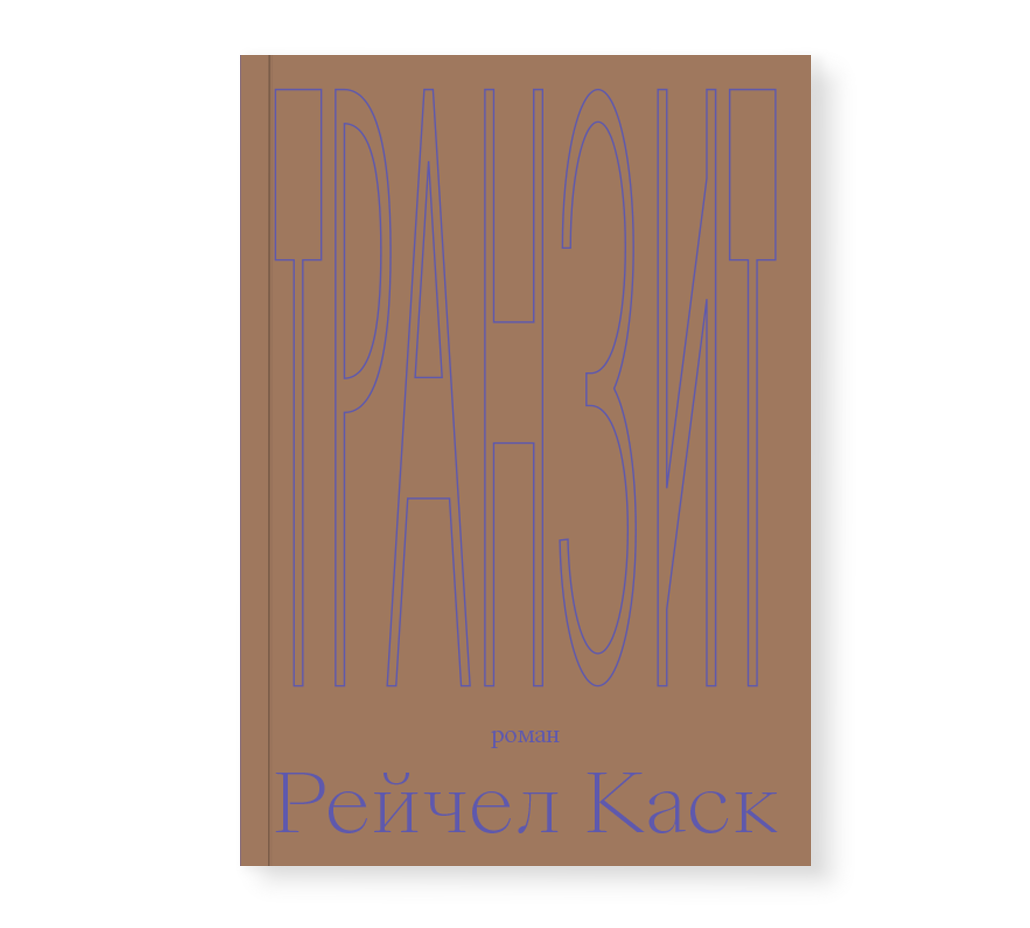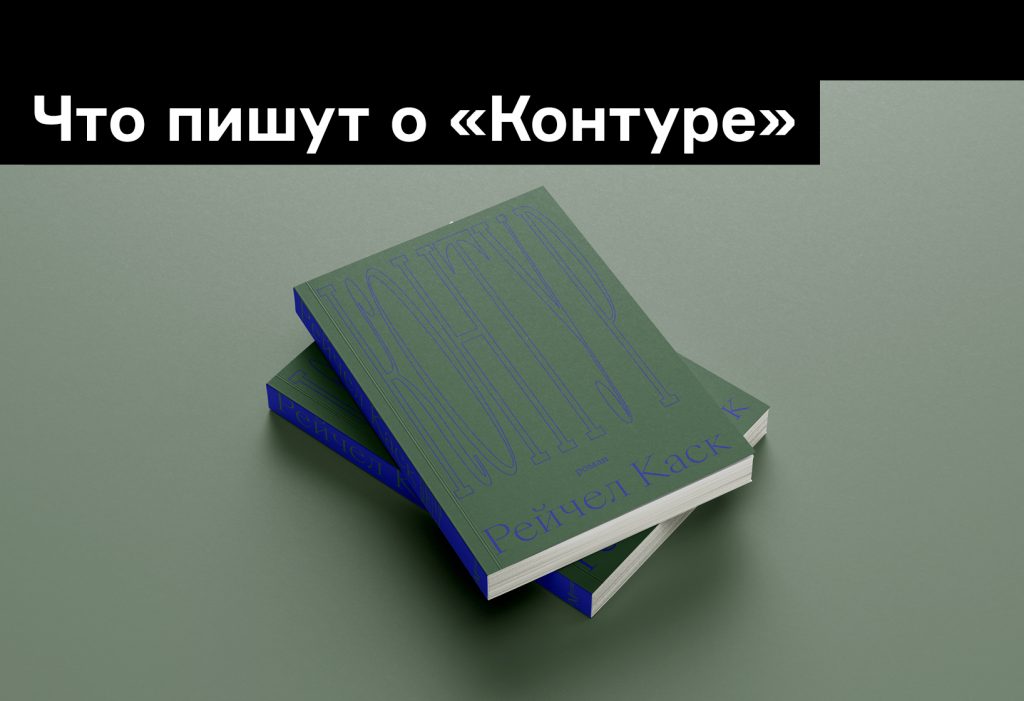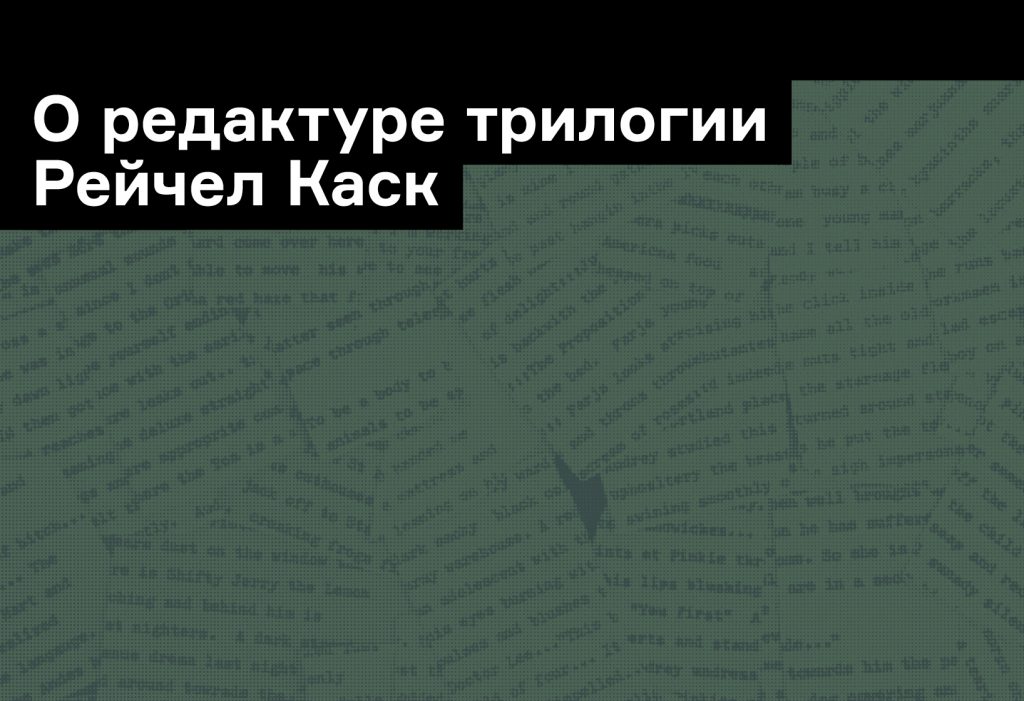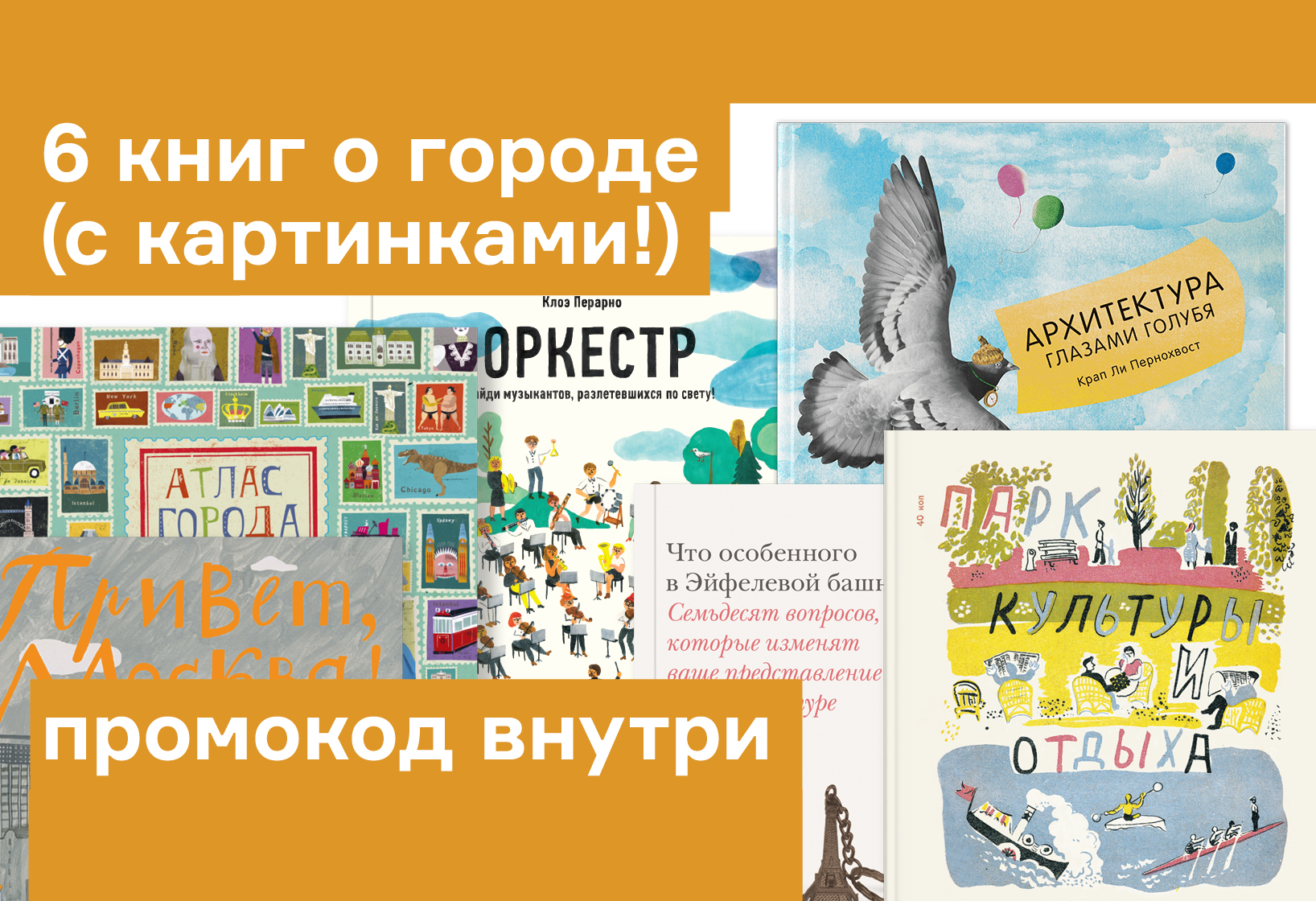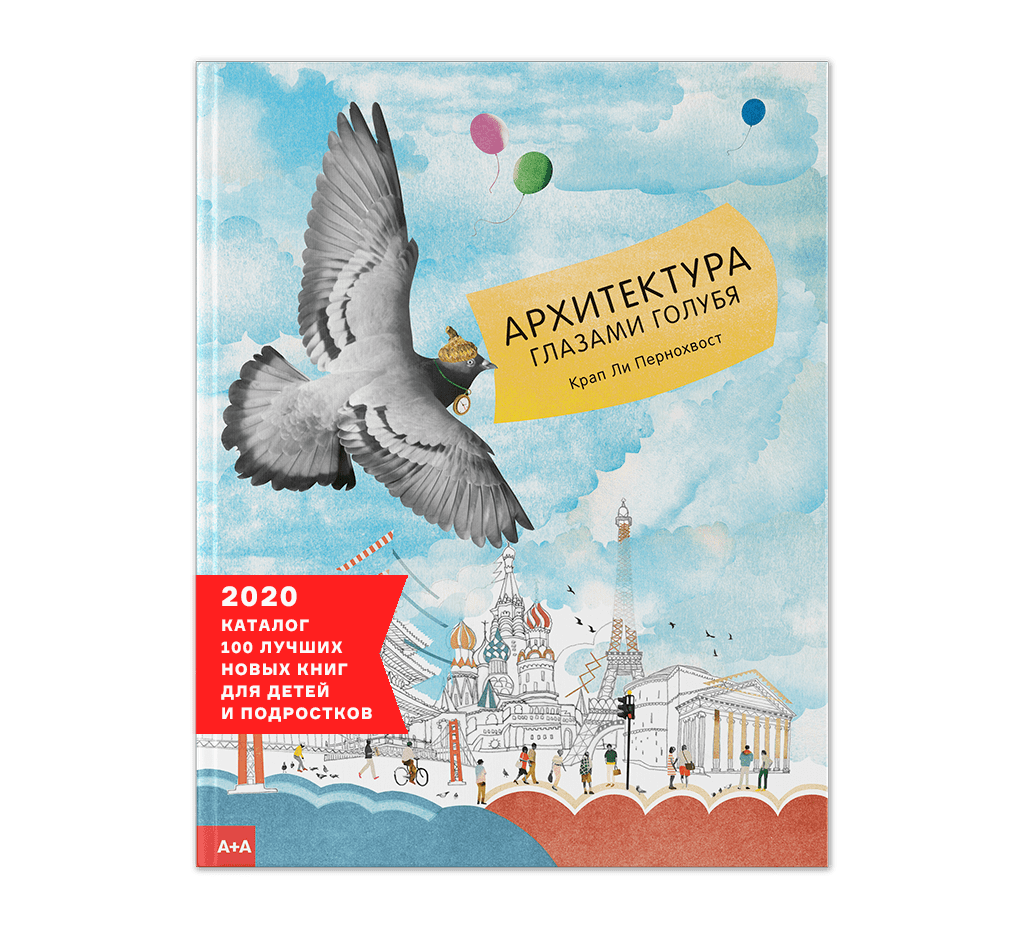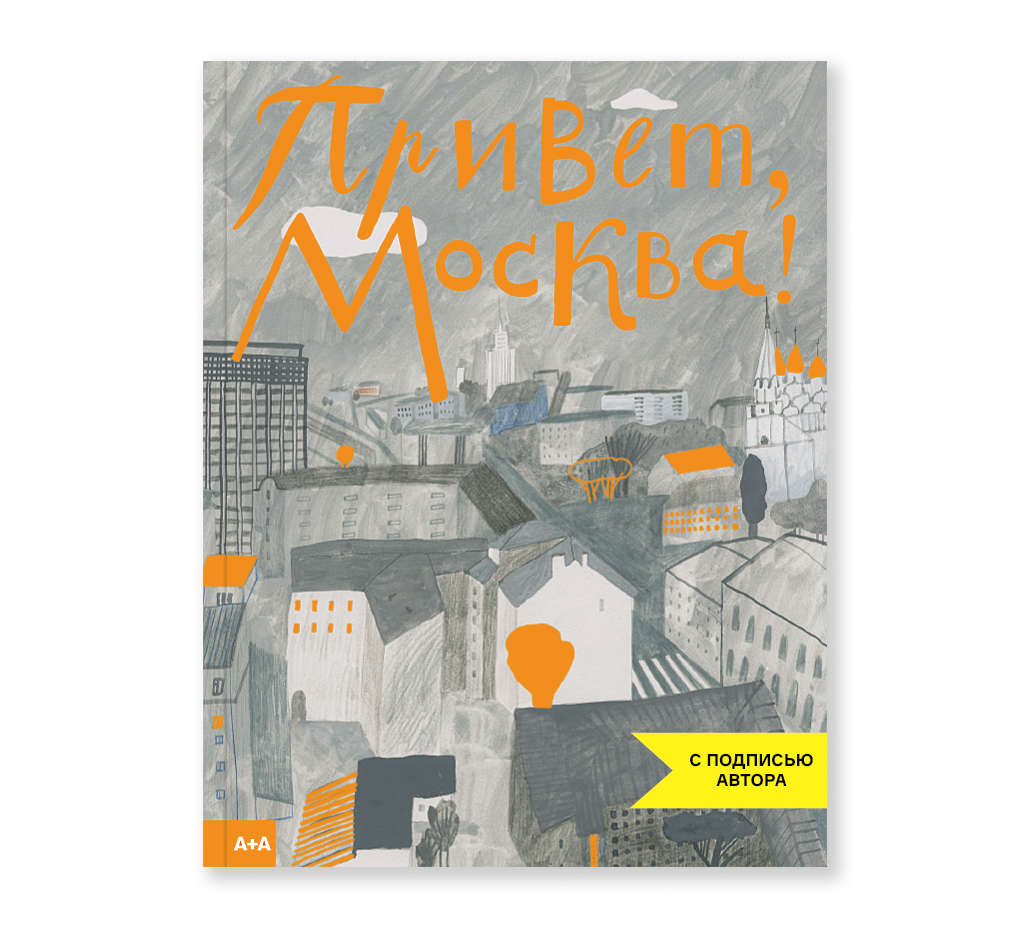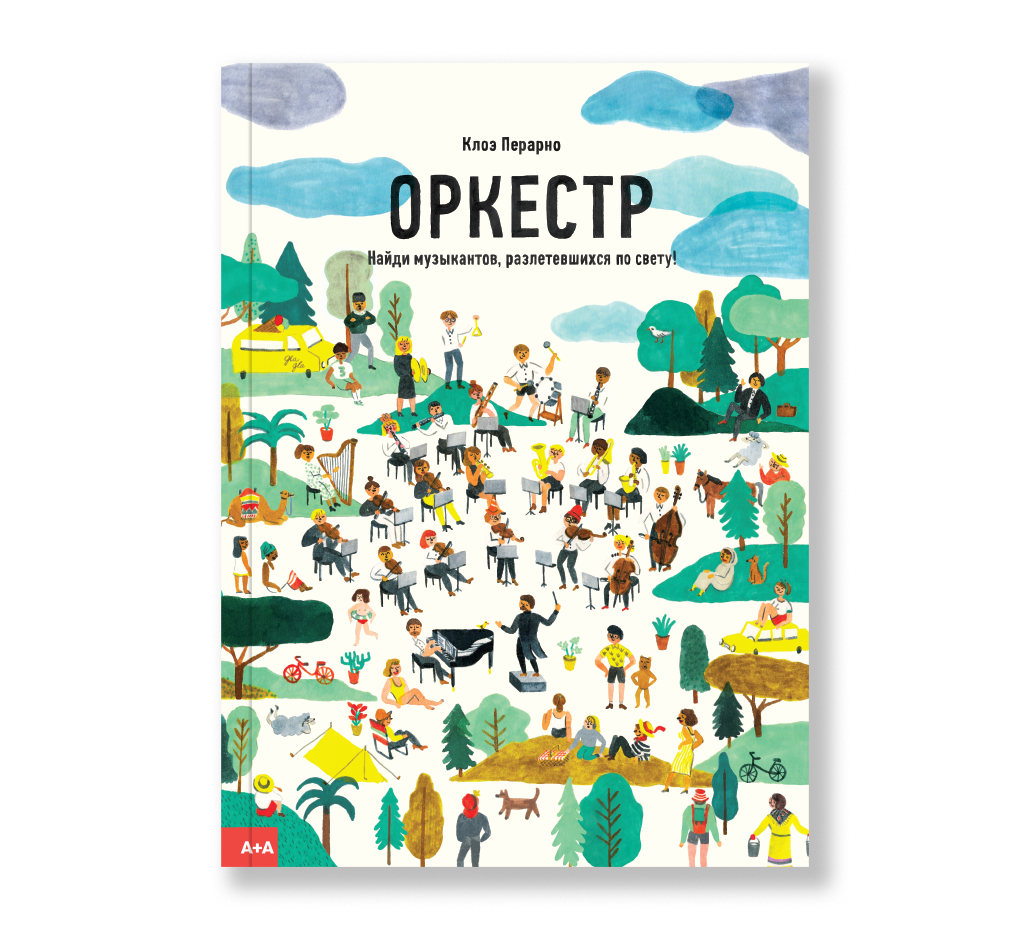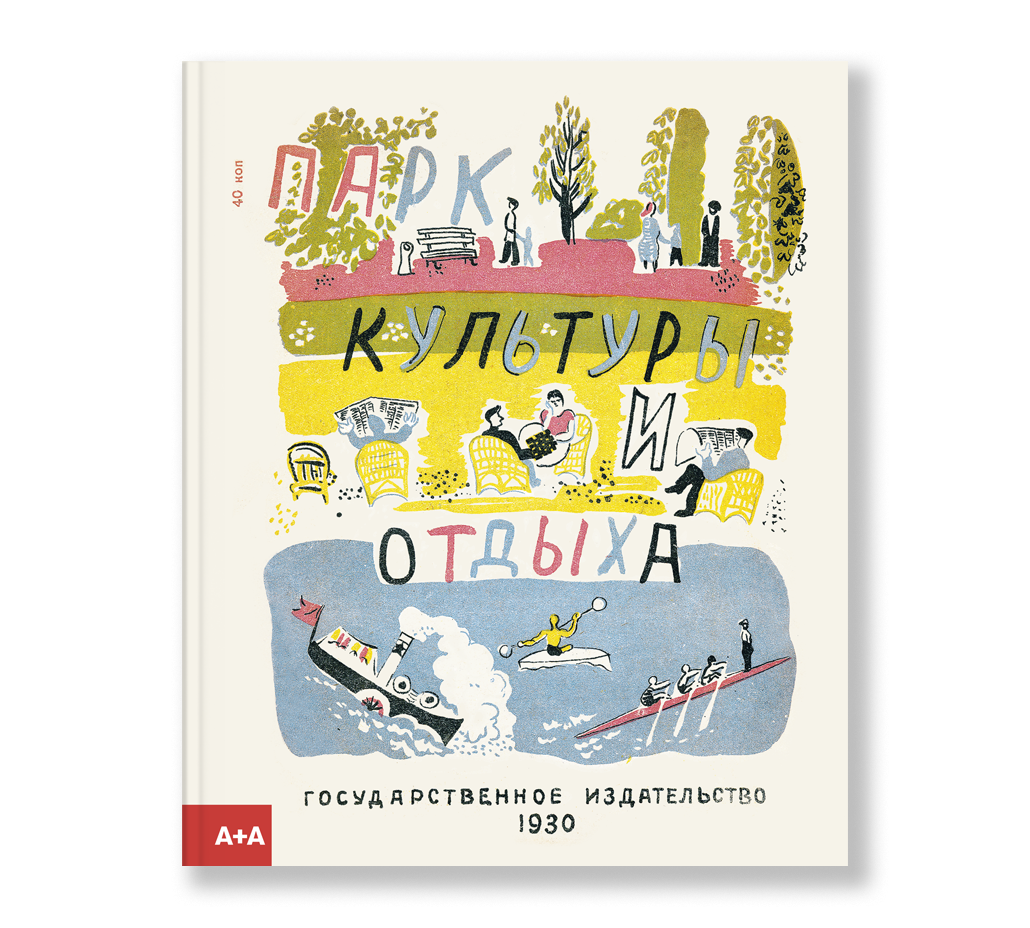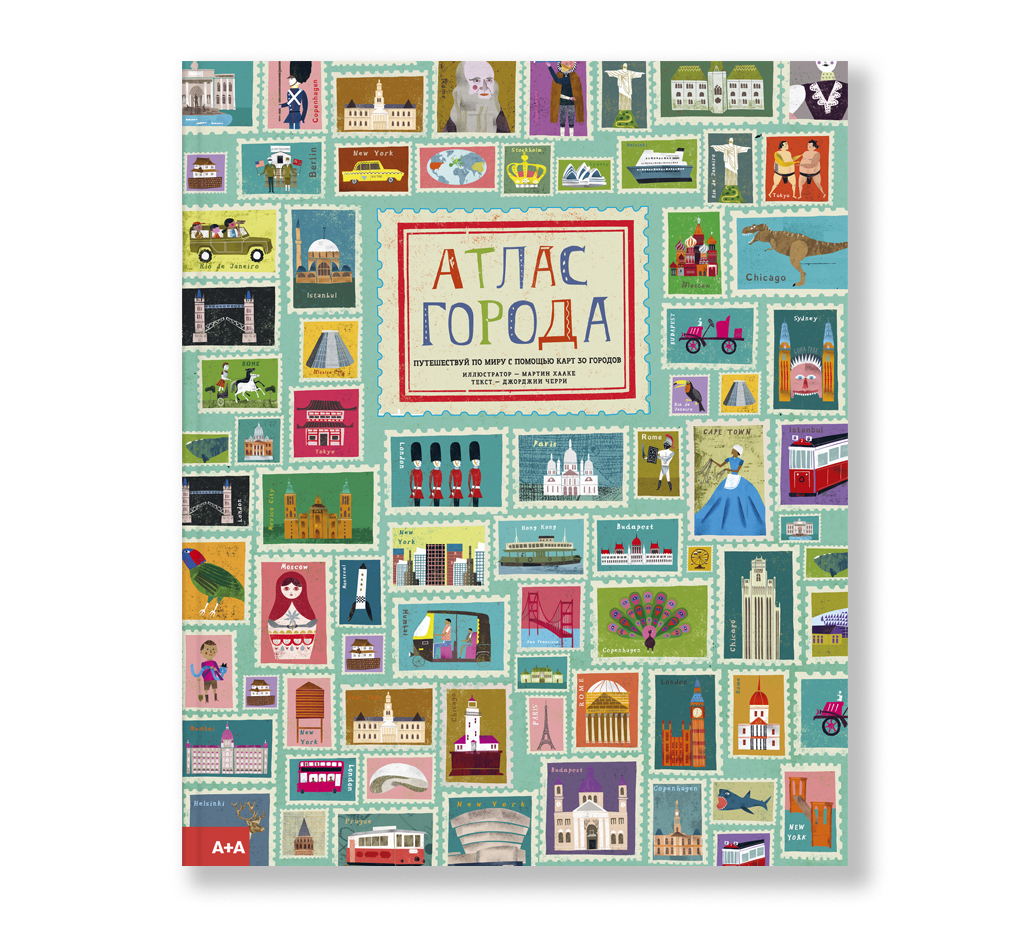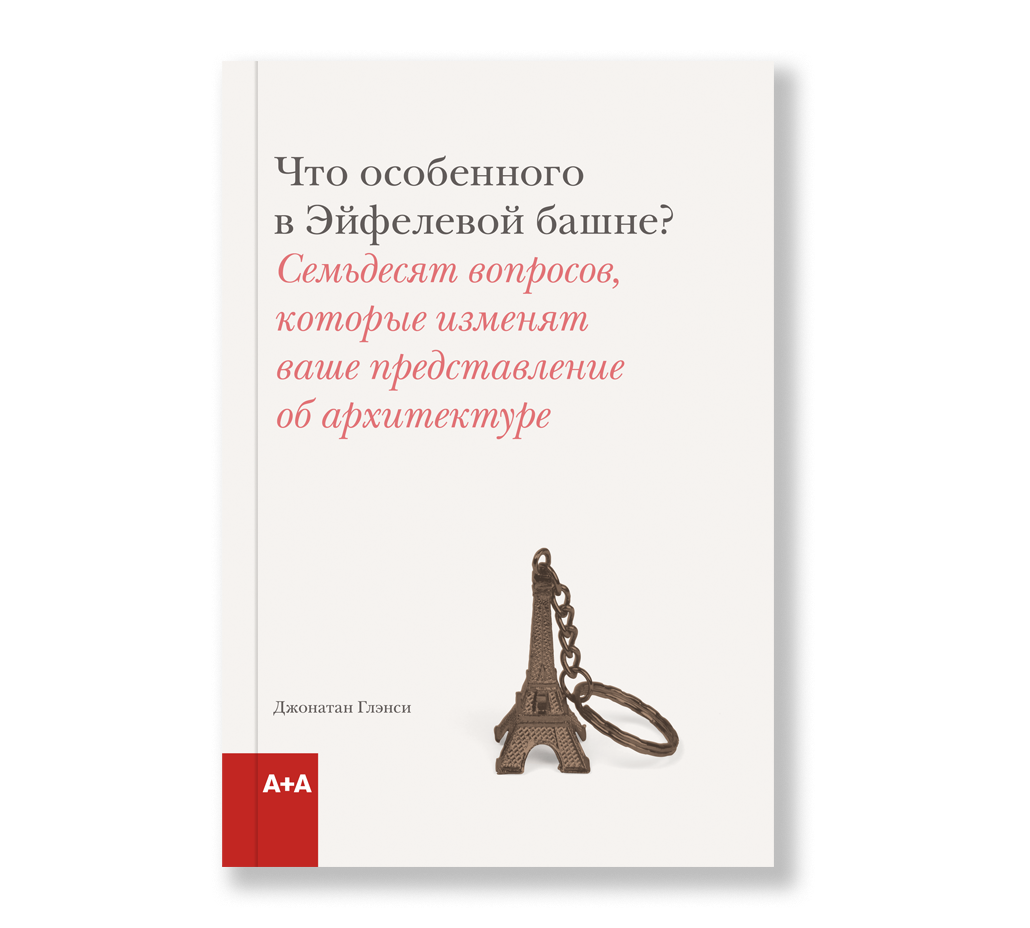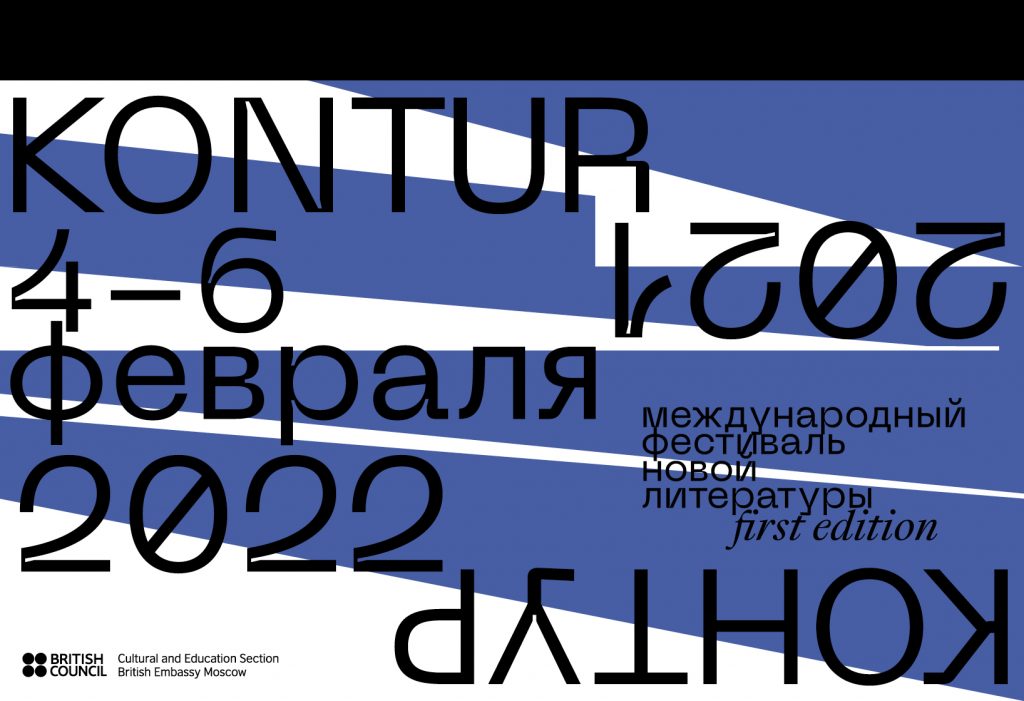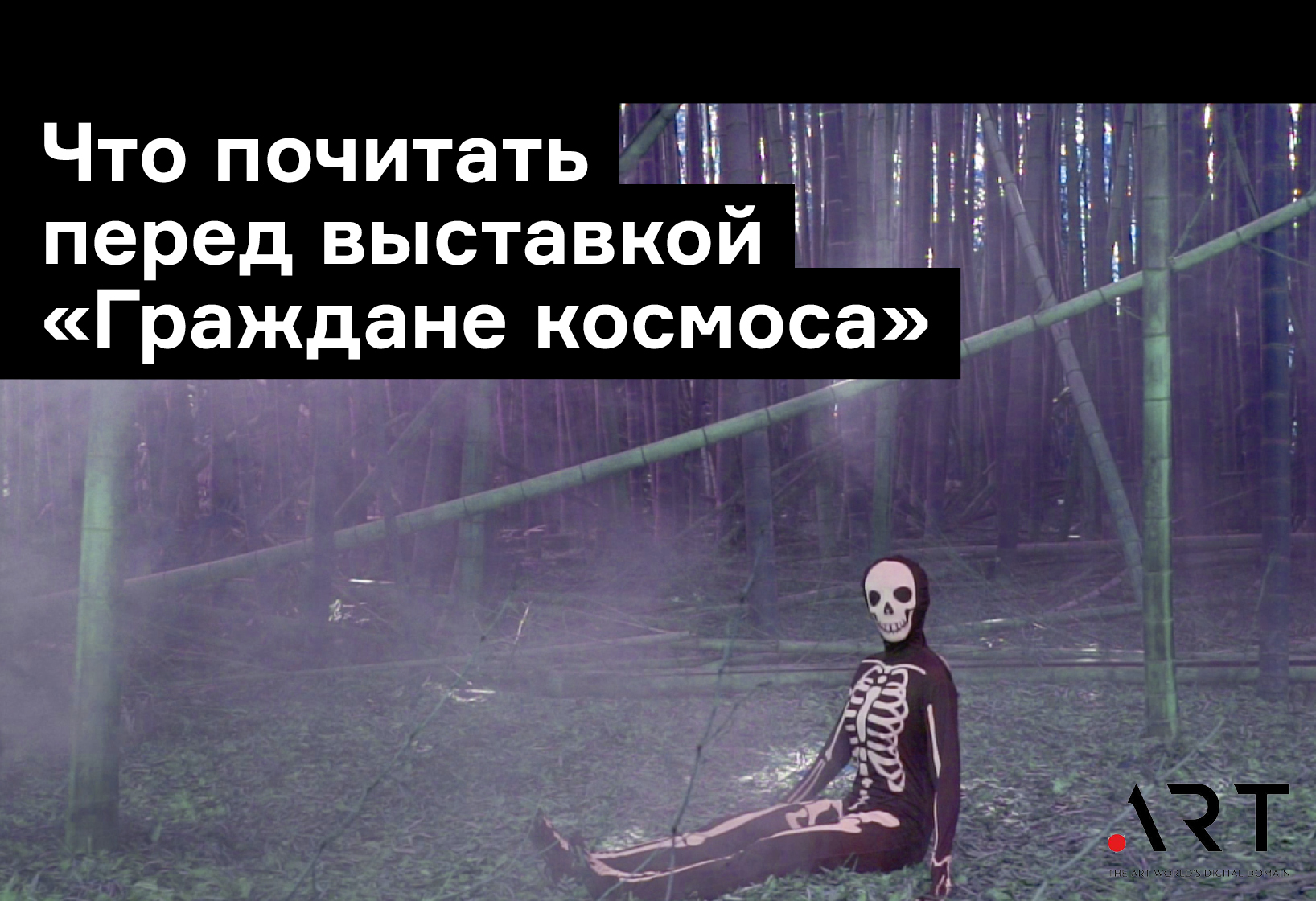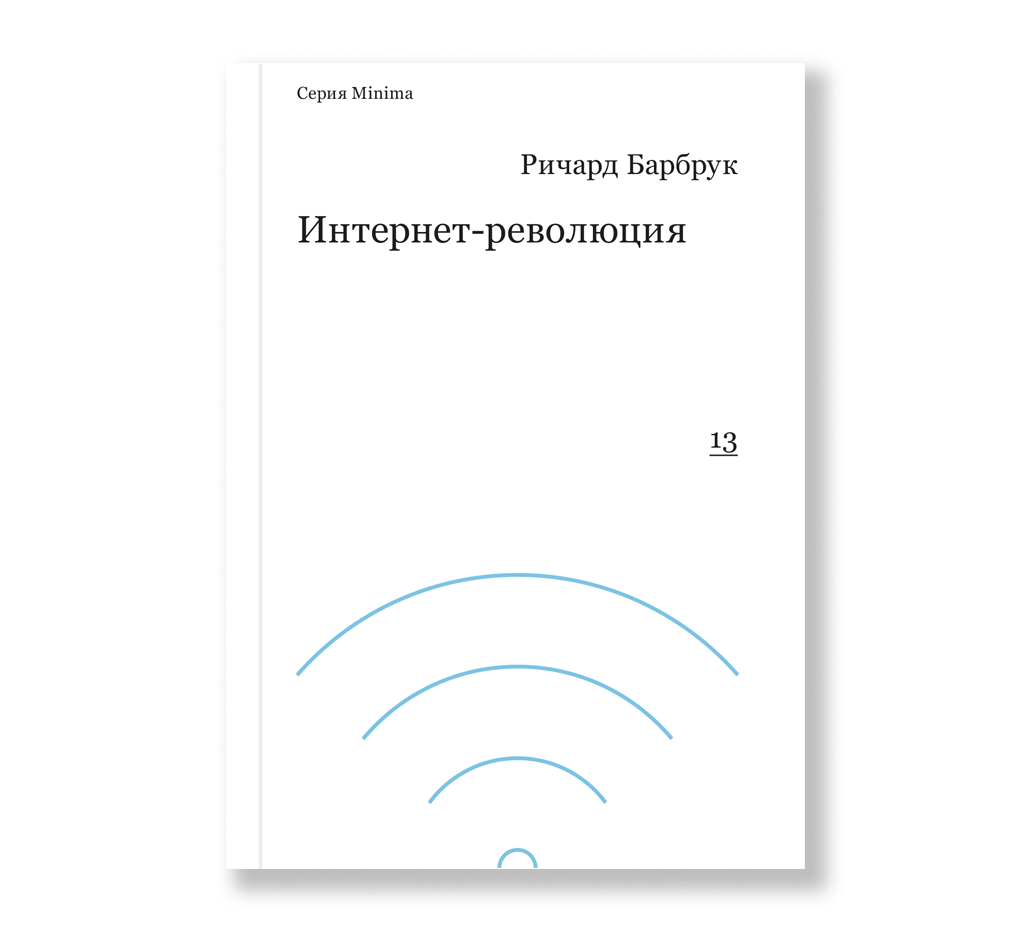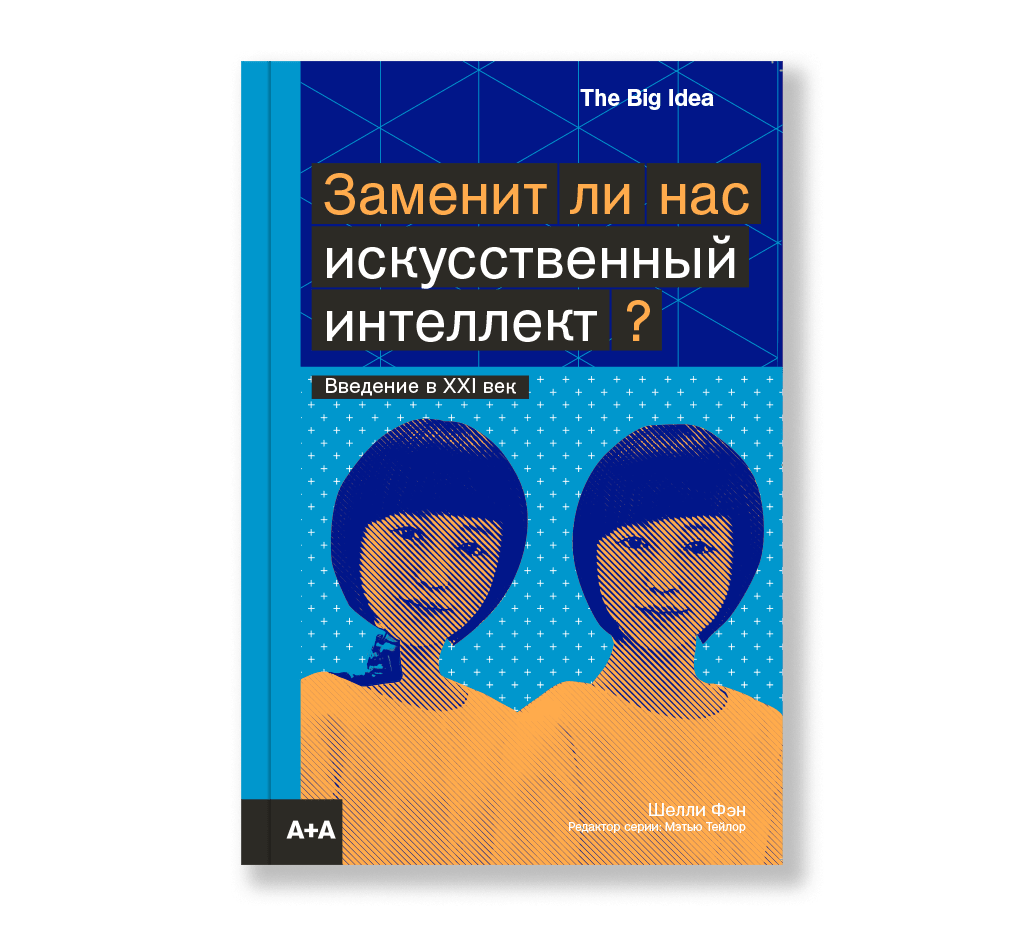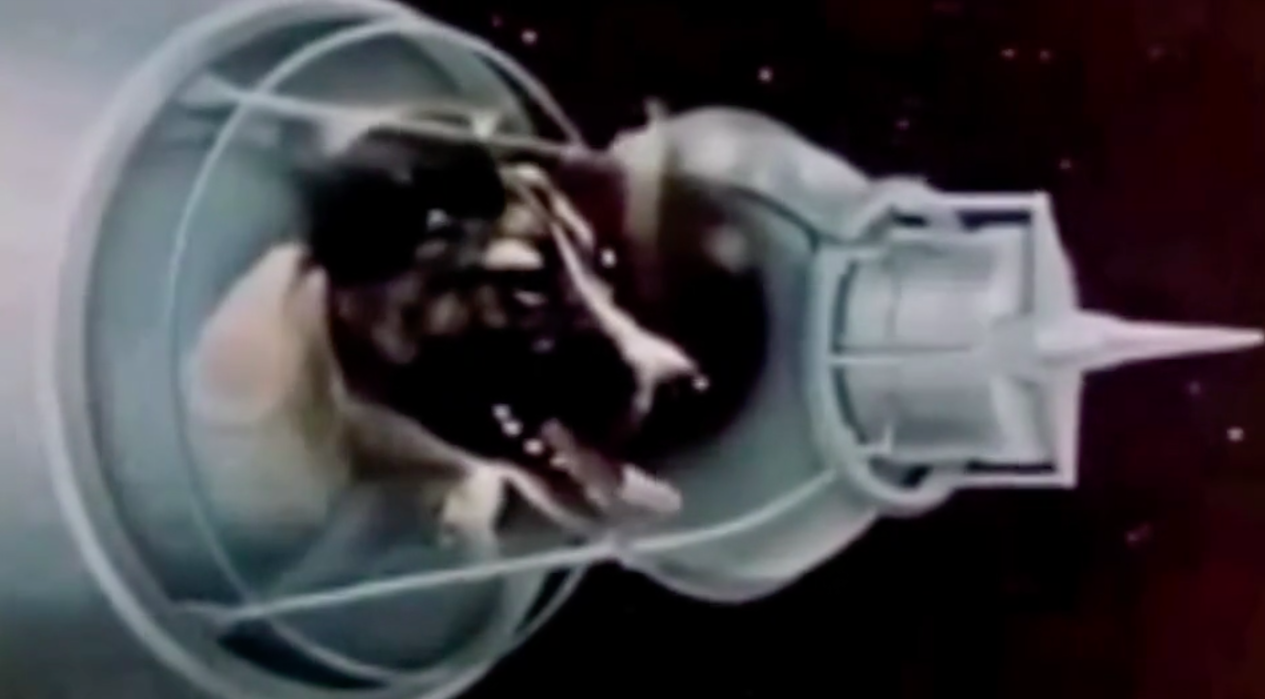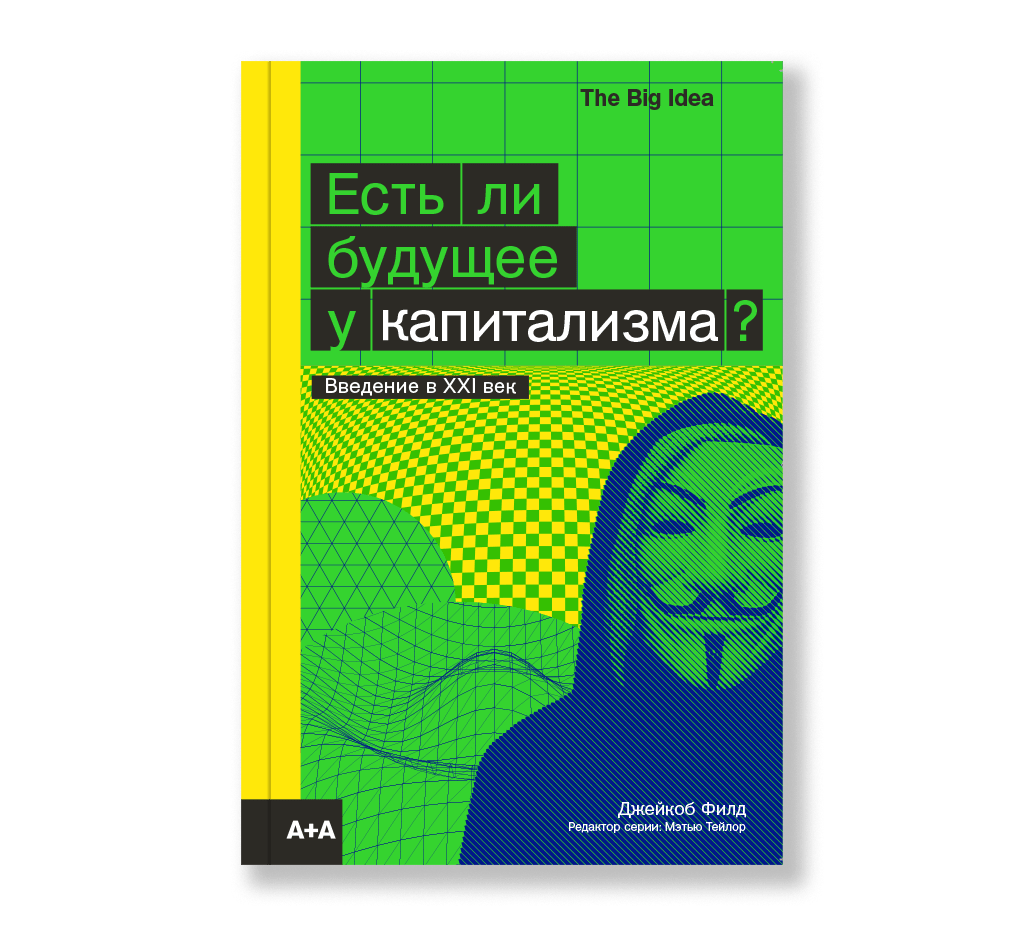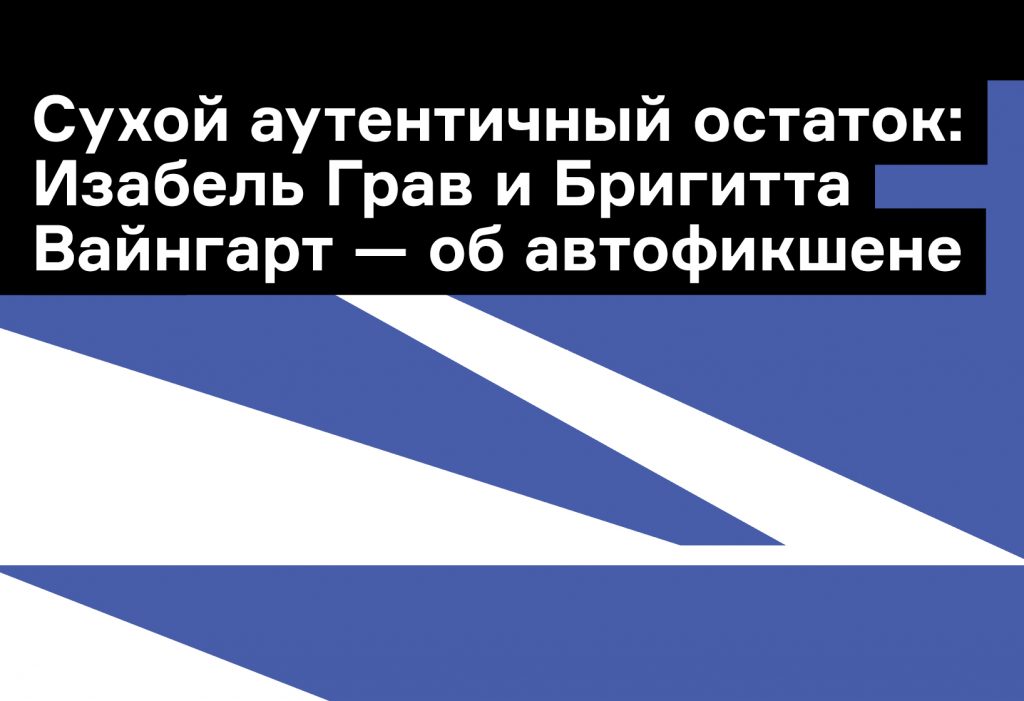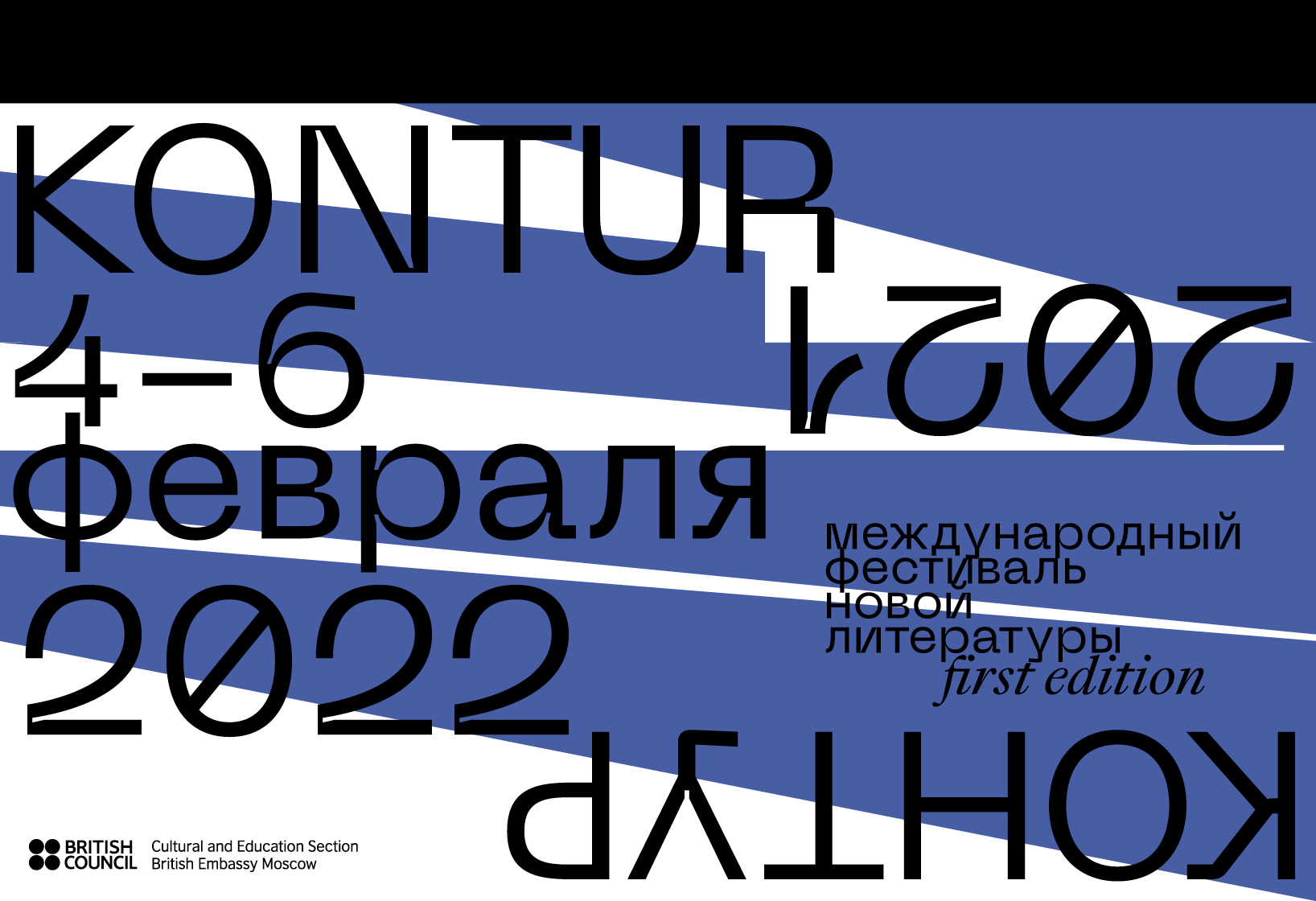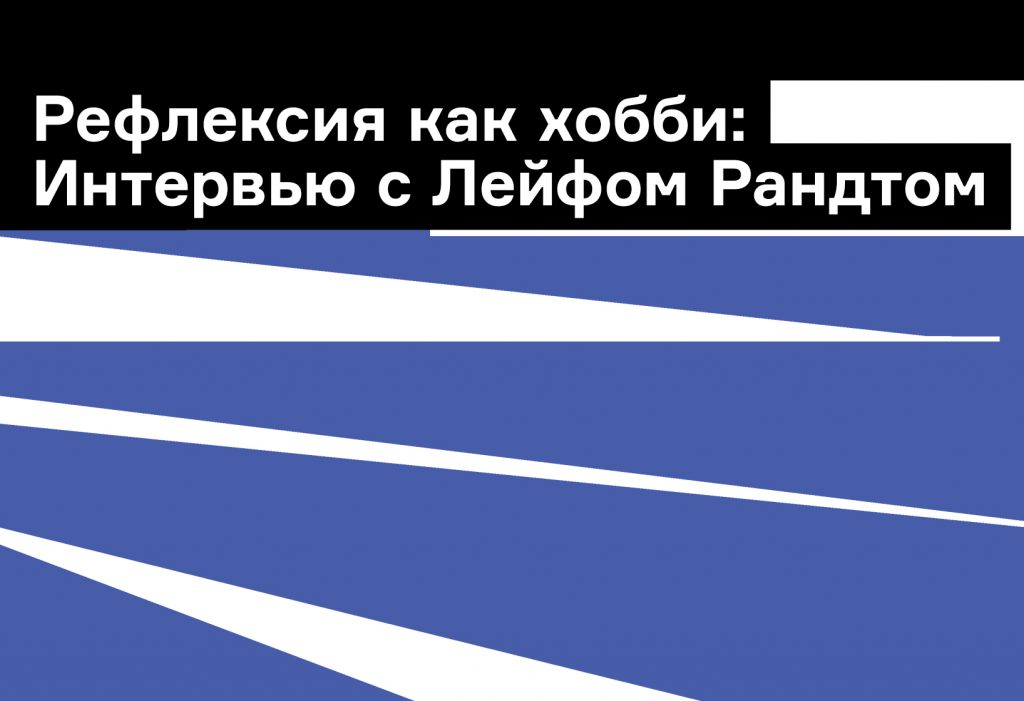К выходу сборника Сары Даниус «Смерть домохозяйки и другие тексты», в который вошли эссе о литературе, философии, моде и модной фотографии, делимся препринтом из него. Публикуем эссе Даниус об Умберто Эко и его книге «История красоты».
Красота скучна. Она, конечно, приятна. Радует глаз, доставляет удовольствие, иногда пробуждает желание.
Но красота редко будоражит нервы. Она основана на гармонии, пропорции и умеренности. Она стремится к совершенству. Ей не нужна революция. Она говорит, что добро повсюду. Когда красоты слишком много, она утомляет. Это известно всякому посетителю музея, как и всякому читателю журнала Vogue.
А вот уродство — другое дело!
Уродство неизменно и неотвратимо возбуждает. Оно бесформенное, безвкусное, неприглядное, отталкивающее, отвратительное, вызывающее, противное, мерзкое, гнусное, пугающее, безумное, жуткое, тревожащее, грязное, вульгарное, непристойное, гротескное, страшное, низкое, грубое, омерзительное, извращенное, непокорное, кошмарное, преступное, порочное, дьявольское, ведьминское, ненавистное.
Говоря короче: уродство безгранично. Ничто так не ужасает, как уродство, — разве что смерть.
Умберто Эко многое знает о прекрасном; под его редакцией вышел внушительный том под названием «История красоты» (2004). Книга информативная, но, возможно, не слишком глубокая; скорее антология, нежели исследование. Но зато какая антология! Эко совершает историко-культурный обзор, который сопровождается потрясающим иллюстративным материалом и цитатами из работ западных мыслителей от Сократа до Барта.
Но Эко также уделил внимание уродству, за что мы должны быть ему благодарны. И не только потому, что как философ безобразного, Эко намного искрометнее, чем как теоретик прекрасного, но и потому, что западные философы мало что имели сказать об уродстве. История эстетики сосредоточена на прекрасном и возвышенном, а не на безобразном.
А ведь уродство имеет такую богатую историю! Об этом, помимо прочего, мы узнаём из книги Эко, а это само по себе немало. «Прекрасное имеет лишь один облик; уродливое имеет их тысячу», — писал Виктор Гюго.
Мало кто понимал это так же хорошо, как философ XVIII века Шлегель. Интересное одерживает верх над прекрасным, полагал он. То, что отличает классическое античное искусство от современного, можно выразить одним словом: уродство. Для того чтобы постичь романтическое искусство, необходимо понять пристрастие к безобразному.
Так была расчищена дорога для реализма — для бородавчатых носов Бальзака, бодлеровских гниющих женских тел, флоберовского описания Эммы Бовари, умирающей от отравления мышьяком. Полвека спустя будет воспета красота машин (Маринетти) и очарование сопливо-зеленого моря (Джойс). А вскоре после этого настанет время и для любования графичным изяществом консервных банок (Уорхол).
В книге о красоте Умберто Эко выдвинул важный тезис. Он желал доказать, что красота не обладает неизменной сущностью. Красота относительна, утверждал Эко; она привязана к определенному времени и определенной культуре. У каждой эпохи — свой идеал красоты. Истина, конечно, общеизвестная. Эко пытался вломиться в открытую дверь.
В следующей книге он формулирует ту же мысль, но теперь применительно к уродству. В этой книге тоже нет ничего такого, что заставило бы читателя упасть со стула. И тем не менее «История уродства» (2007) — работа смелая и поучительная. Конечно, Эко здесь так же несется по верхам, как и в книге о красоте. Он беспечно пробегает мимо таких важных пунктов, как экономика, политика и социум. Тезис об относительности уродства повисает в воздухе.
Но зато Эко удается кое-что другое. Он показывает, что у безобразного есть своя собственная история. Эко идет по стопам Карла Розенкранца, который в 1853 году написал книгу «Эстетика безобразного» и был одним
из немногих, кто пытался систематизировать уродство. Всё не так просто, и нельзя сказать, что уродство — это всего лишь не-красота. Проявления безобразного намного разнообразнее и сложнее; уродство — нечто совсем иное, чем серия негативных снимков красоты.
Но прежде всего, говорит Эко, нужно научиться различать две вещи. Первая — это собственно безобразное (экскременты, омерзительные гниющие раны, разлагающийся труп). В том, что это отвратительно, сходились все культуры во все времена.
Вторая — это нечто, имеющее уродливую форму: беззубый рот старика, непомерно толстая колонна античного храма. Подобные идеалы менялись на протяжении истории, и именно это интересует Эко. Возьмем, например, безобразного Приапа, божество с гигантским детородным членом, свисающим до колен. Приап был сыном Афродиты и богом плодородия. Звучит мило, но на самом деле над Приапом все потешались. Он ведь был совершенно несуразный. Так что он не имел успеха у женщин и вынужден был довольствоваться тем, что стоял столбом посреди полей, оберегая урожай. Его также использовали в качестве пугала.
Непристойно большое, особенно у мужчин, вызывает насмешки. А в случае с женщинами? Ничто не вызывает отвращение столь сильное, как женское уродство. Почему так? Эко не разъясняет, но отвращение наверняка было бы меньшим, если бы женщина не считалась воплощением красоты — будь то Мадонны и Венеры Боттичелли или грациозные дамы с золотистыми локонами на полотнах Россетти.
Увядание красоты напоминает нам о бренности всего сущего. Стоит взглянуть на уродливую женщину, да еще и старуху, и мы услышим дыхание смерти за спиной. Женское уродство — оплеуха цивилизации.
Вот как говорит римский поэт Марциал:
Хоть видишь столько, сколько видит сыч утром,
И пахнешь точно так же, как самцы козьи,
И как у тощей утки у тебя гузка,
И тазом ты костлявей, чем старик-киник;
Хоть, только потушивши свет, ведет банщик
Тебя помыться ко кладбищенским шлюхам <…>
Пускай могильщик пред тобой несет факел:
Один лишь он подходит для твой страсти.
Между строк в книге Эко легко распознать контуры типичного западного нарратива о мужчинах, власти и потенции. Эта книга — шкатулка, до краев наполненная жемчугом, уродливым жемчугом; она напоминает рассуждения Жоржа Батая об эстетике большого пальца ноги.
Вопрос в том, удалось ли Батаю приблизиться к раскрытию тайны уродства. Человек делает всё возможное, чтобы возвыситься над грязью земной, а большой палец постоянно напоминает человеку о его сути (дитя природы) и участи (смерть). Большой палец ужасен и трупоподобен, но в то же время он наделен гордыней. Мало того, что большой палец ноги насмехается над чело- веком, — он унижает его. Он напоминает человеку о его обреченной на провал борьбе с природой. Большой палец говорит: помни о смерти!
Разве не удивительно, что многие считают уродством, если женщина летом выставляет напоказ не накрашенные ногти на ногах? Иными словами: демонстрируй, на здоровье, свои прелести; свой пышный бюст, свой мягкий живот и красивую задницу, но избавь нас от созерцания твоих нахальных больших пальцев на ногах, пока они не отмечены знаками цивилизации.