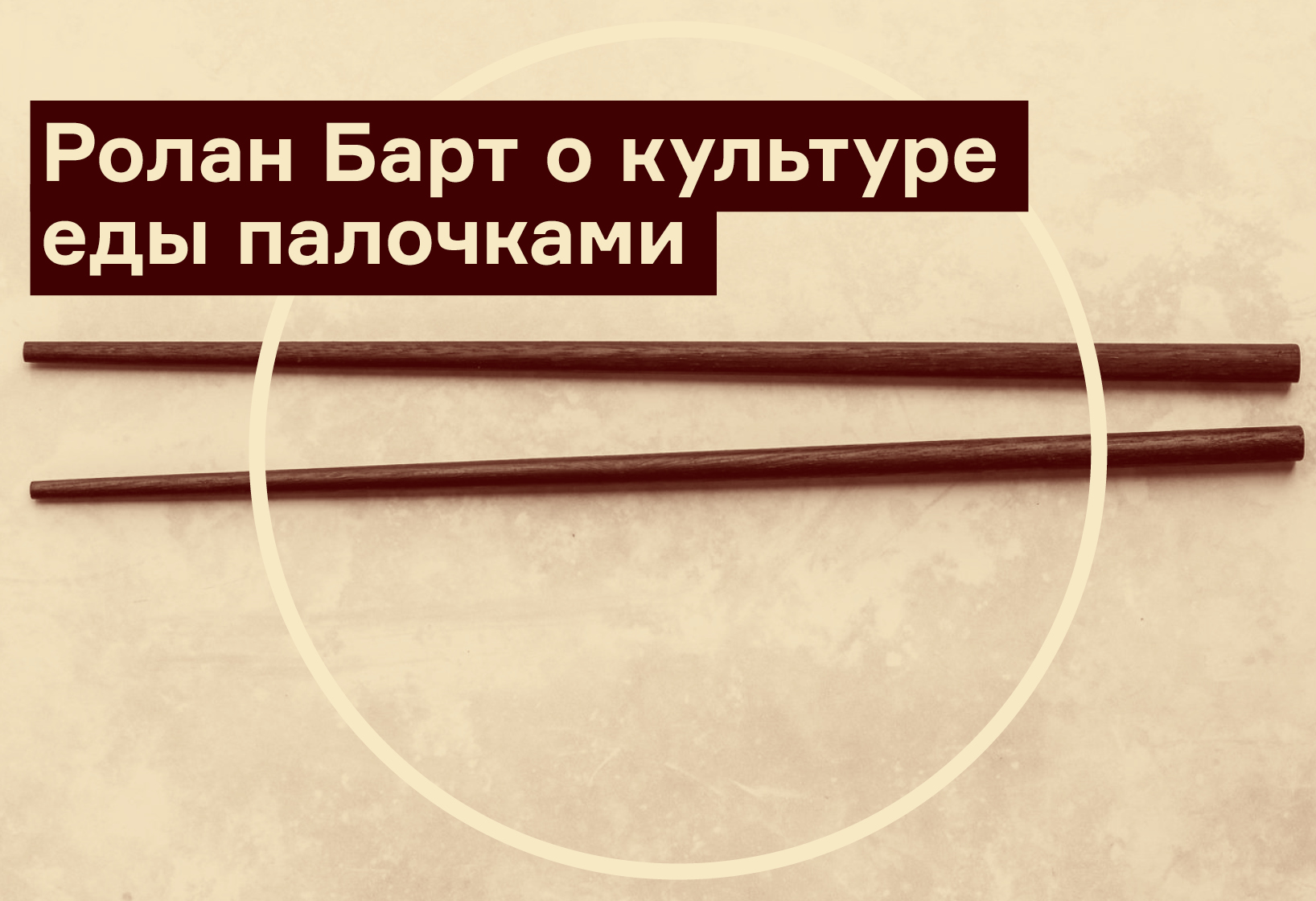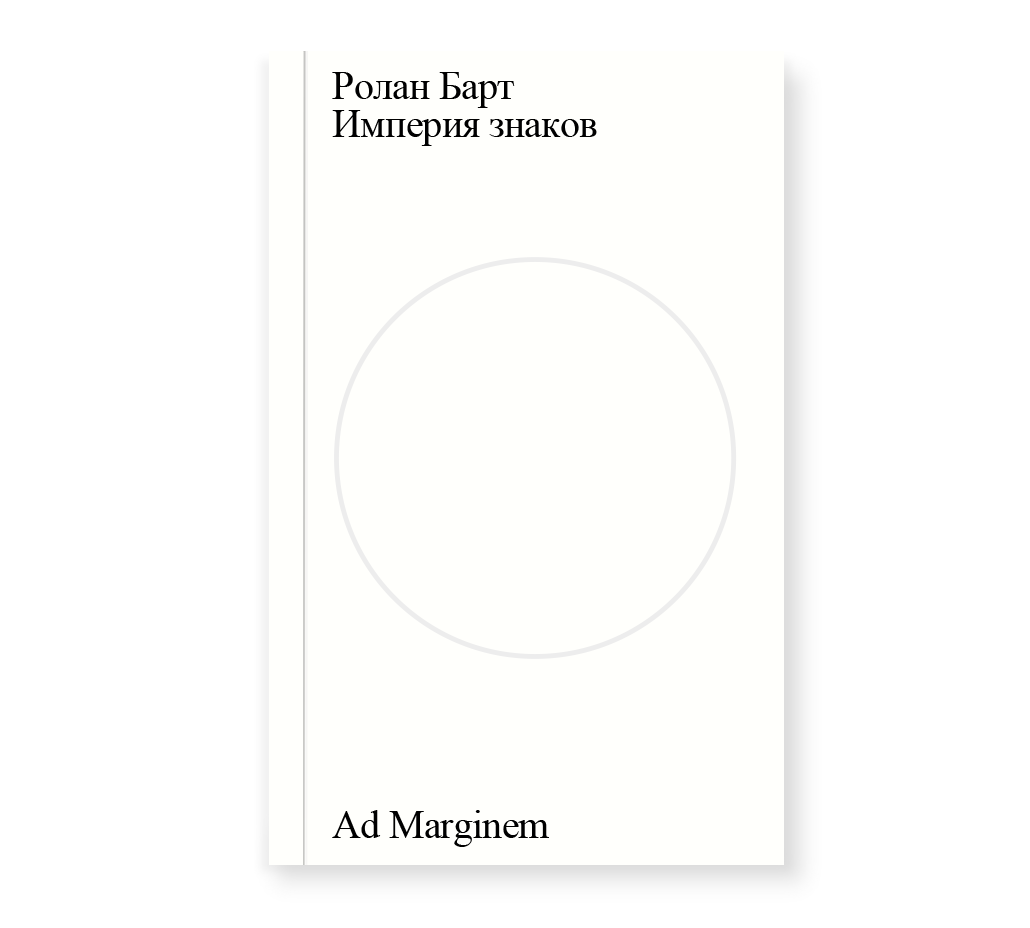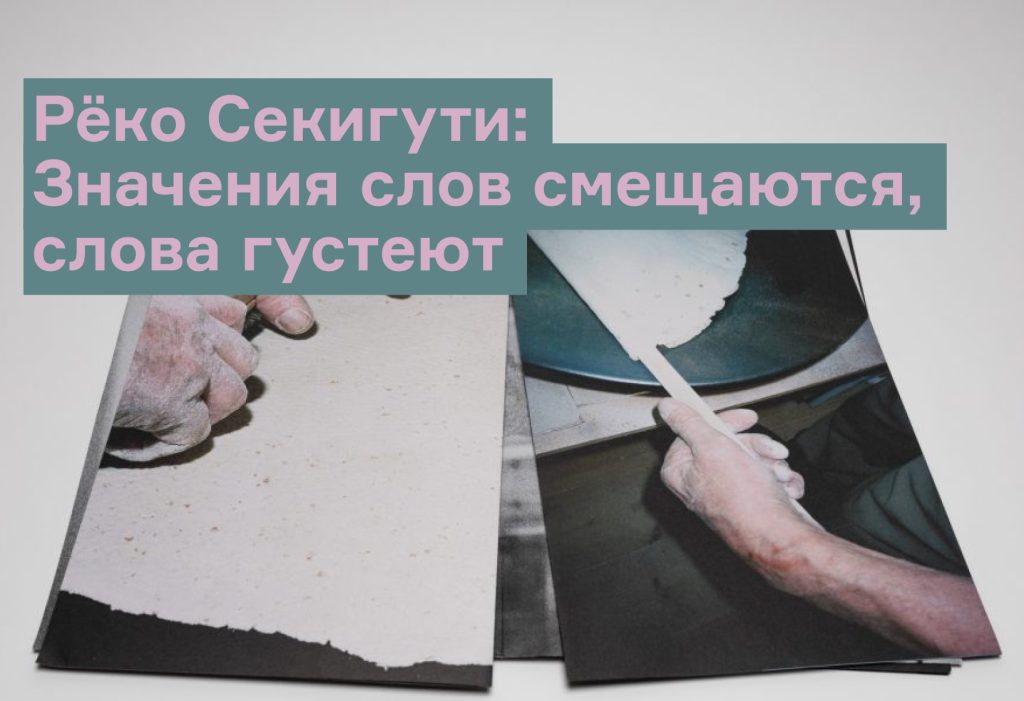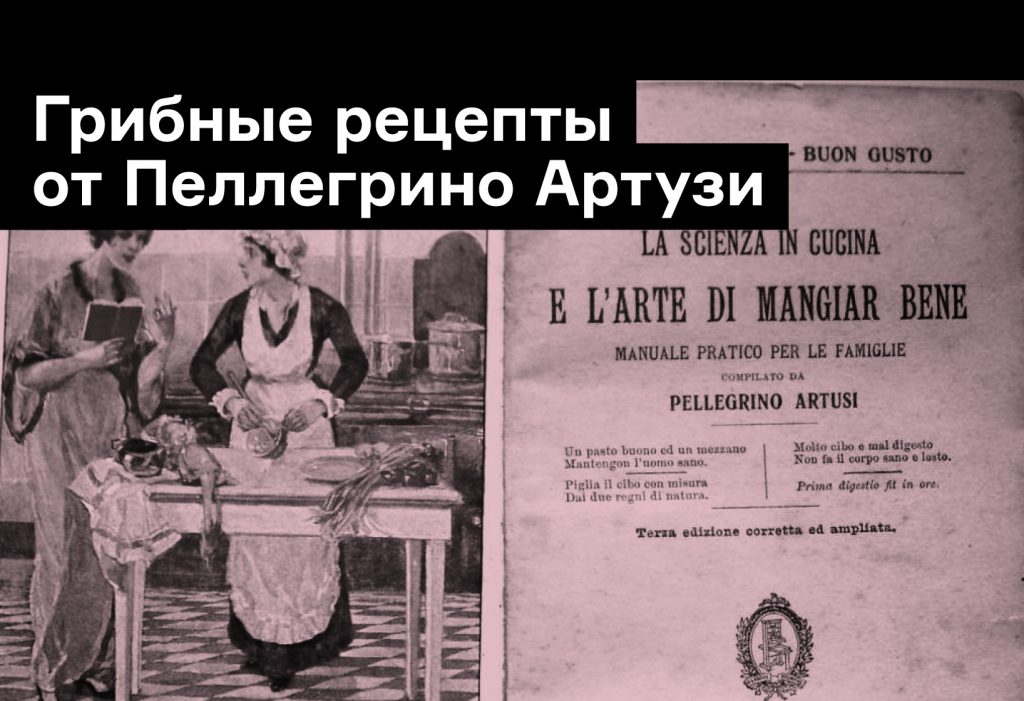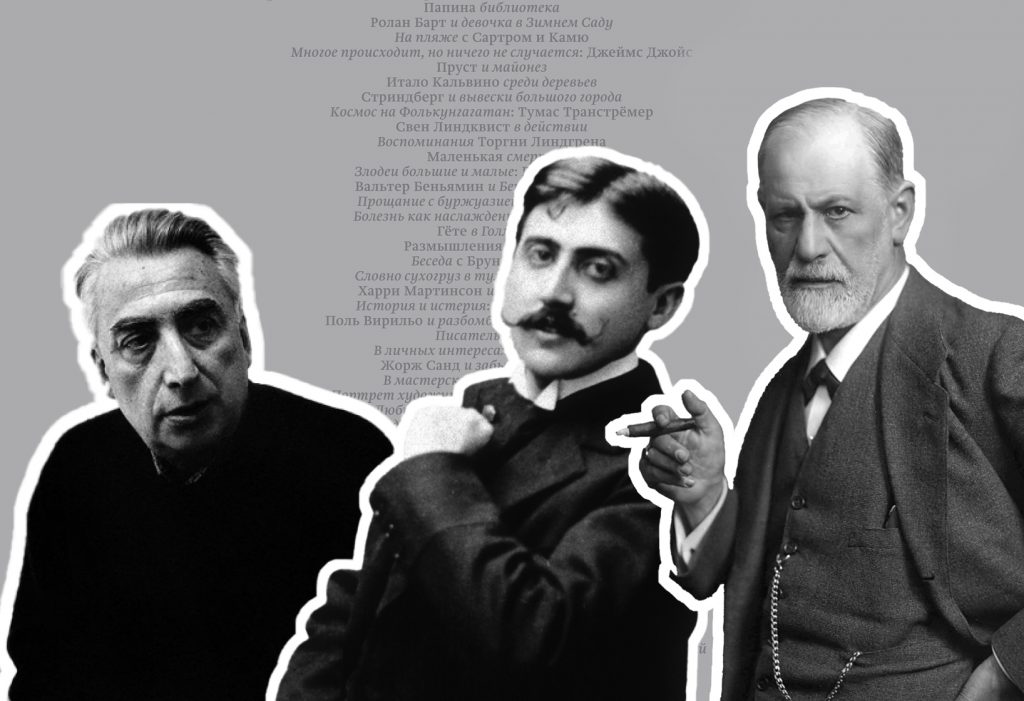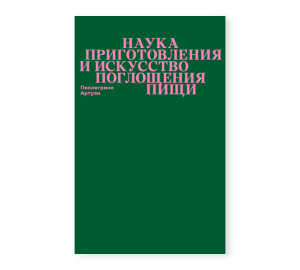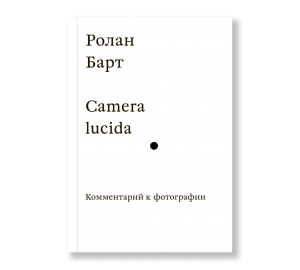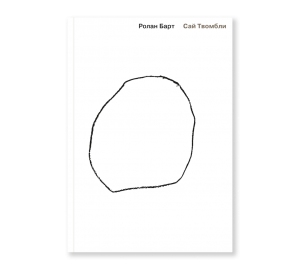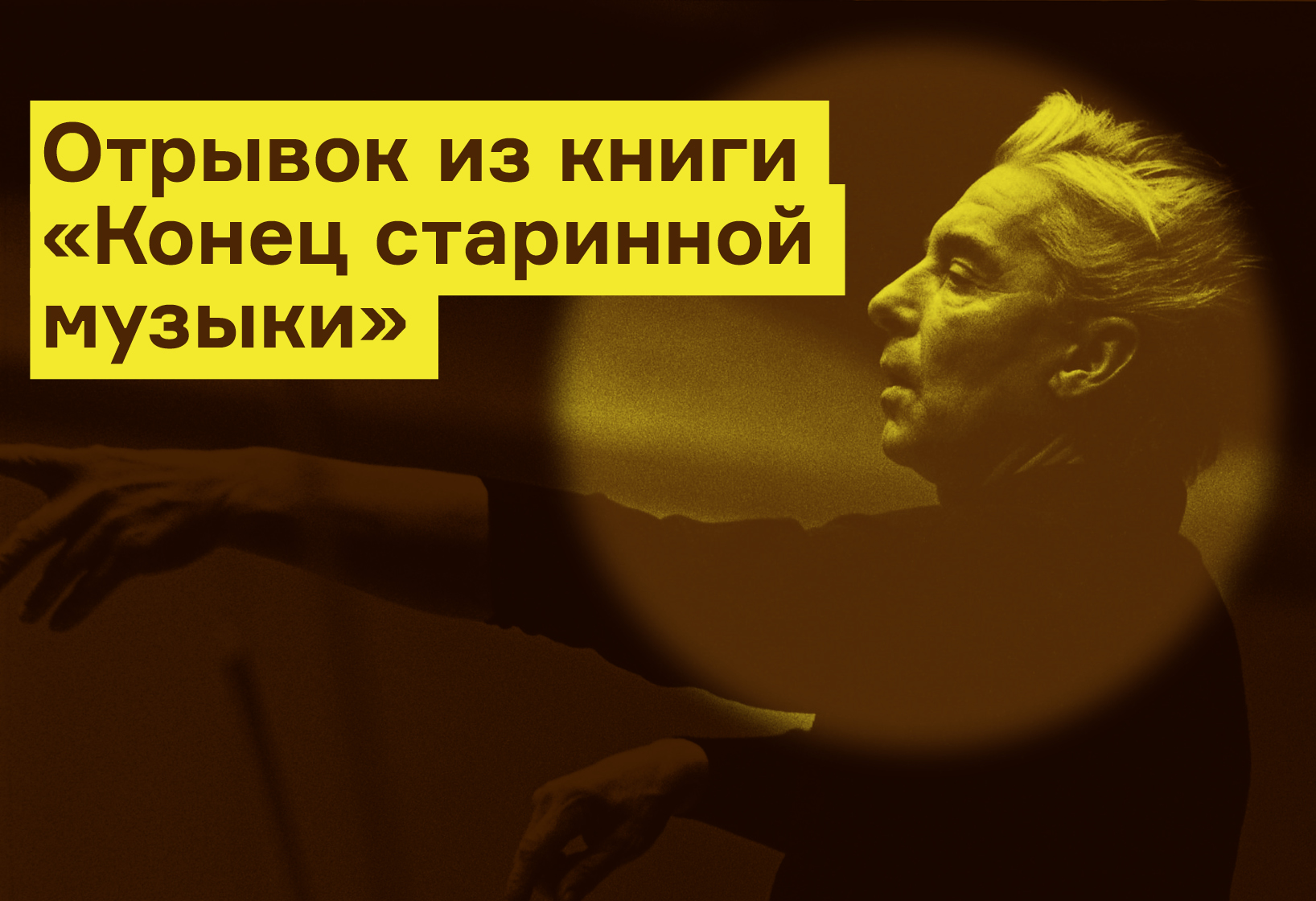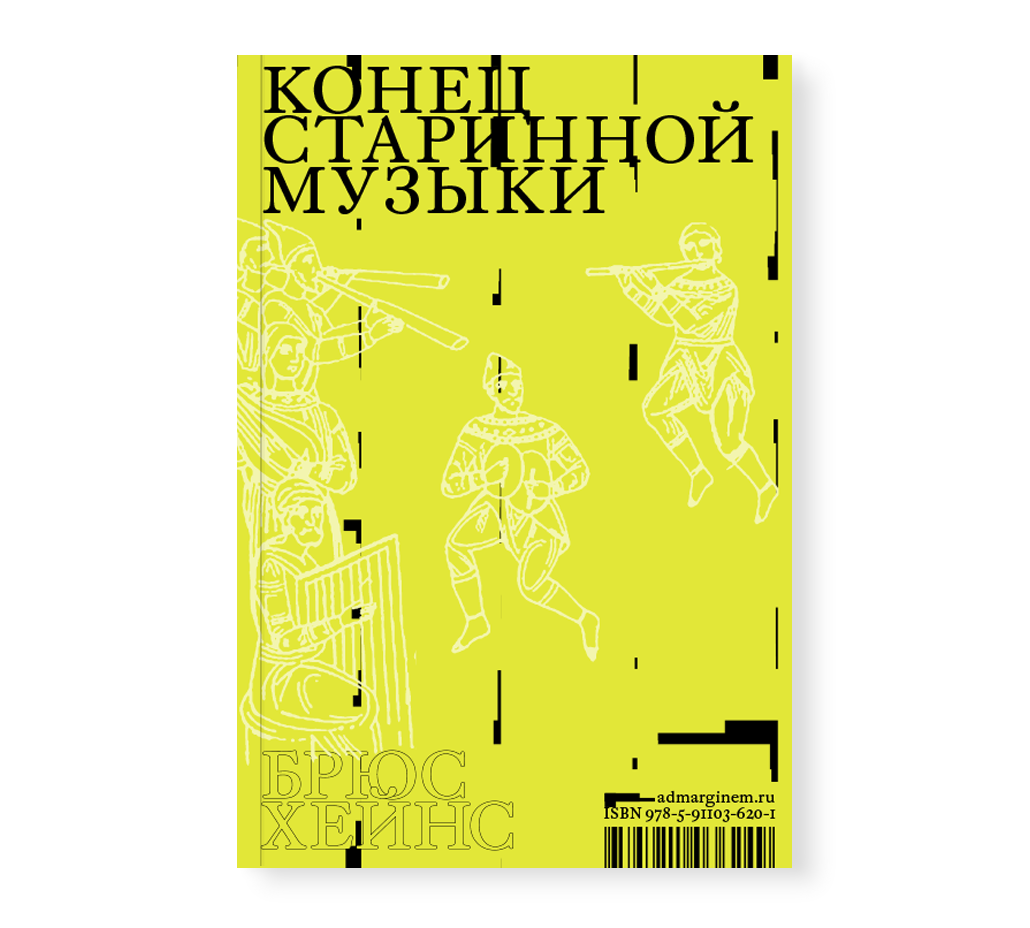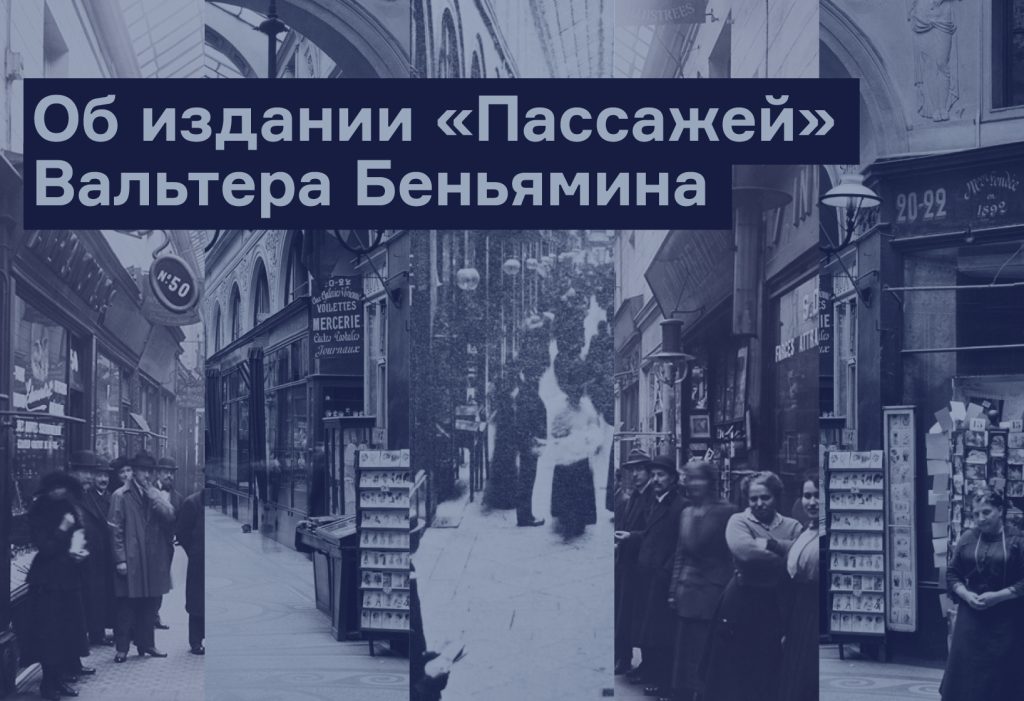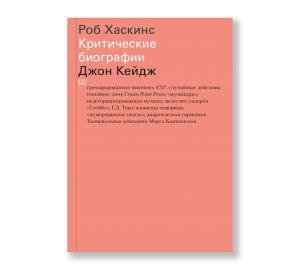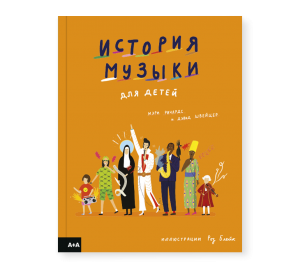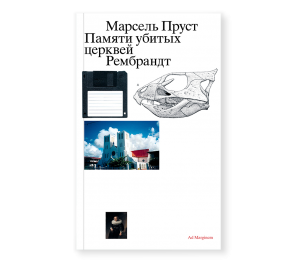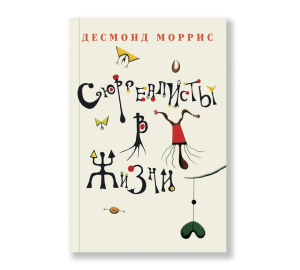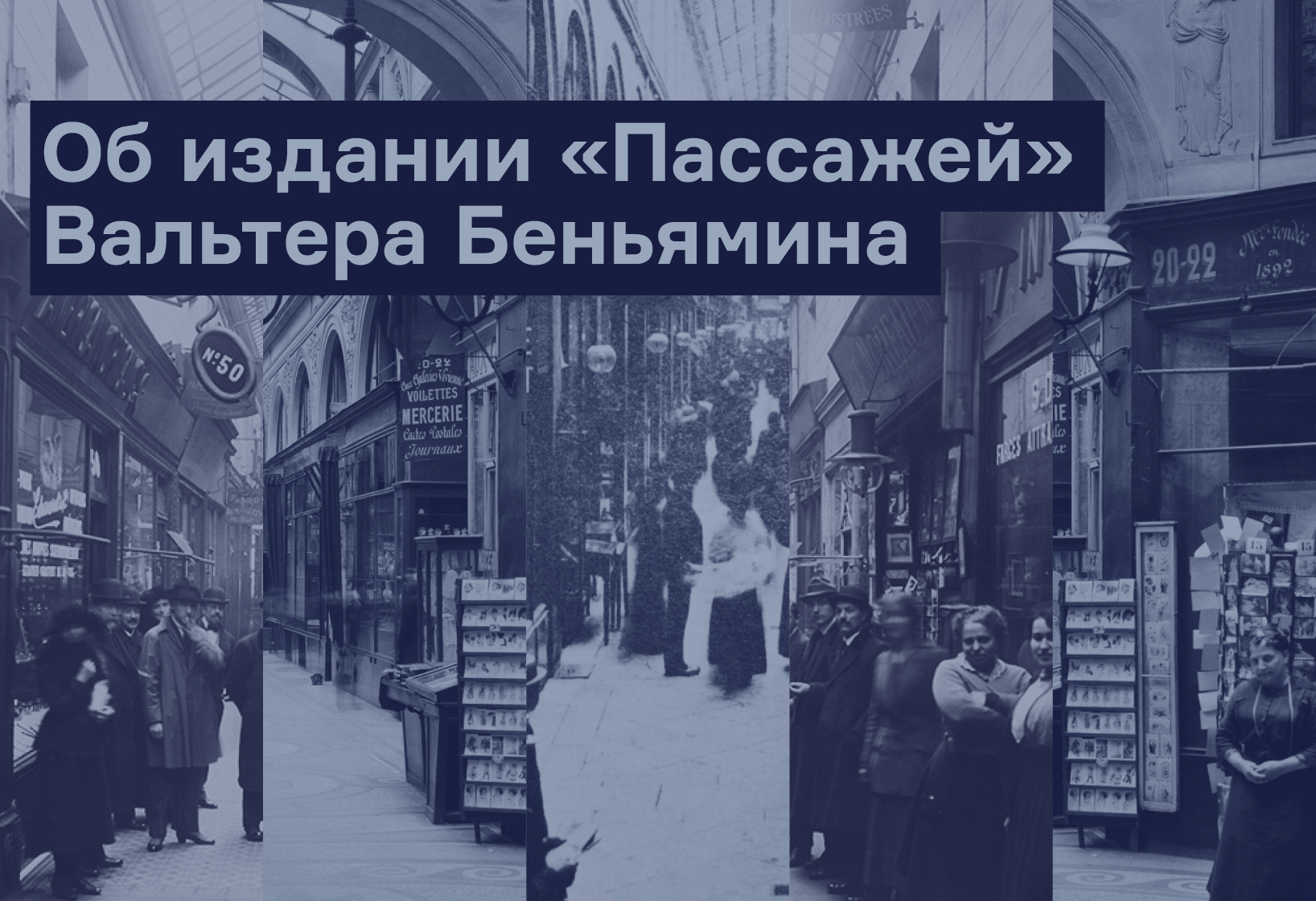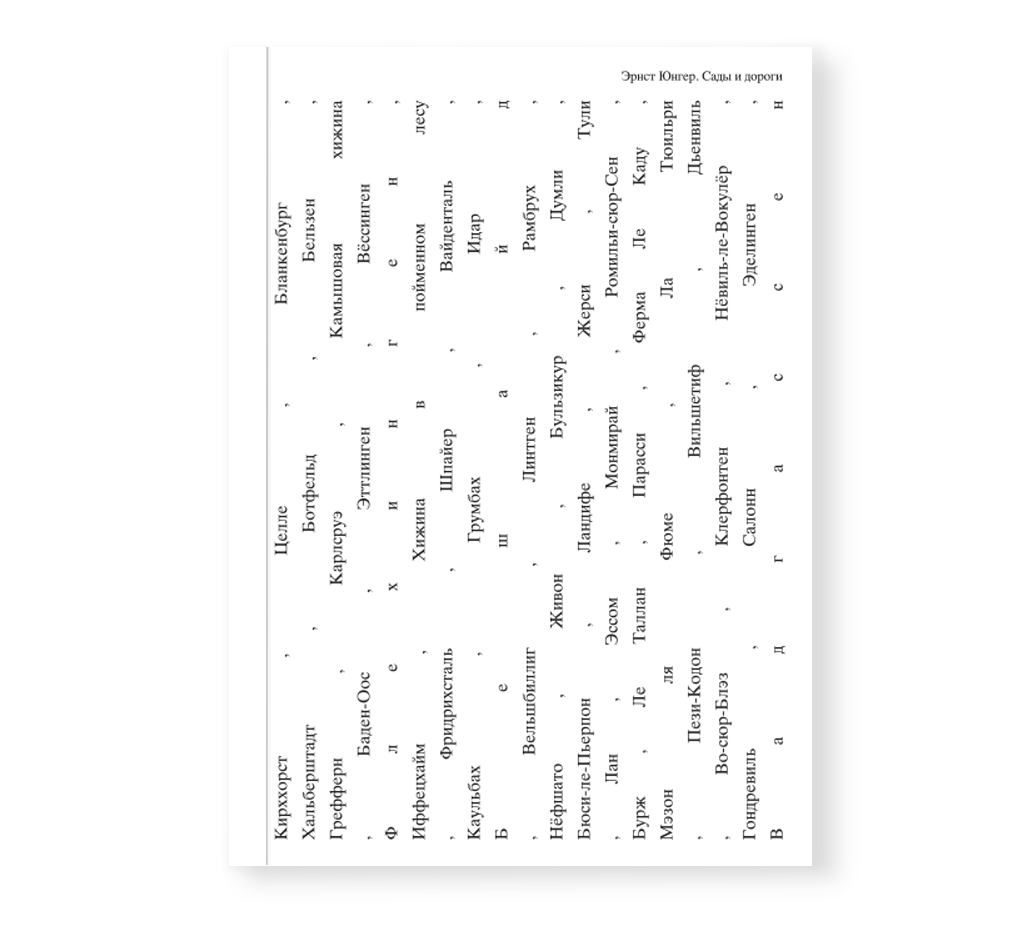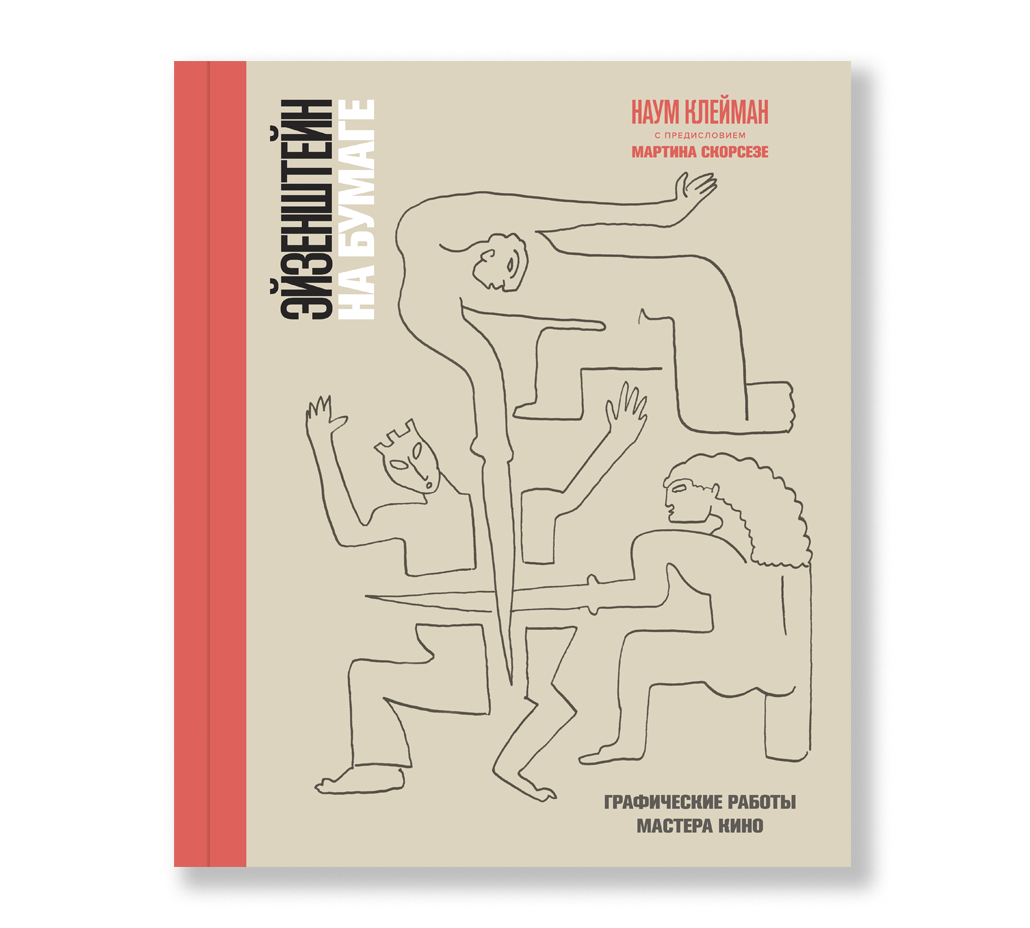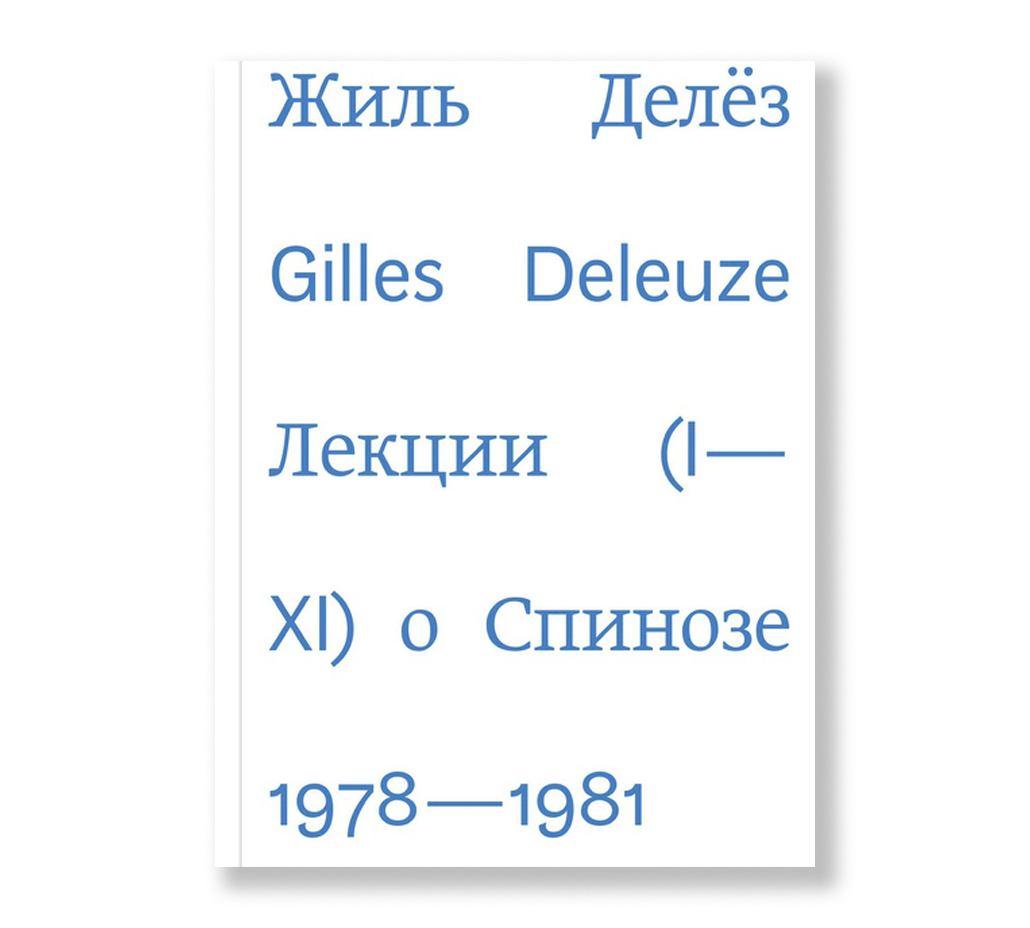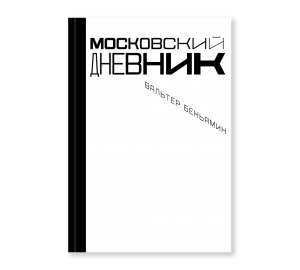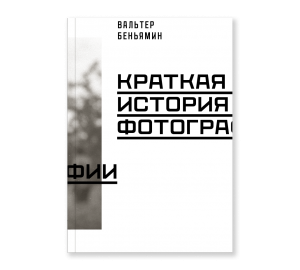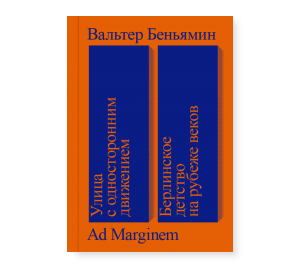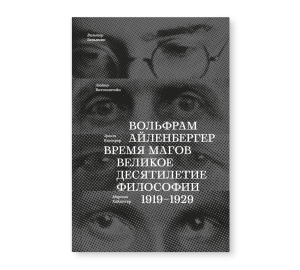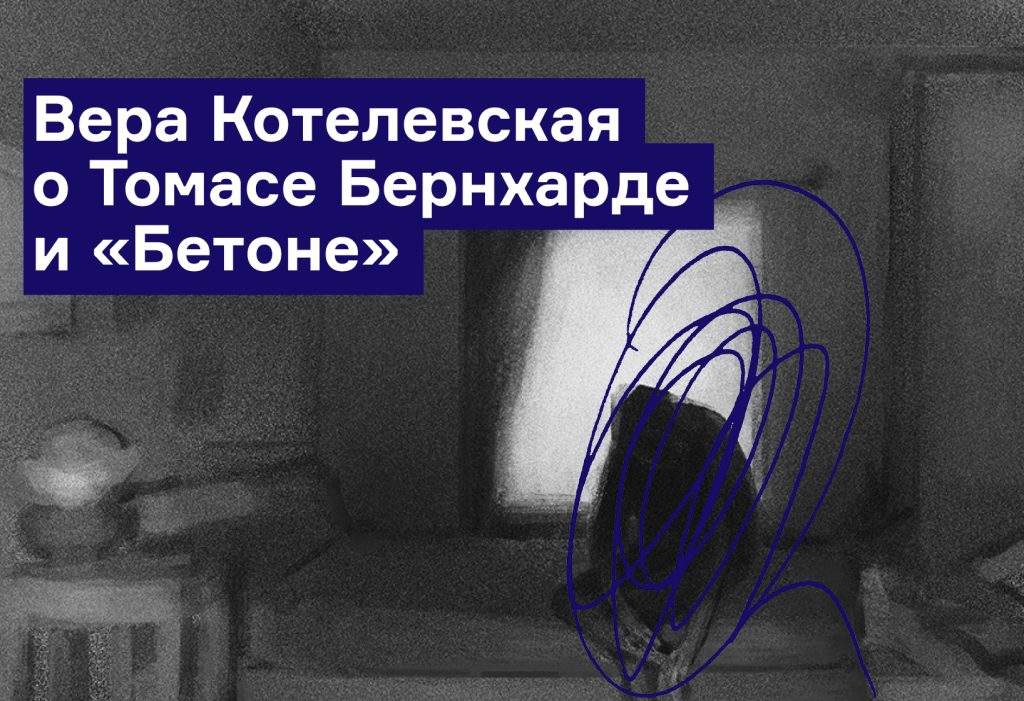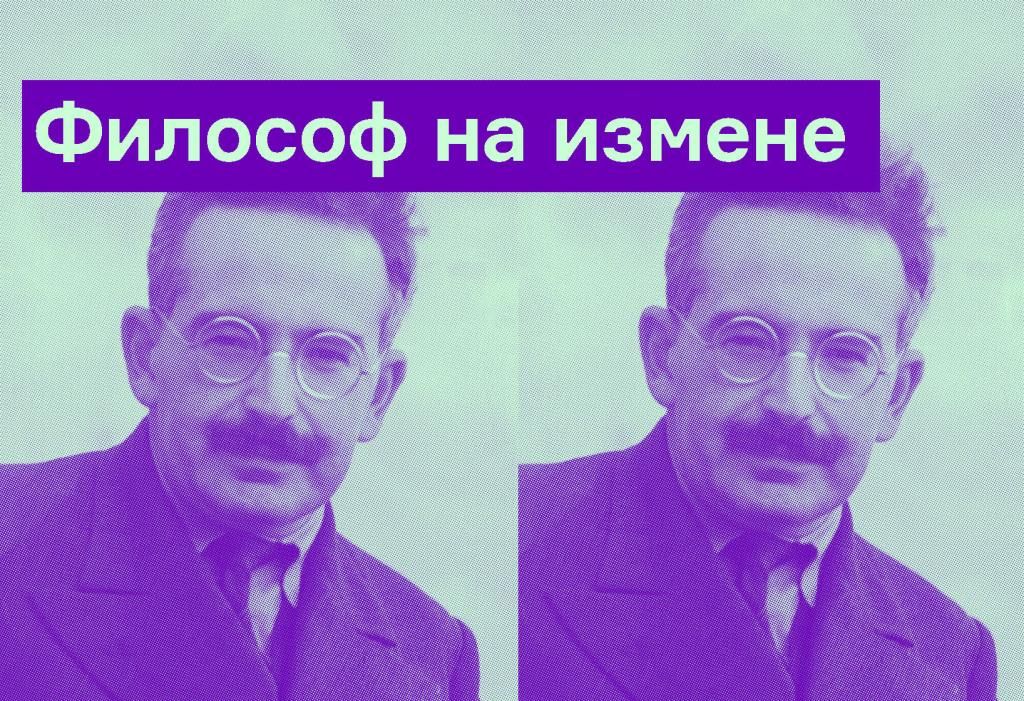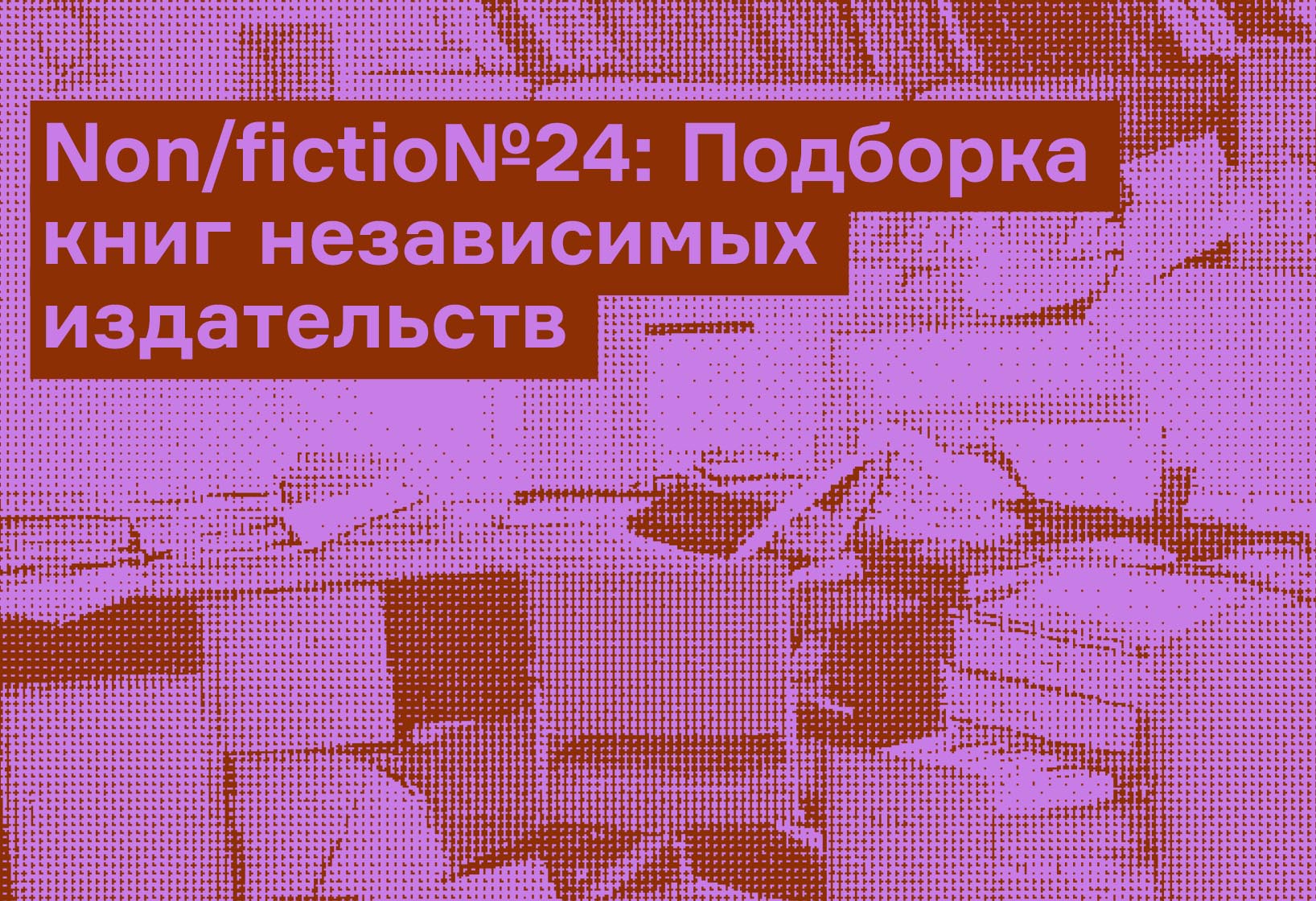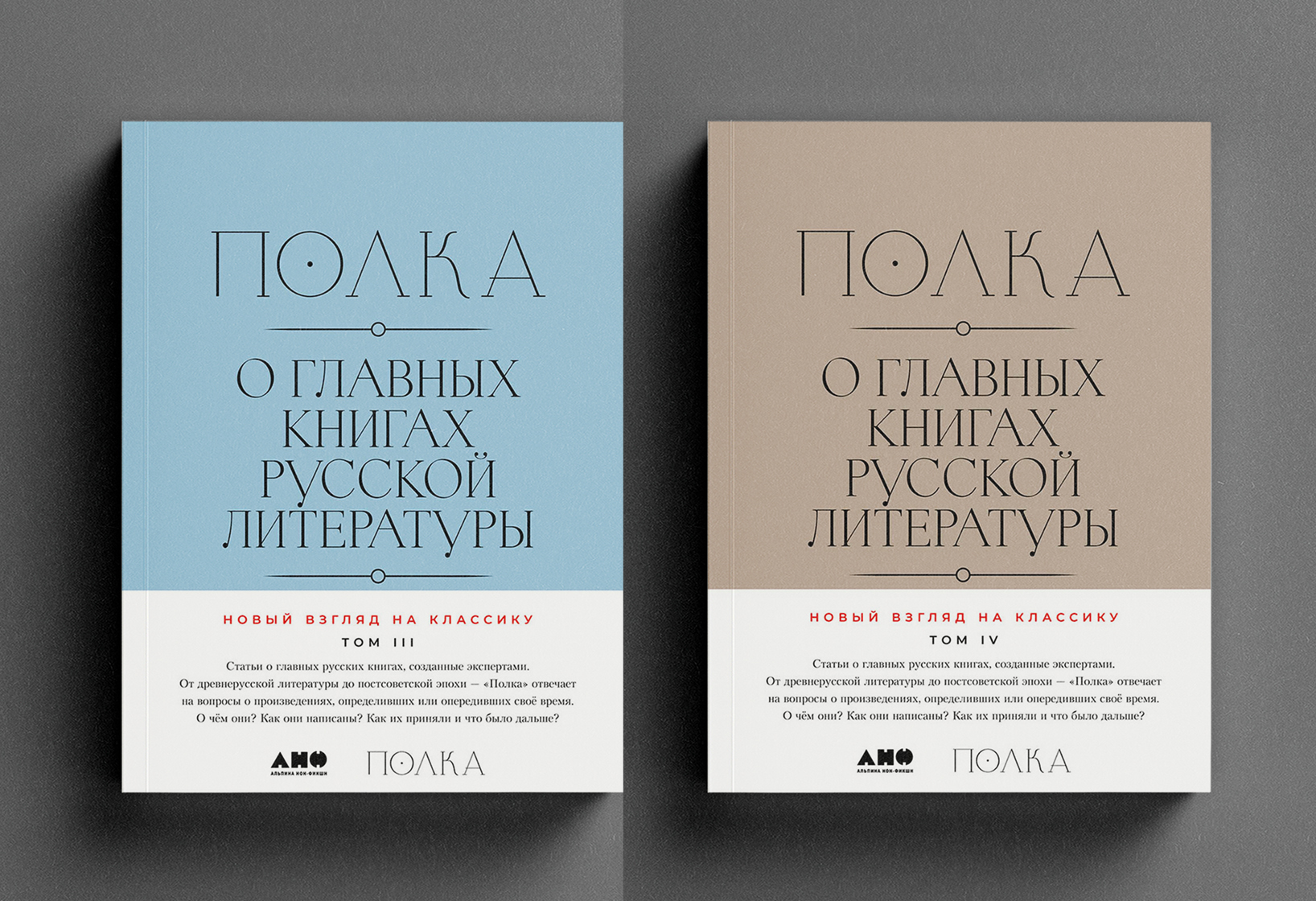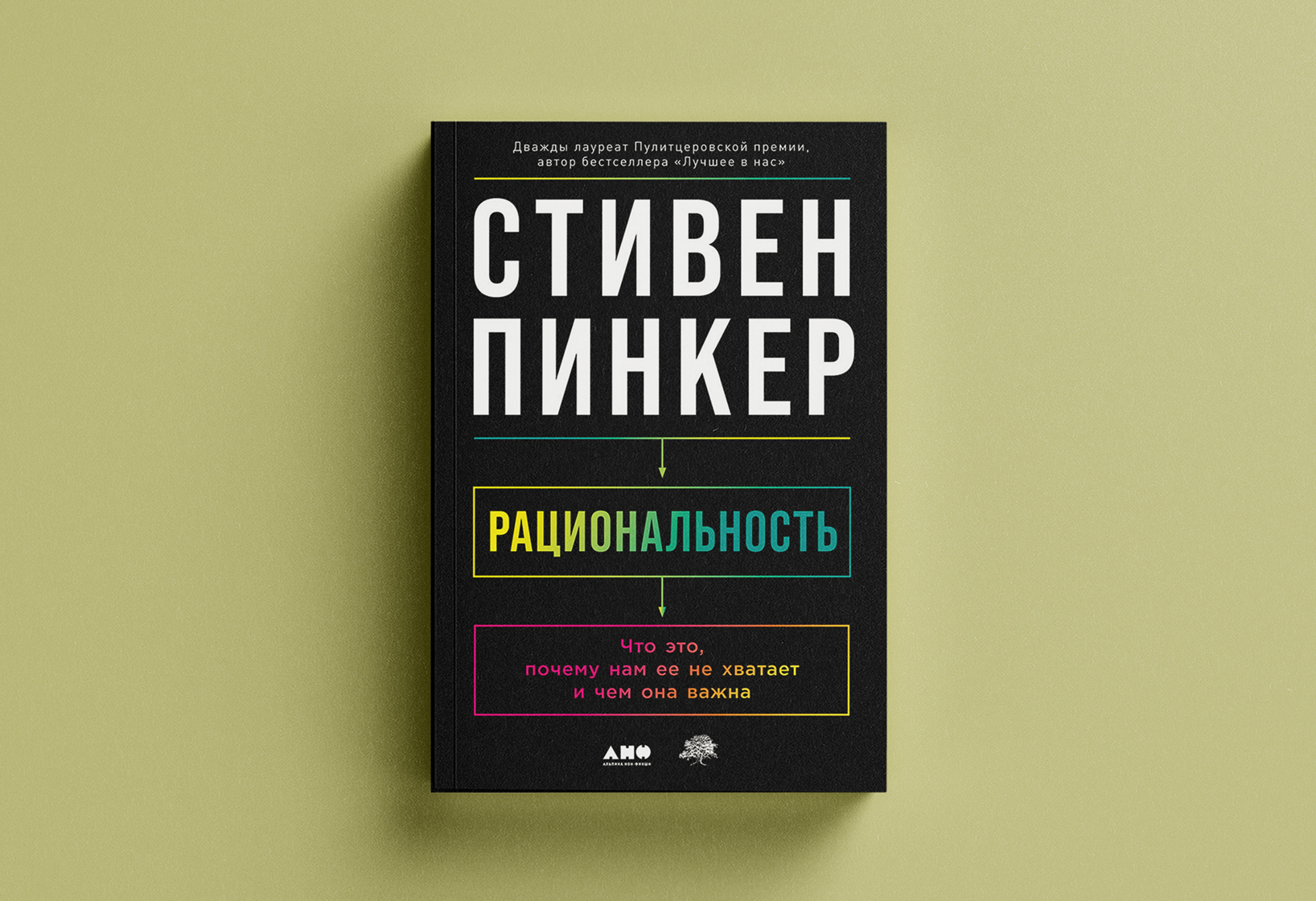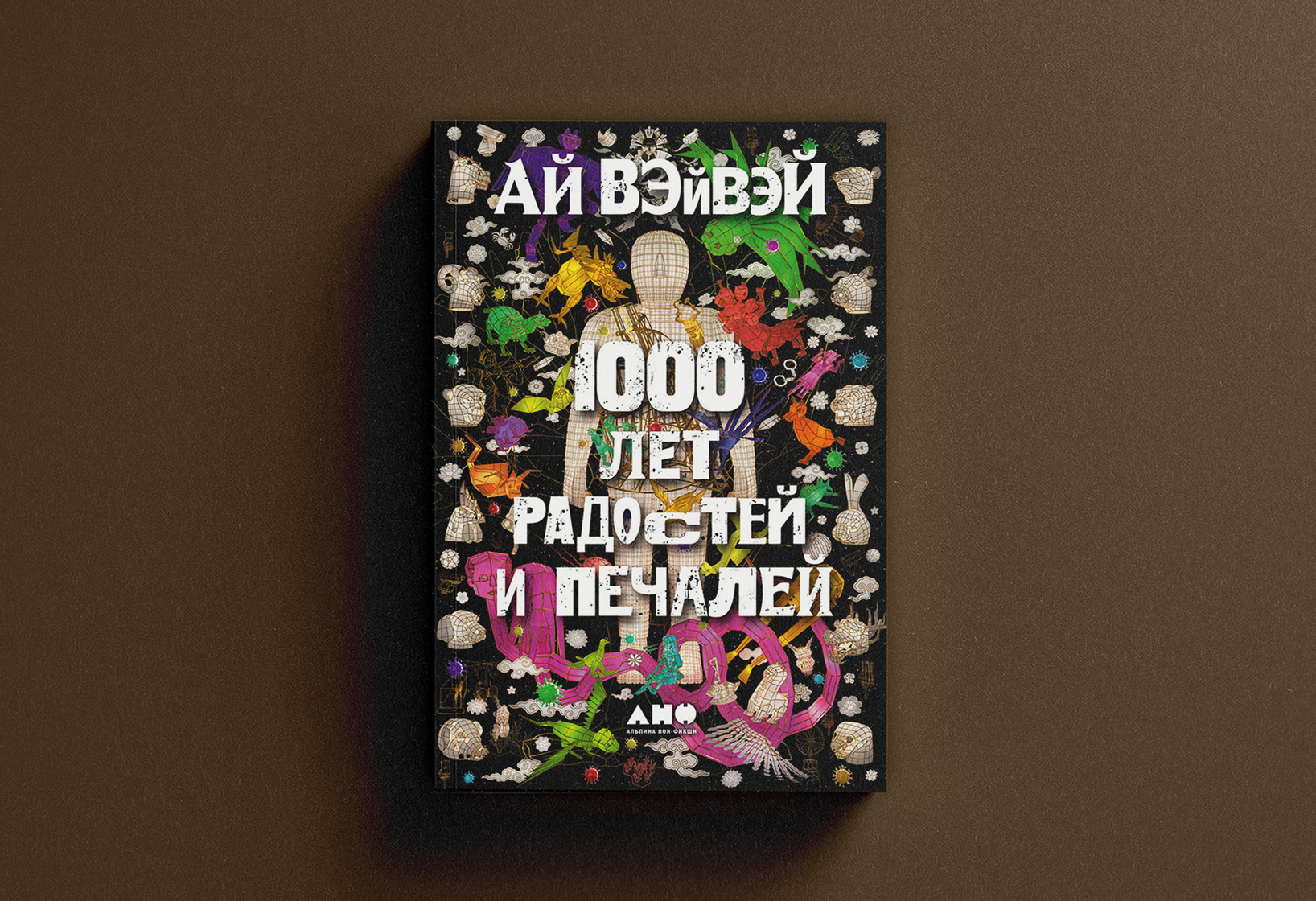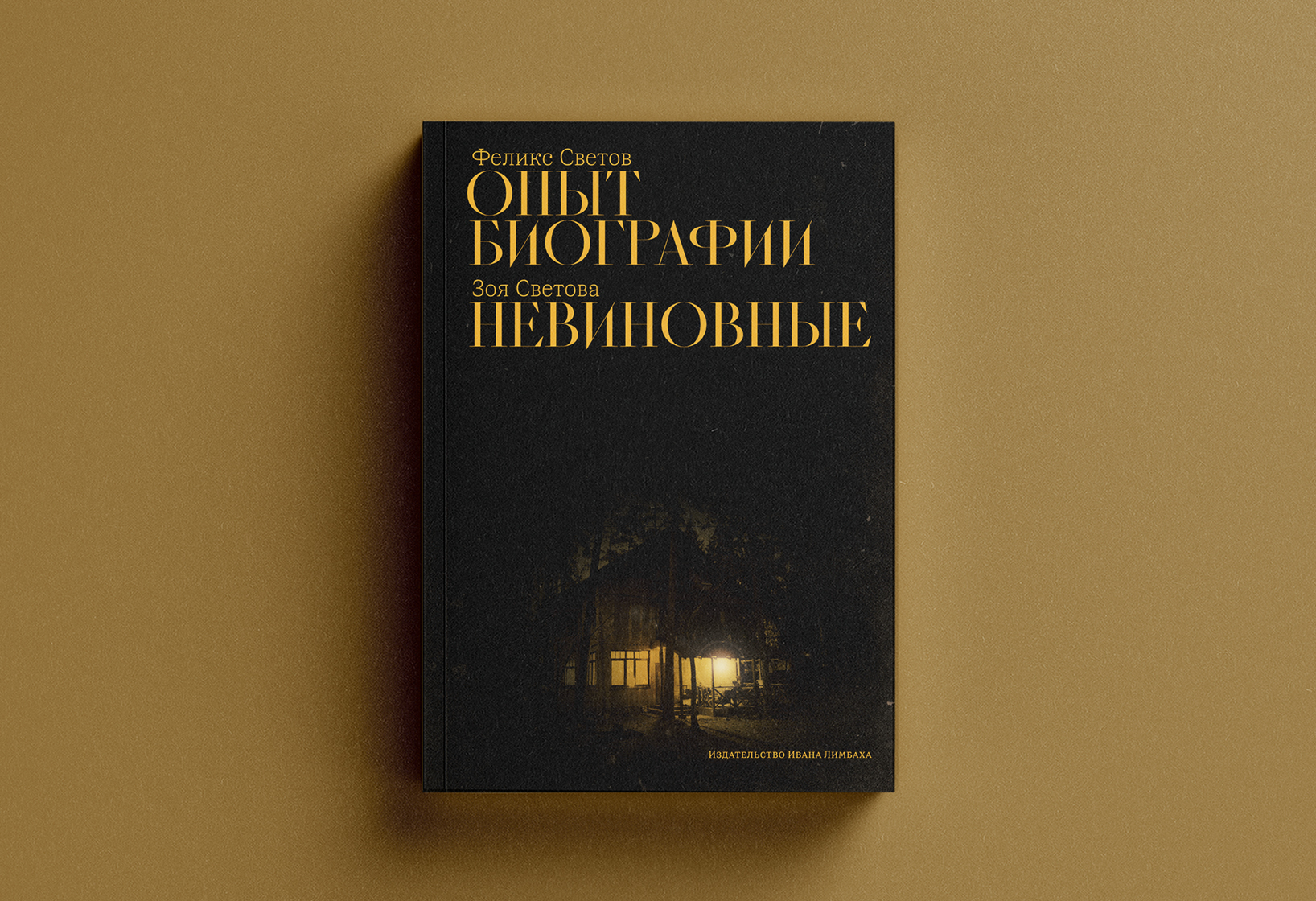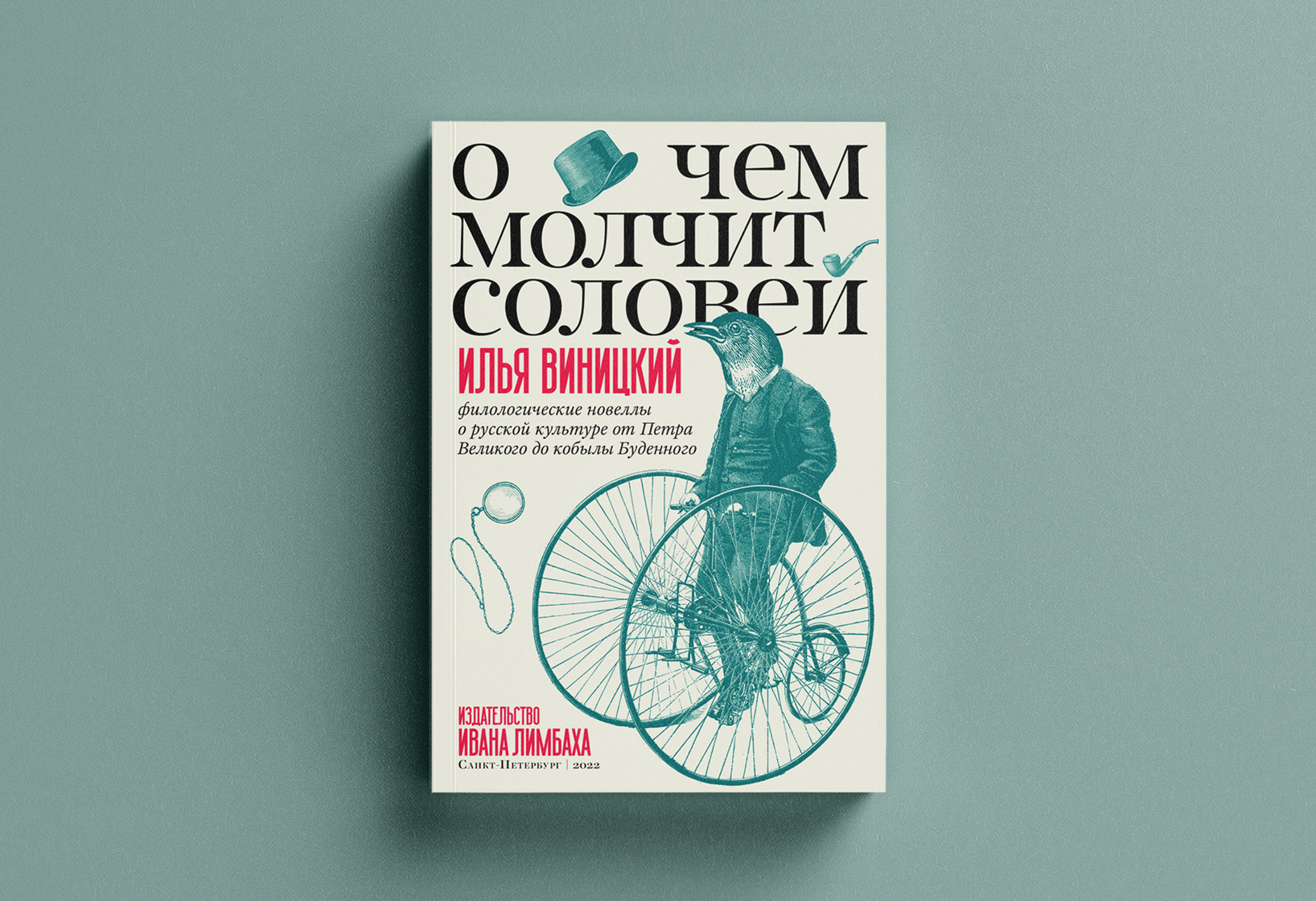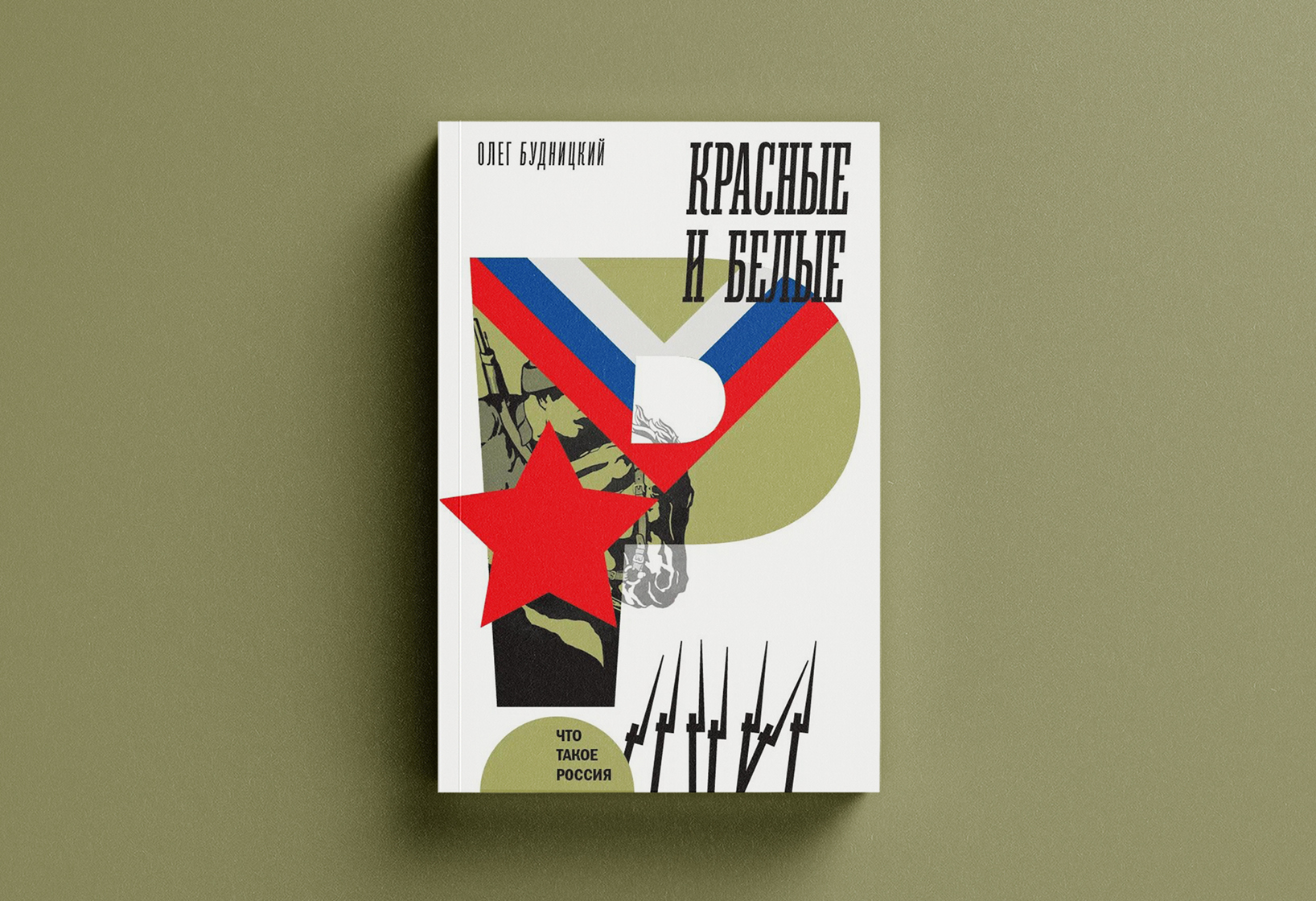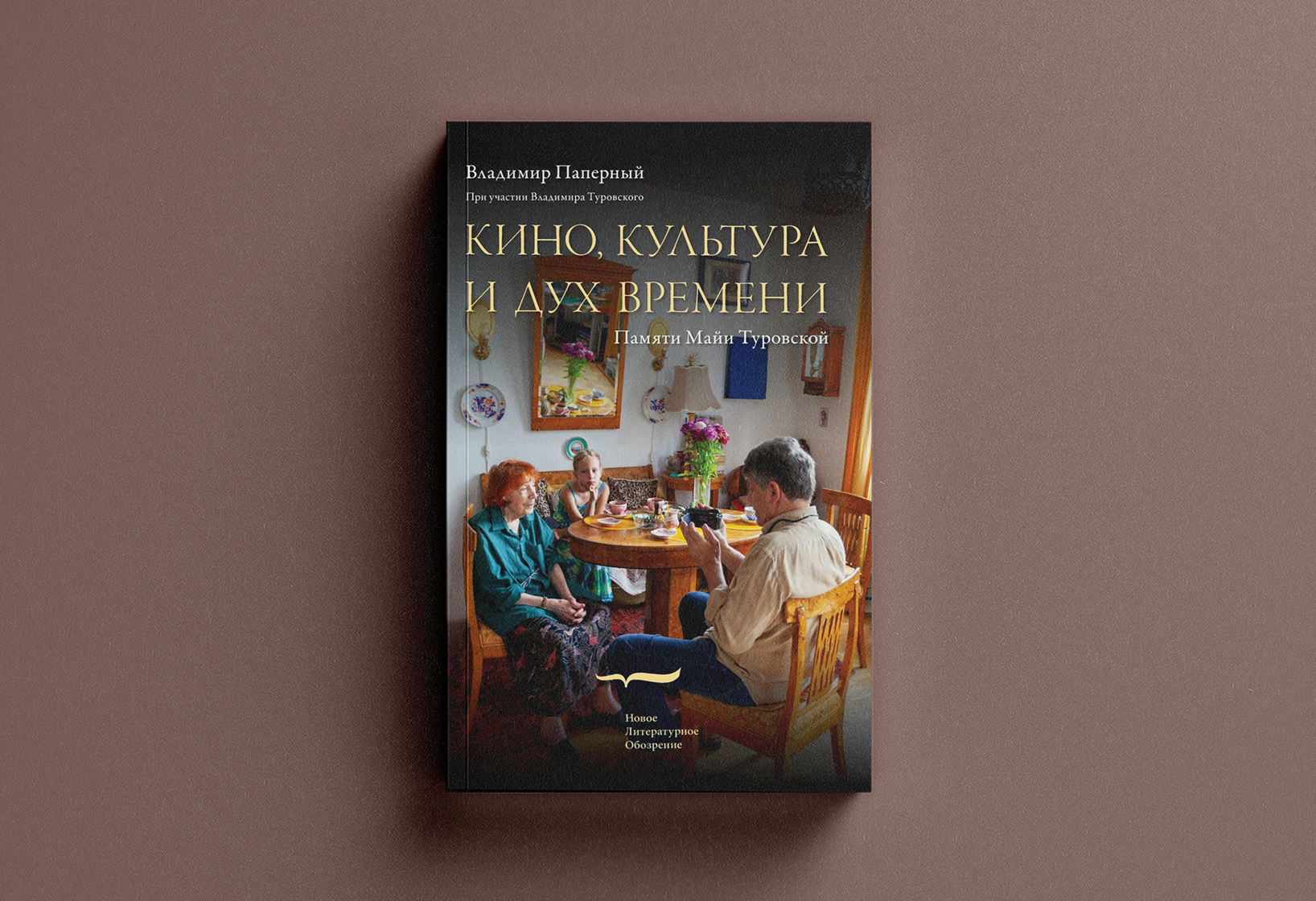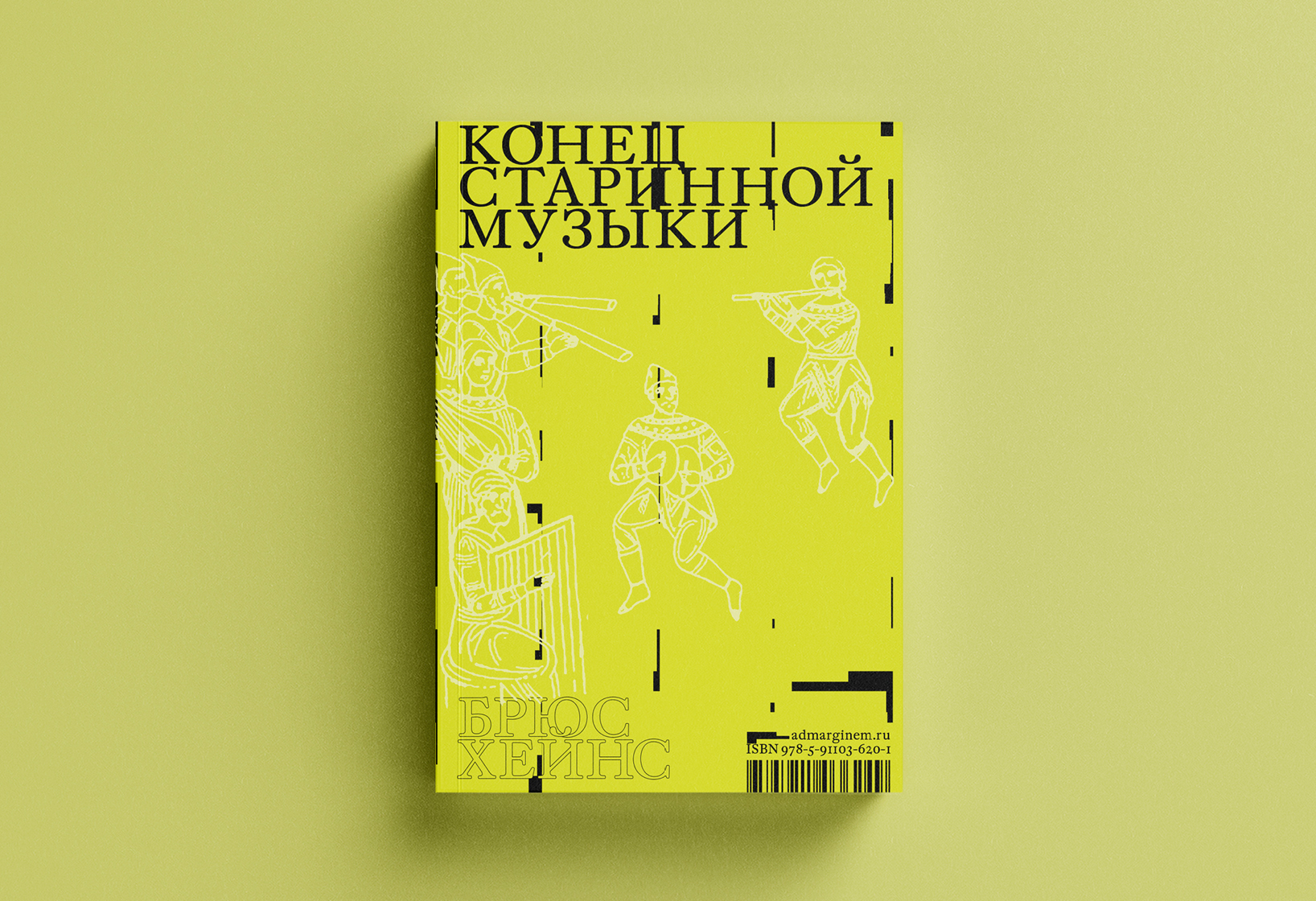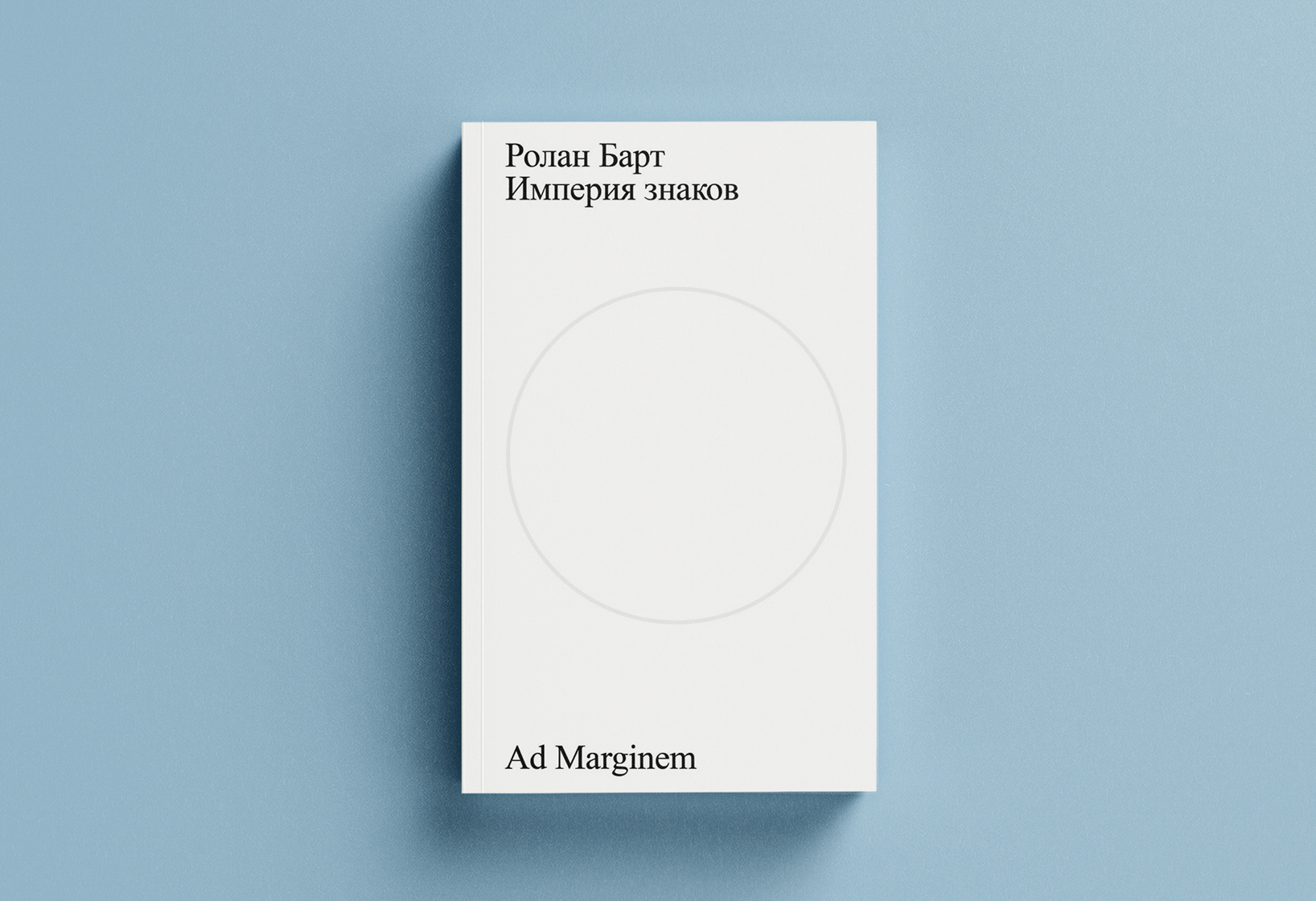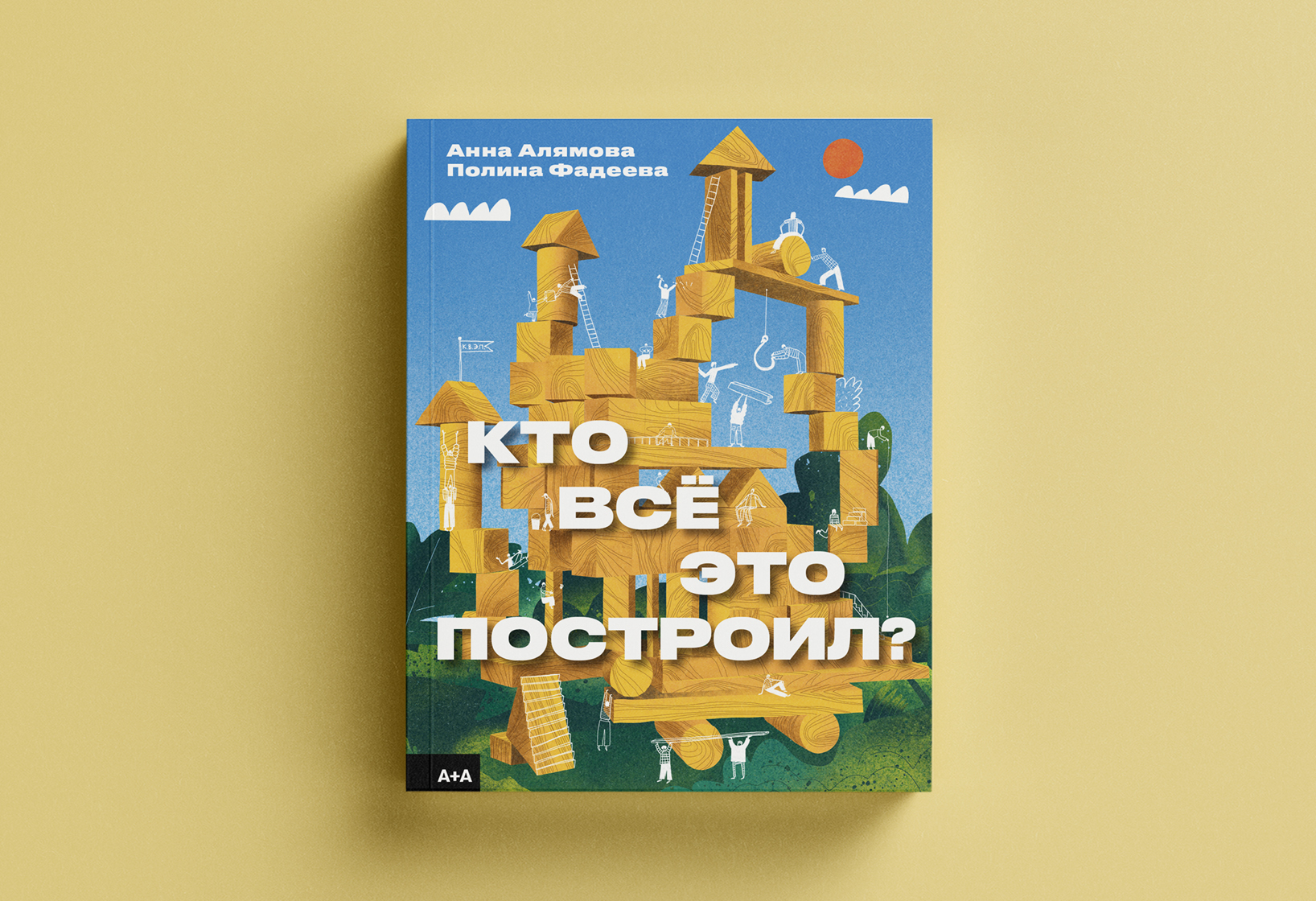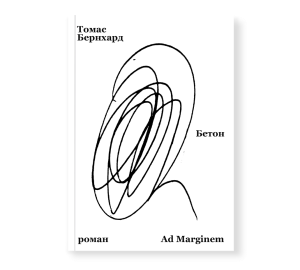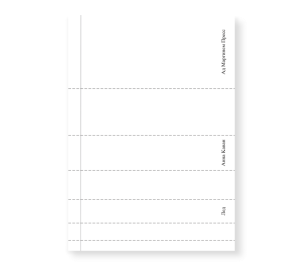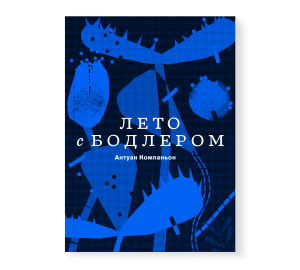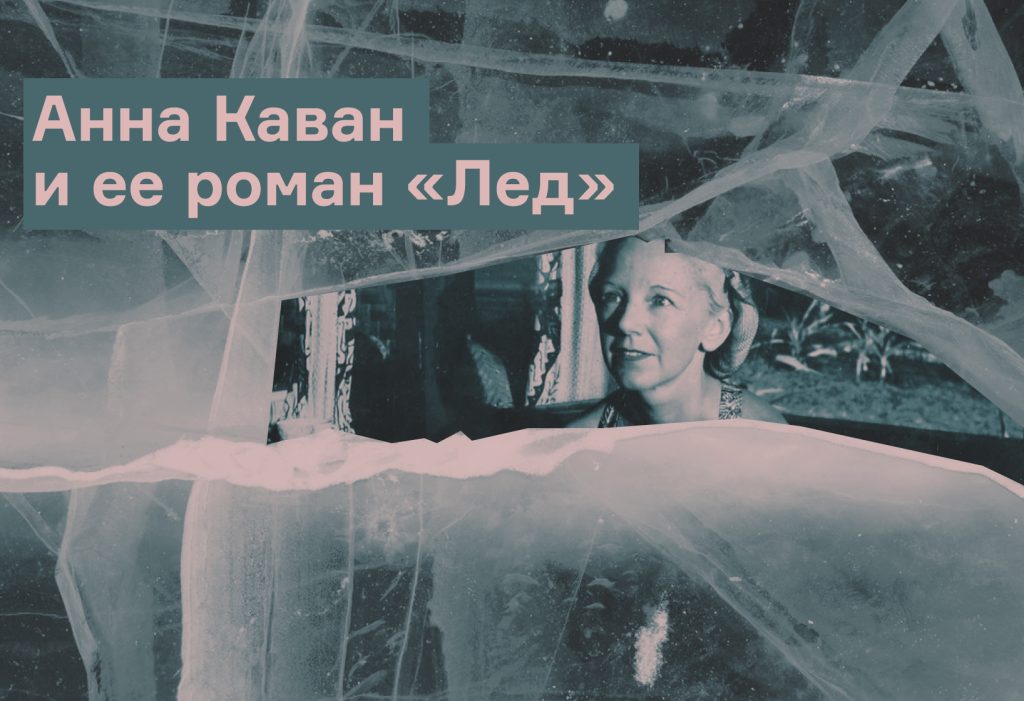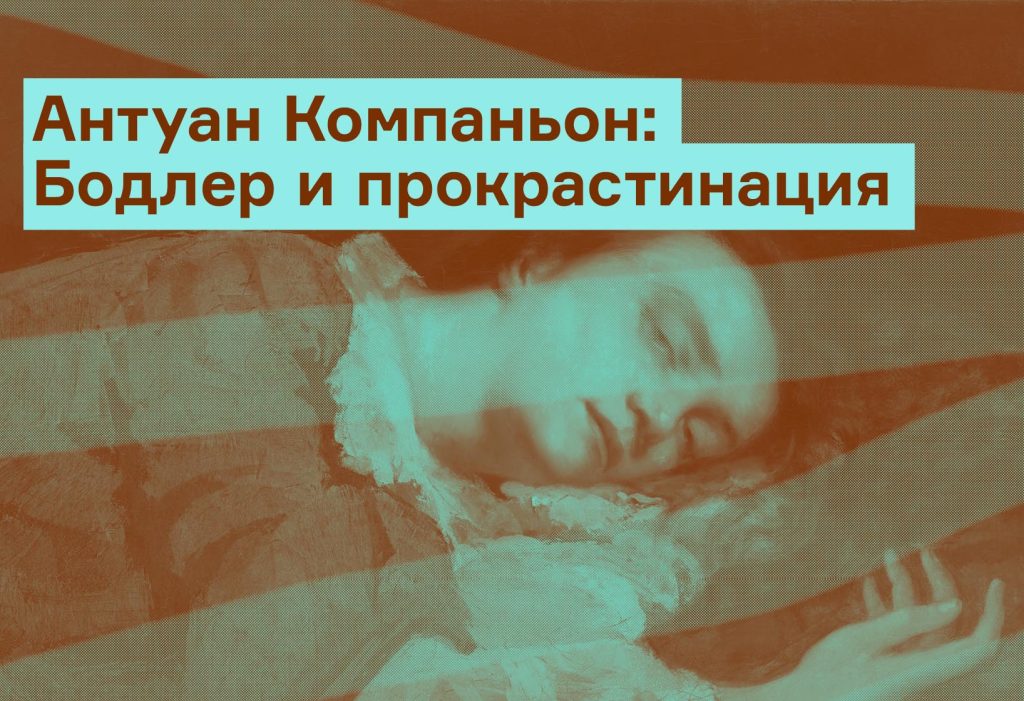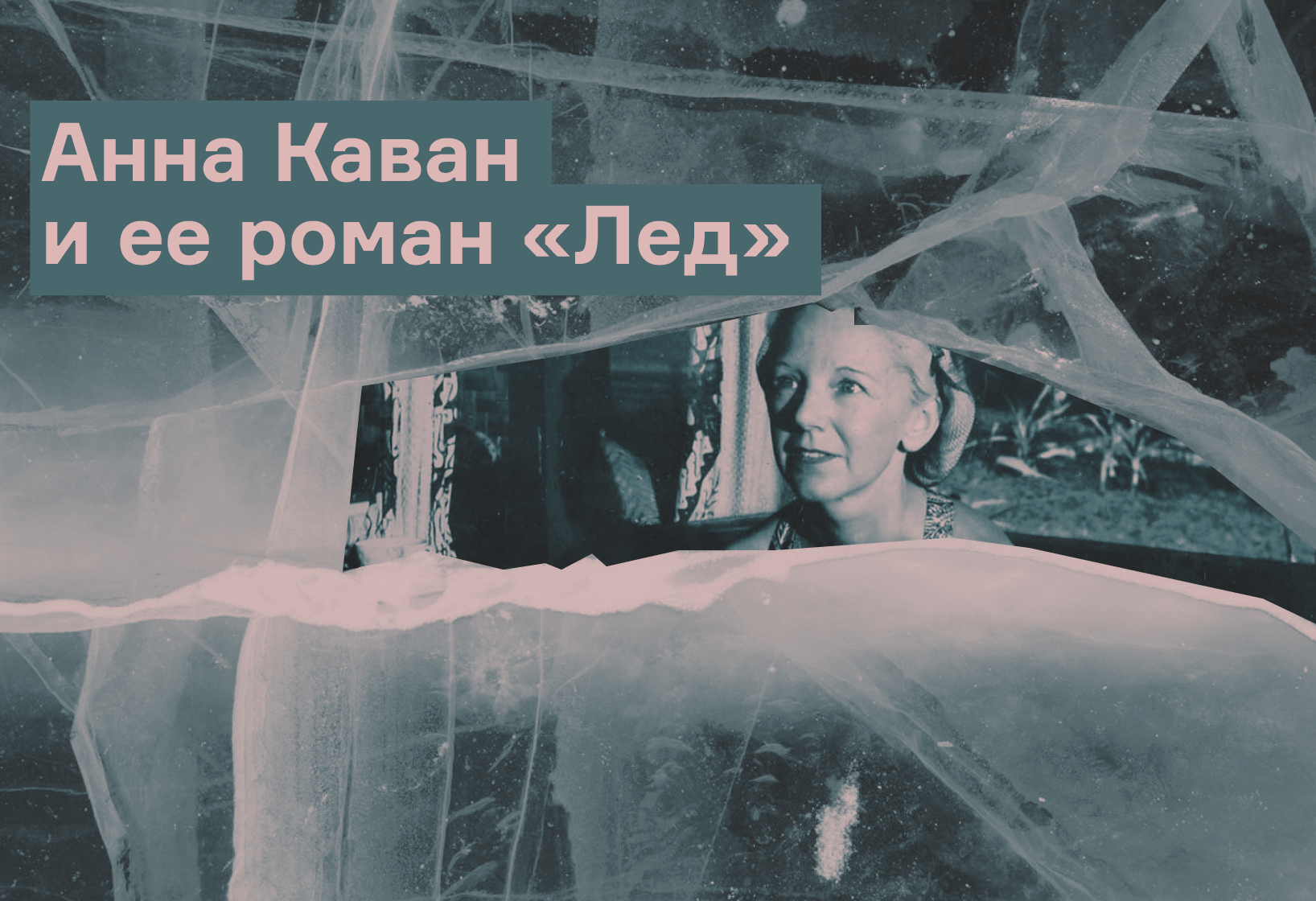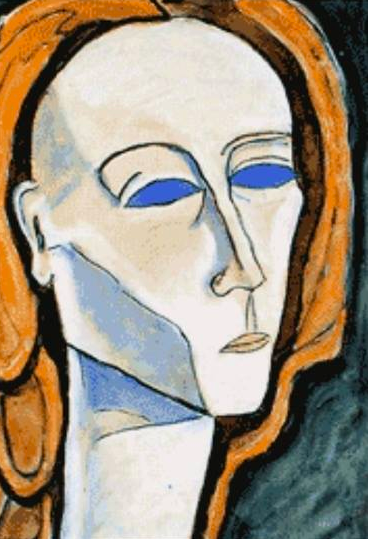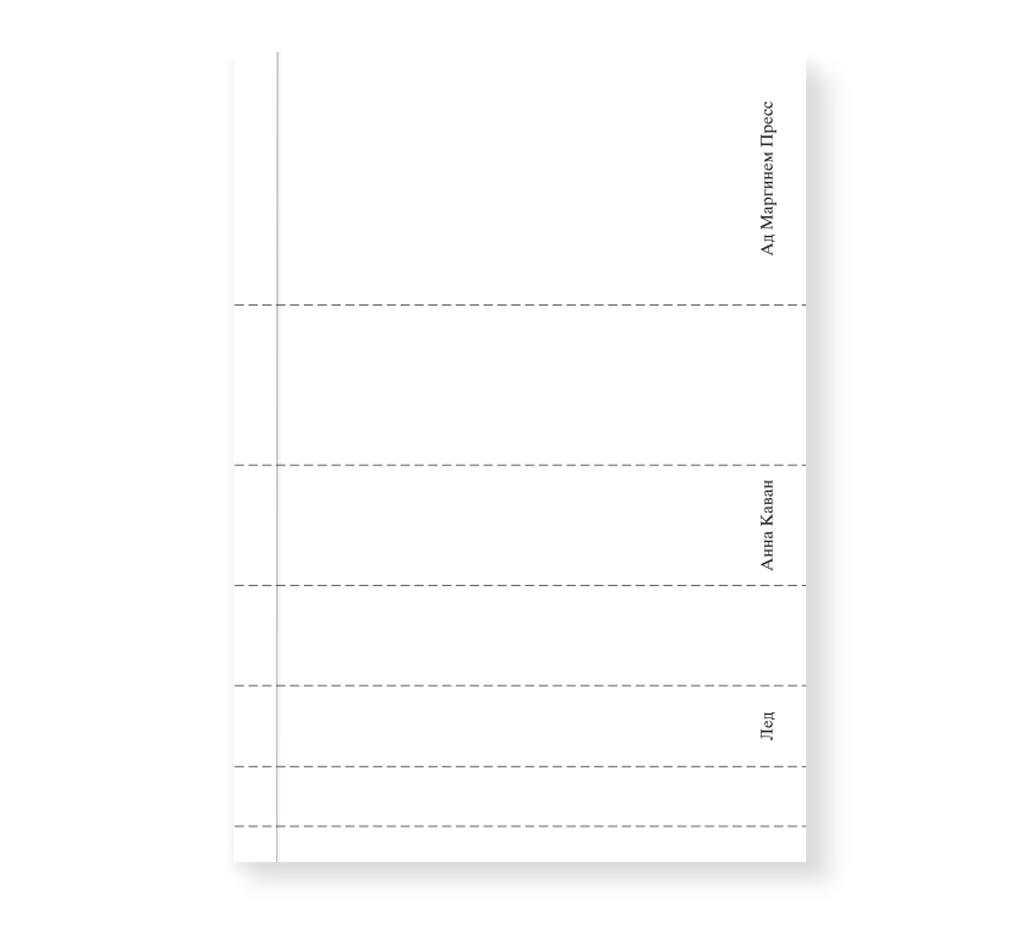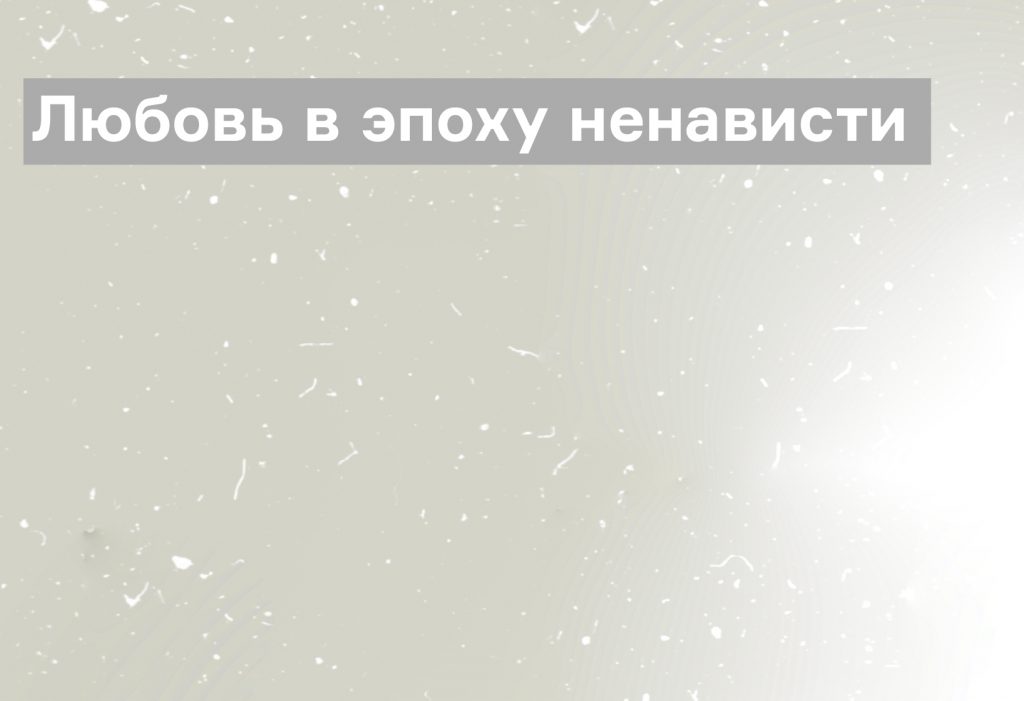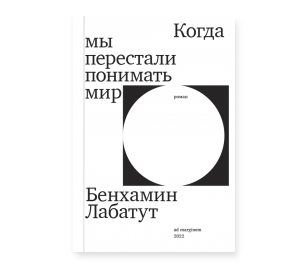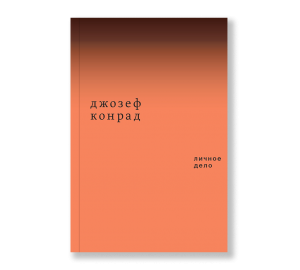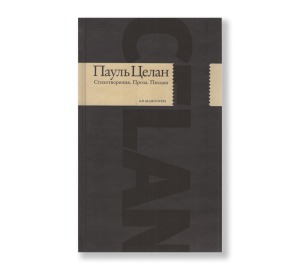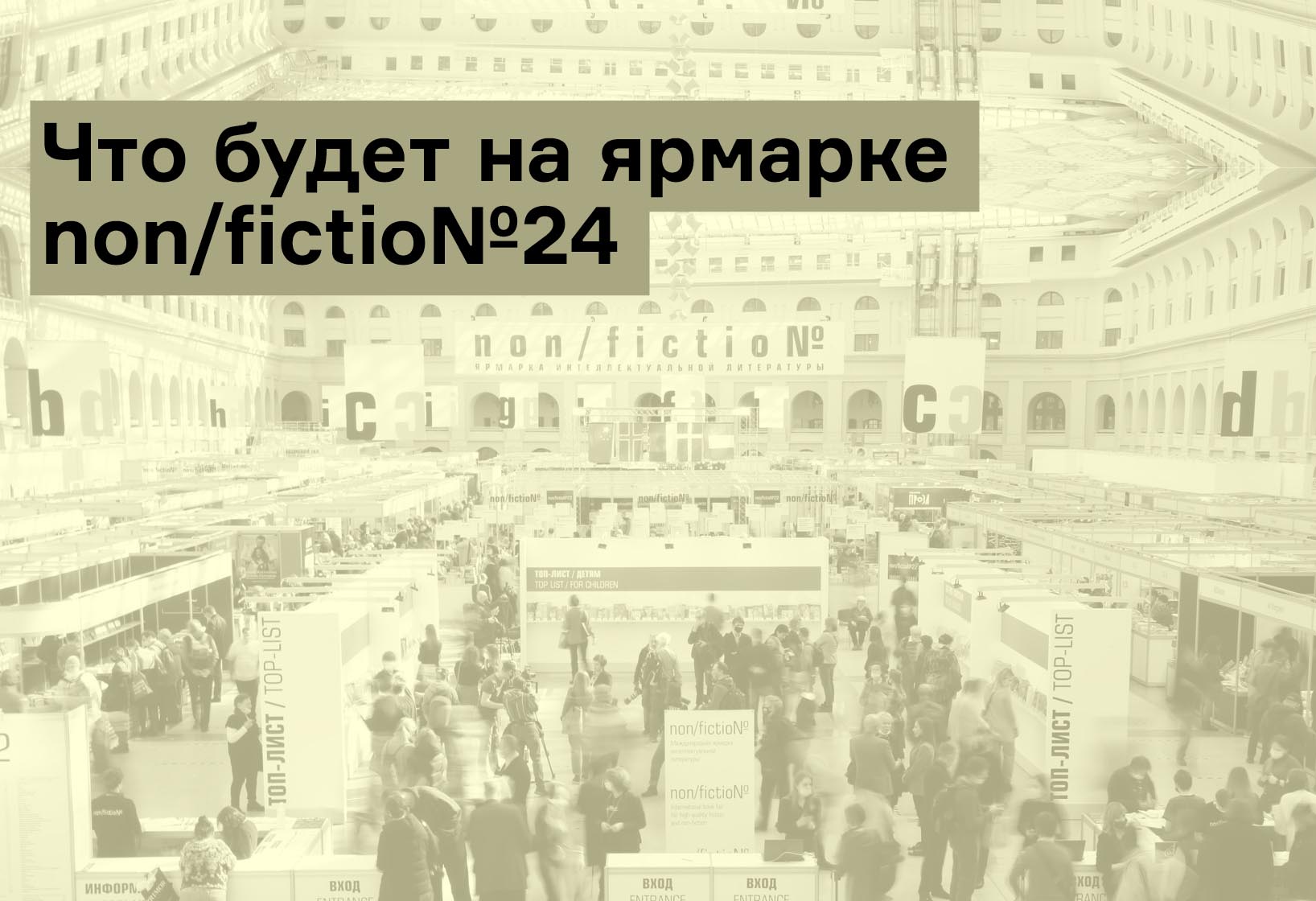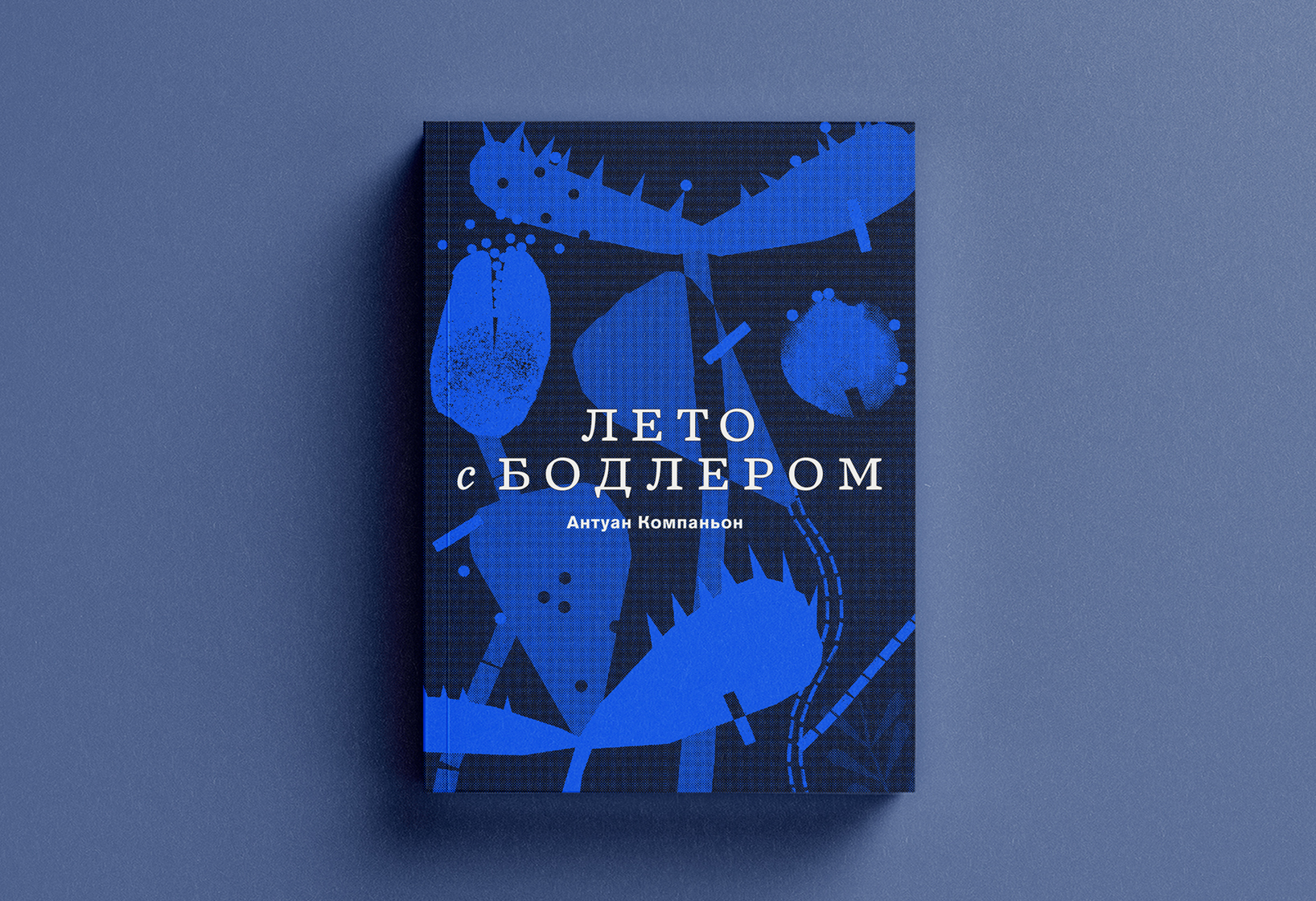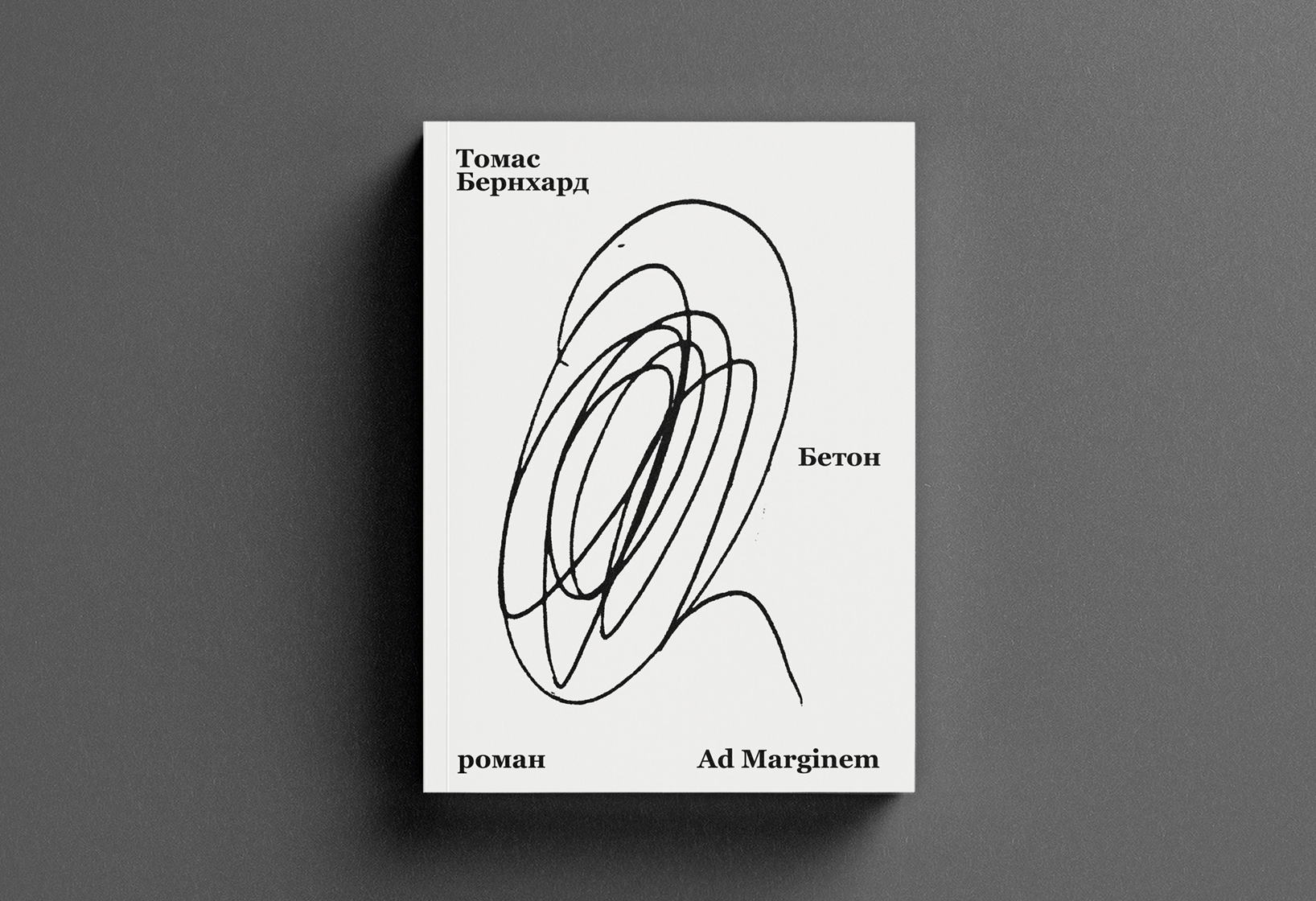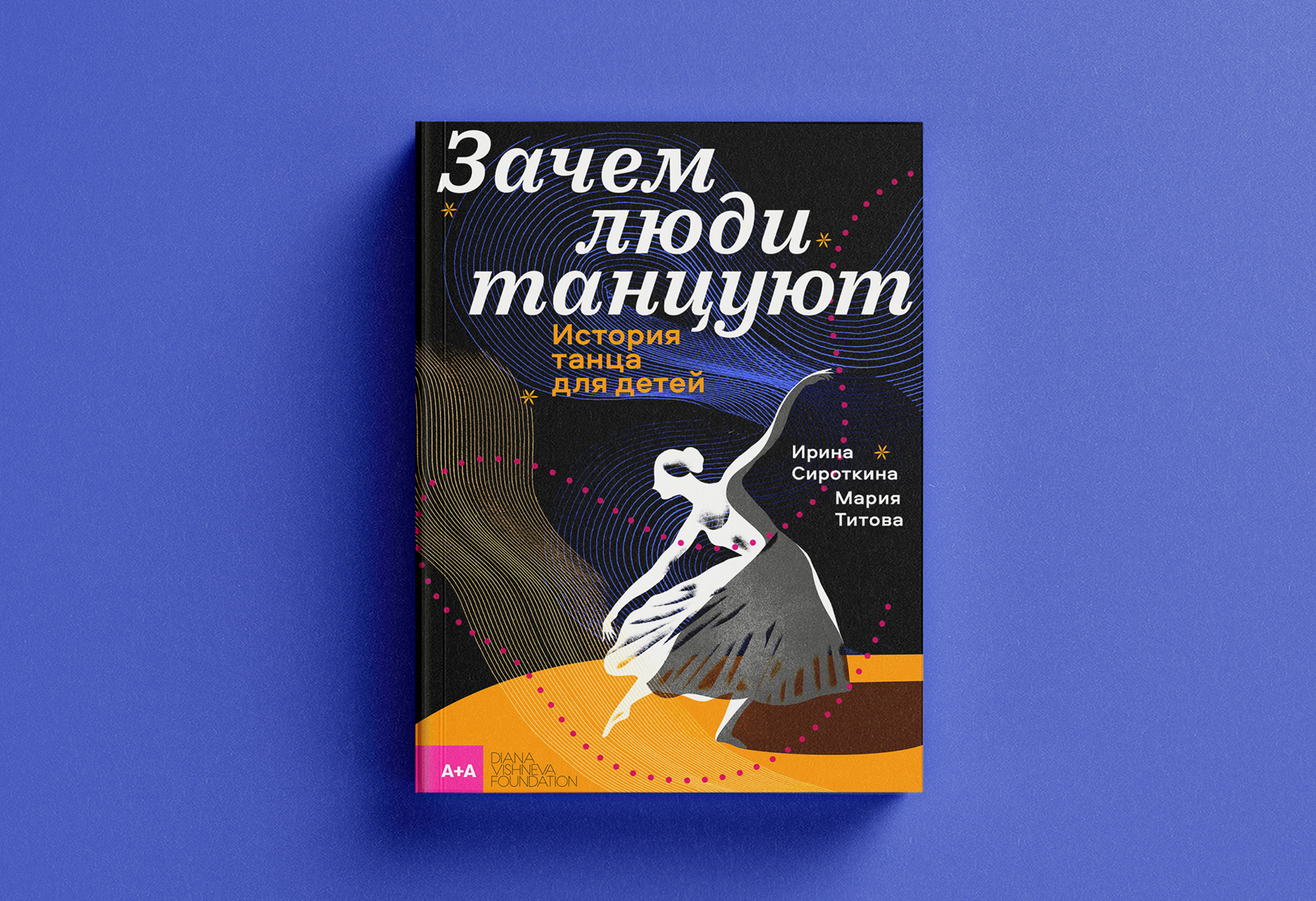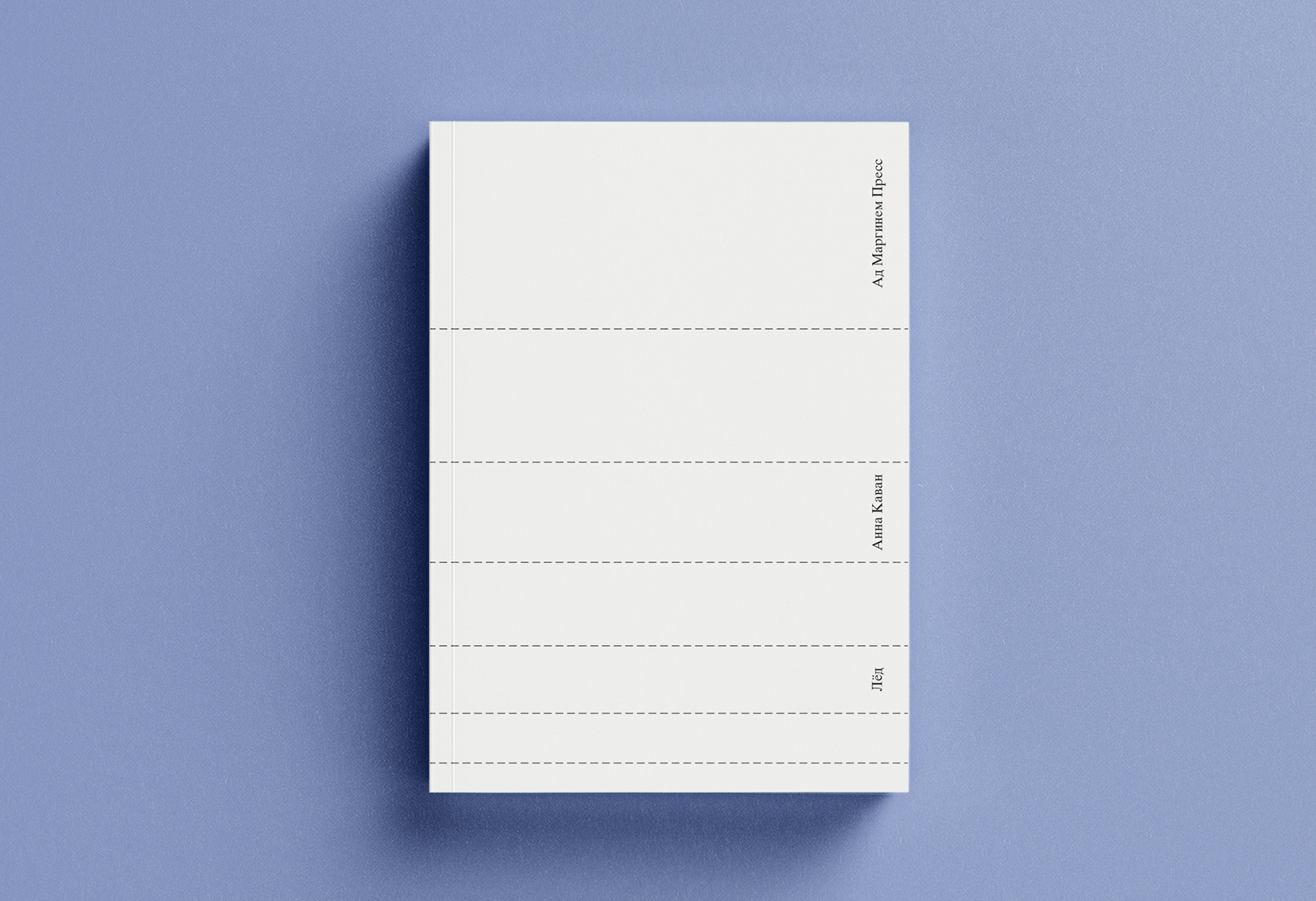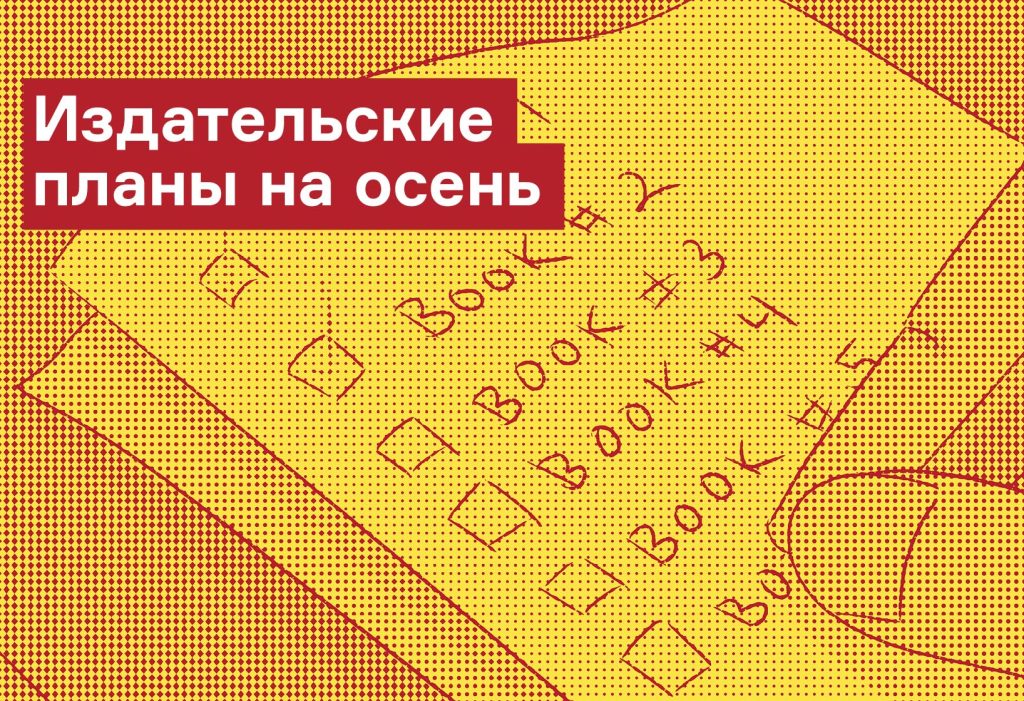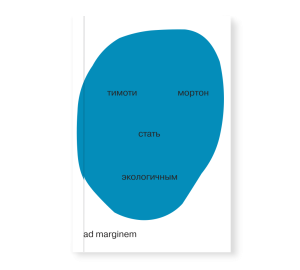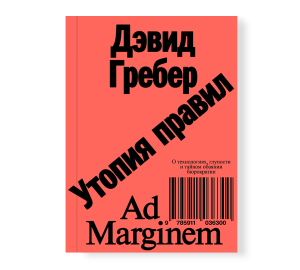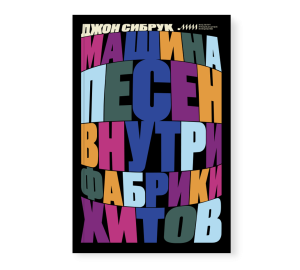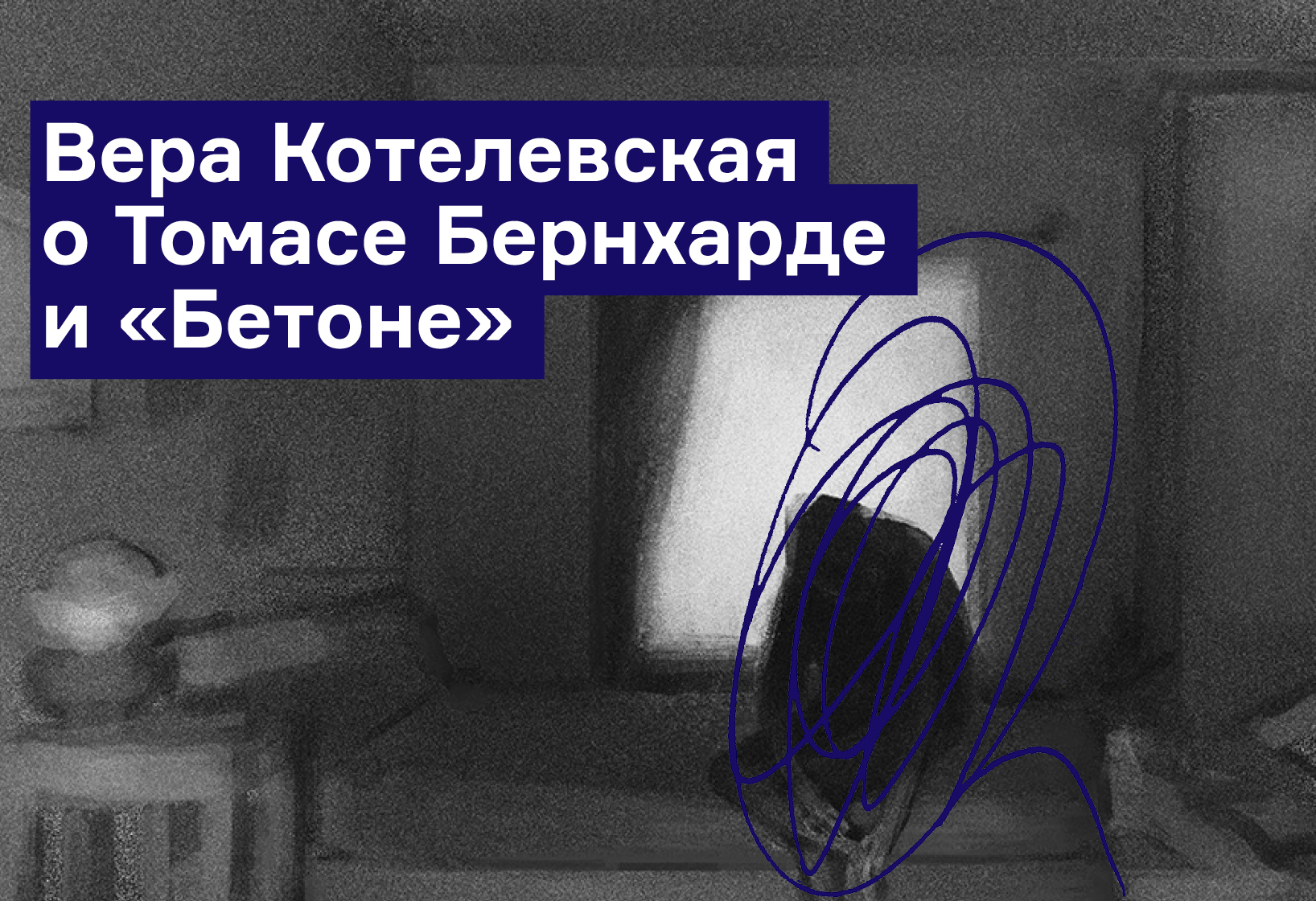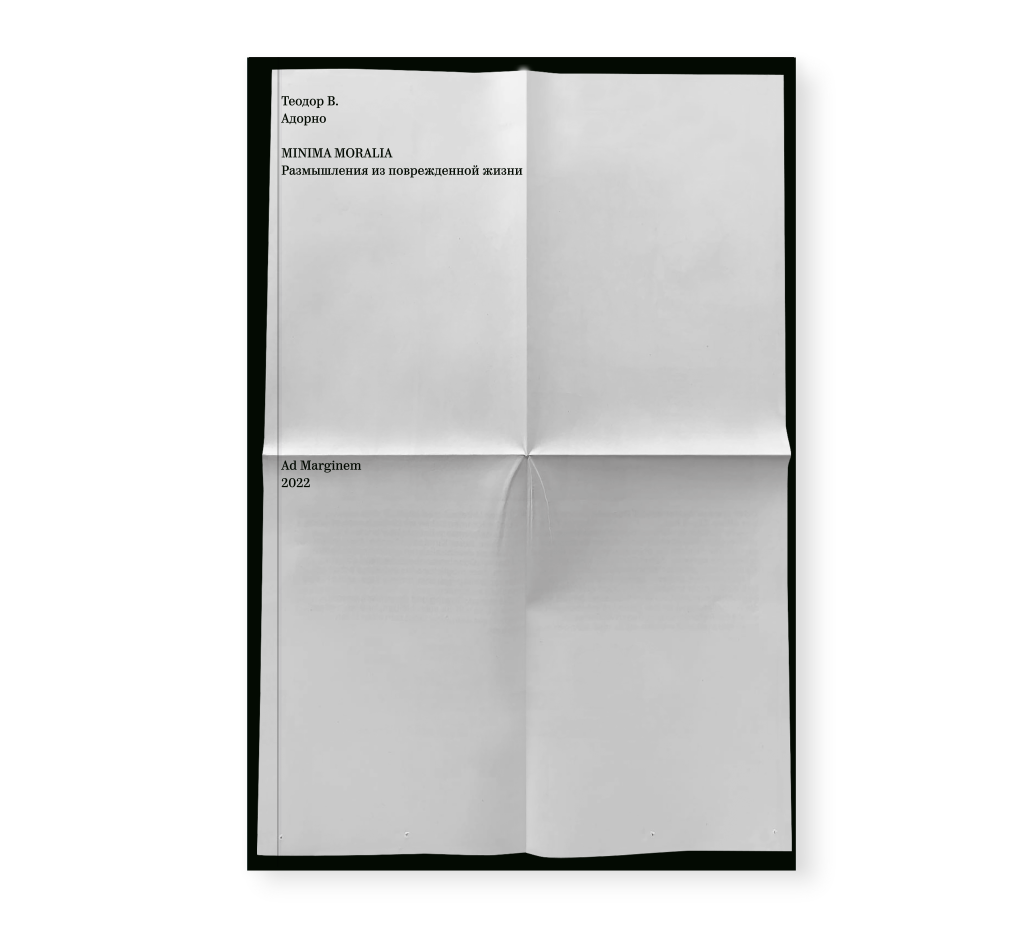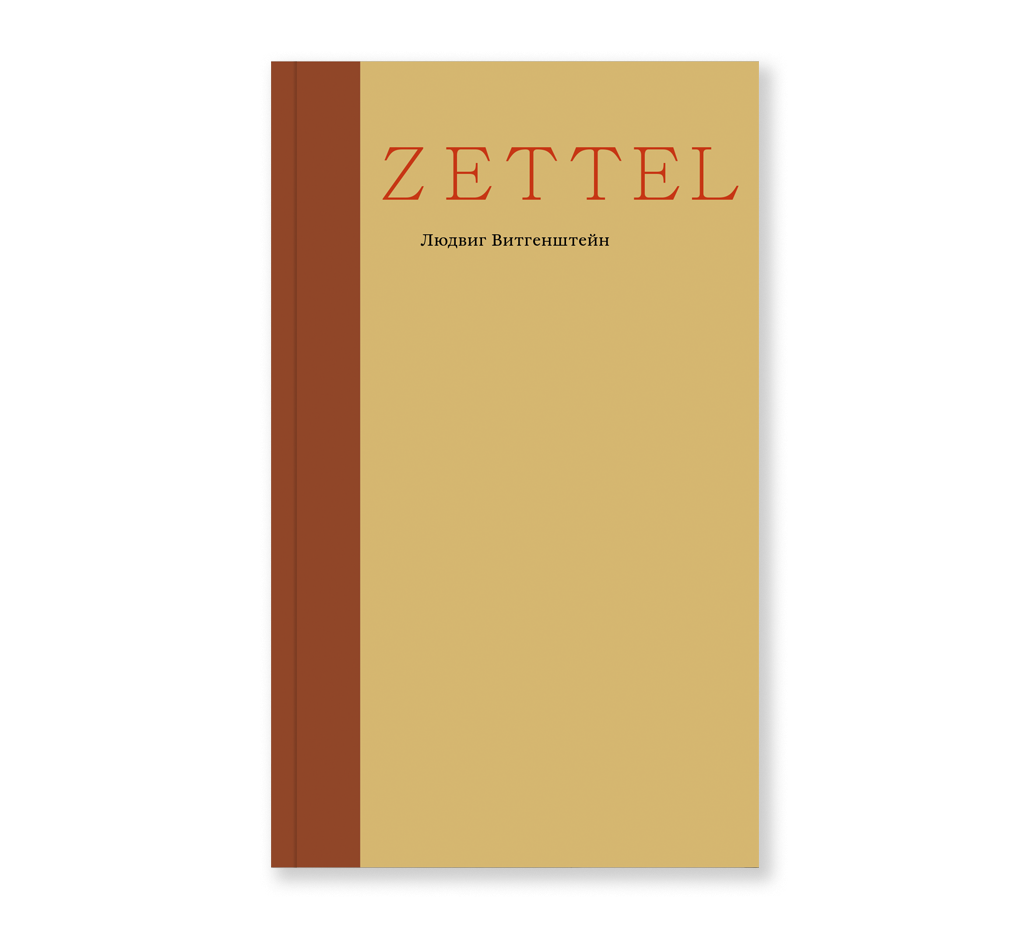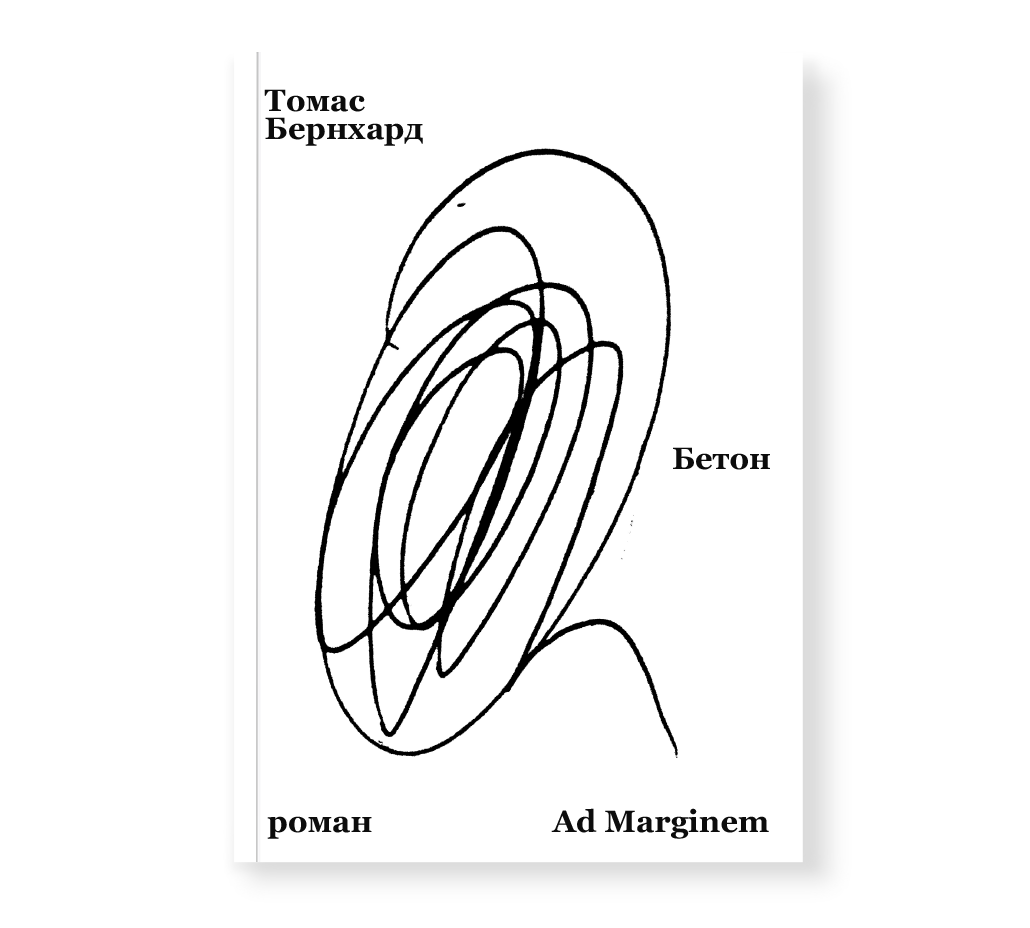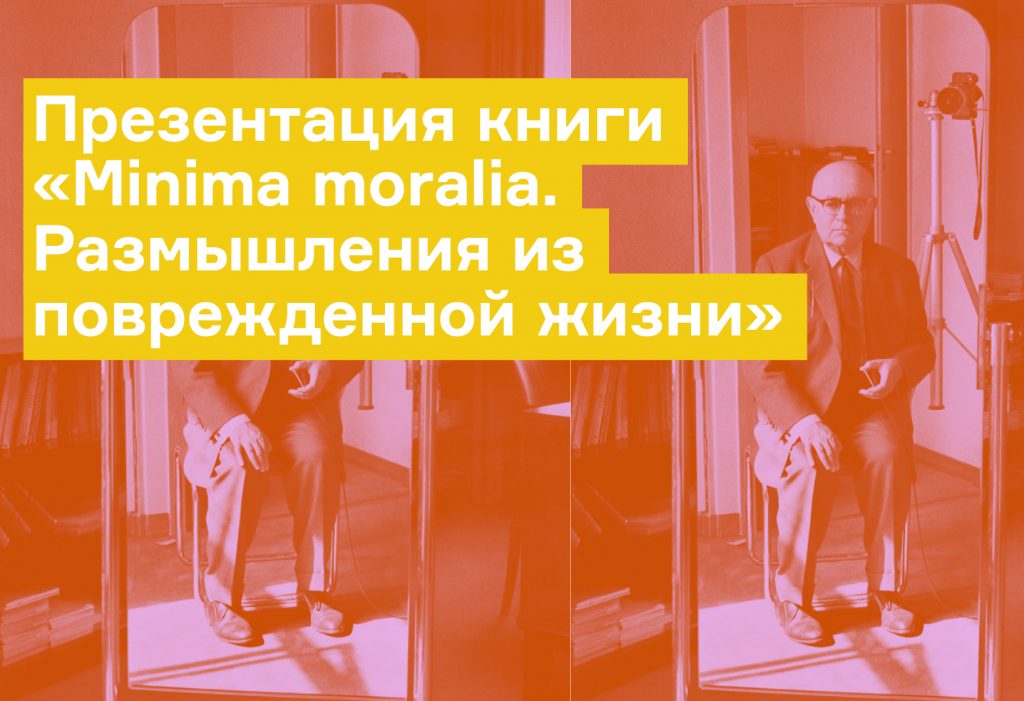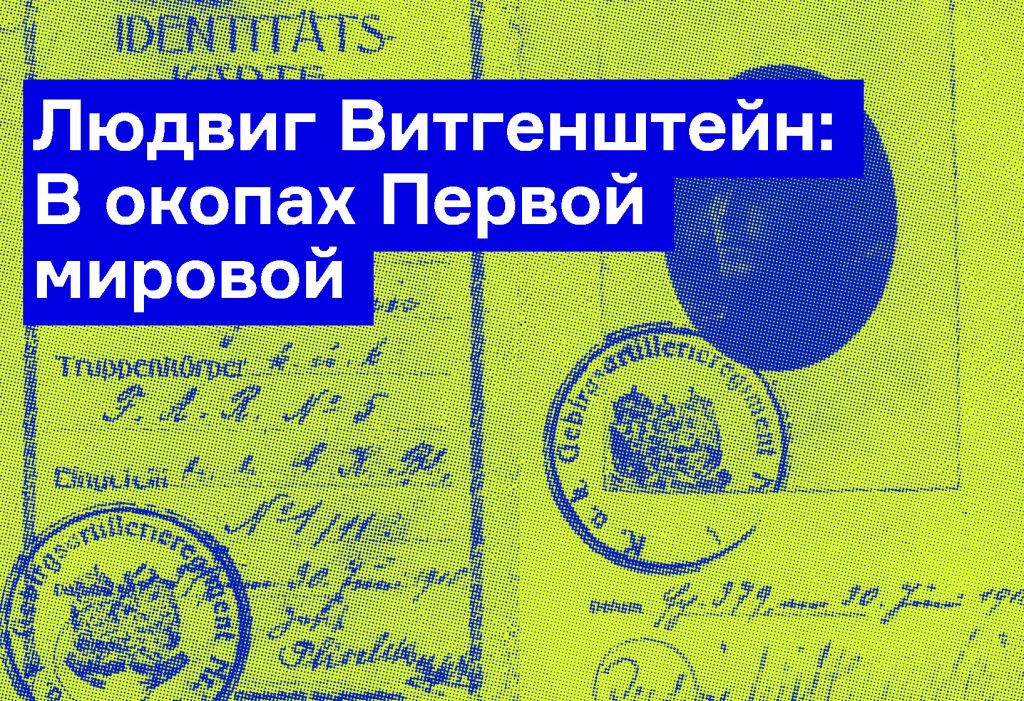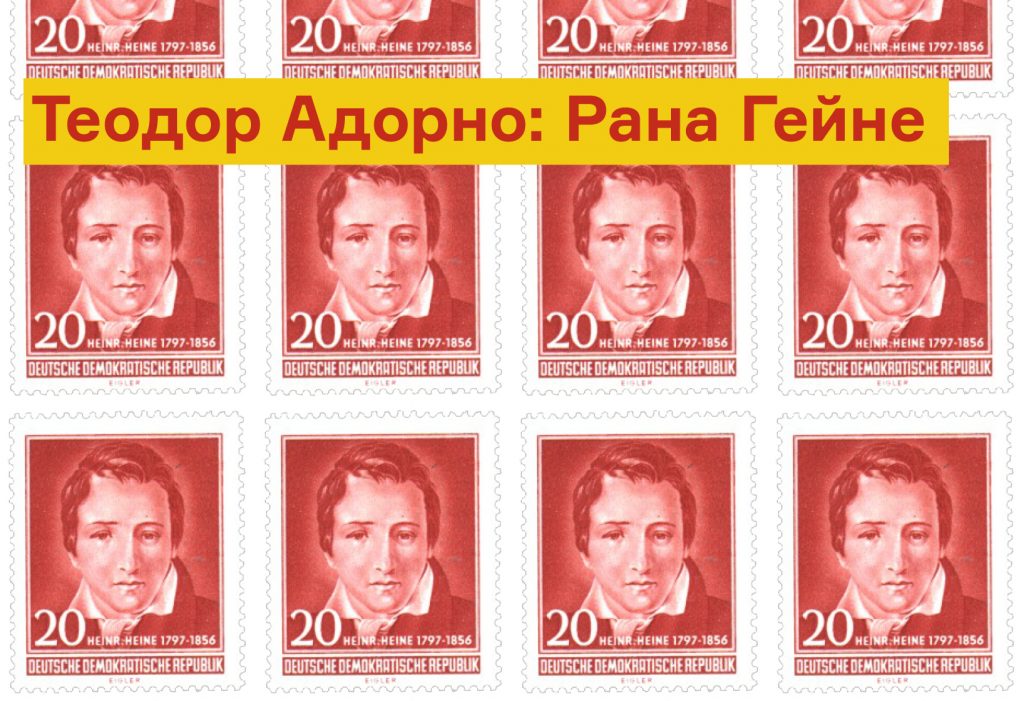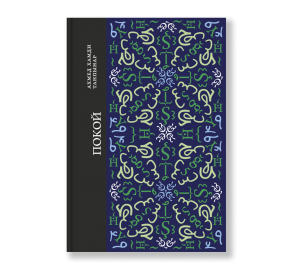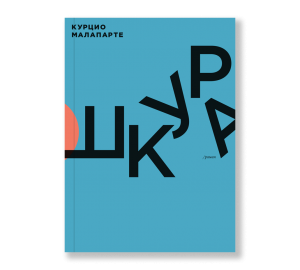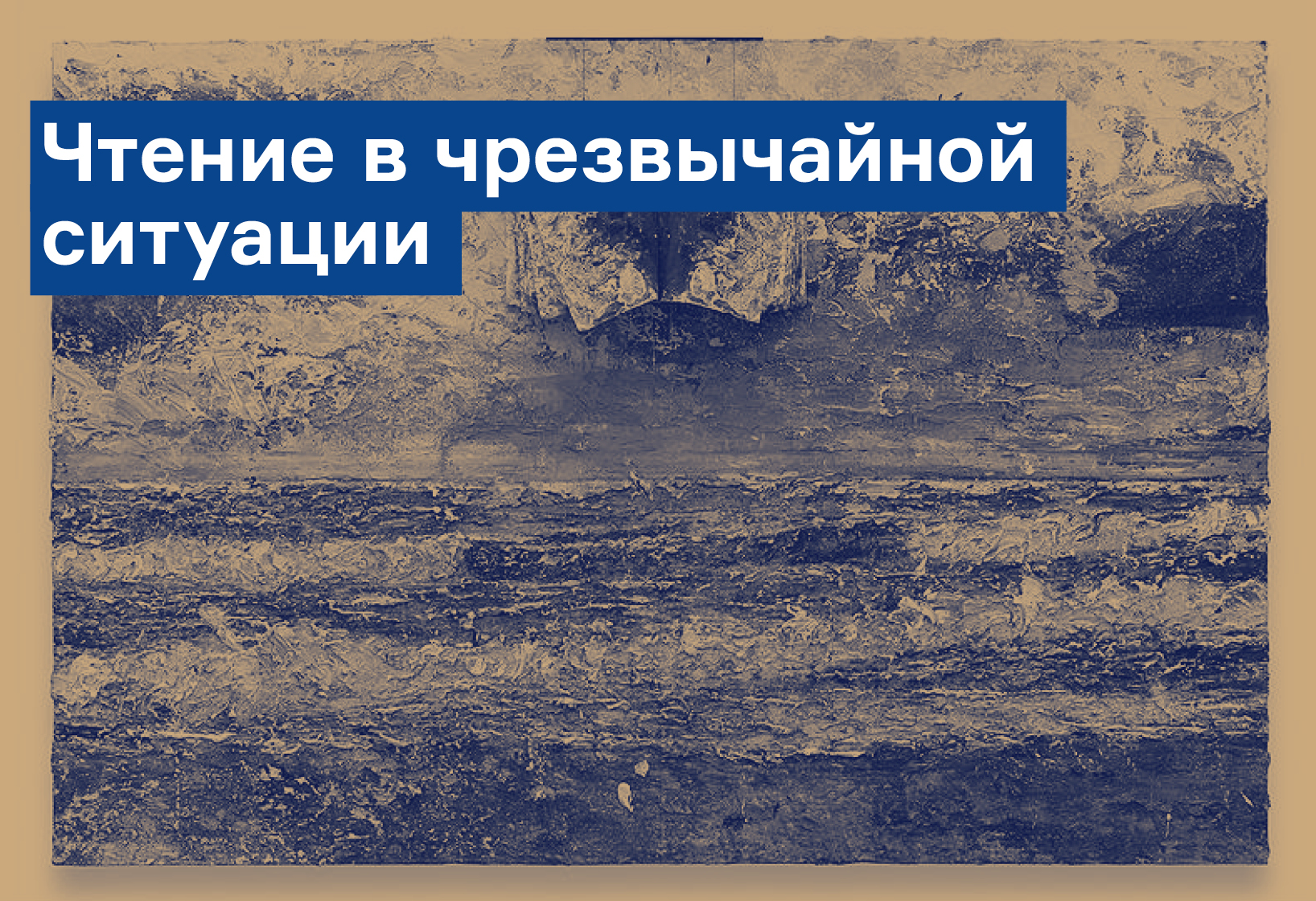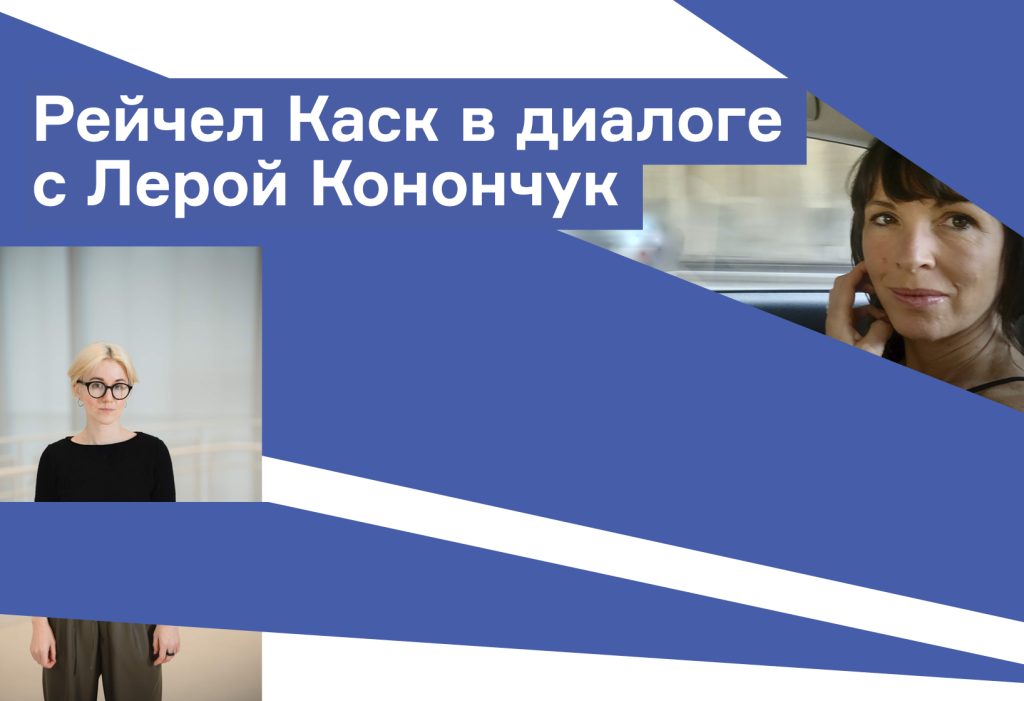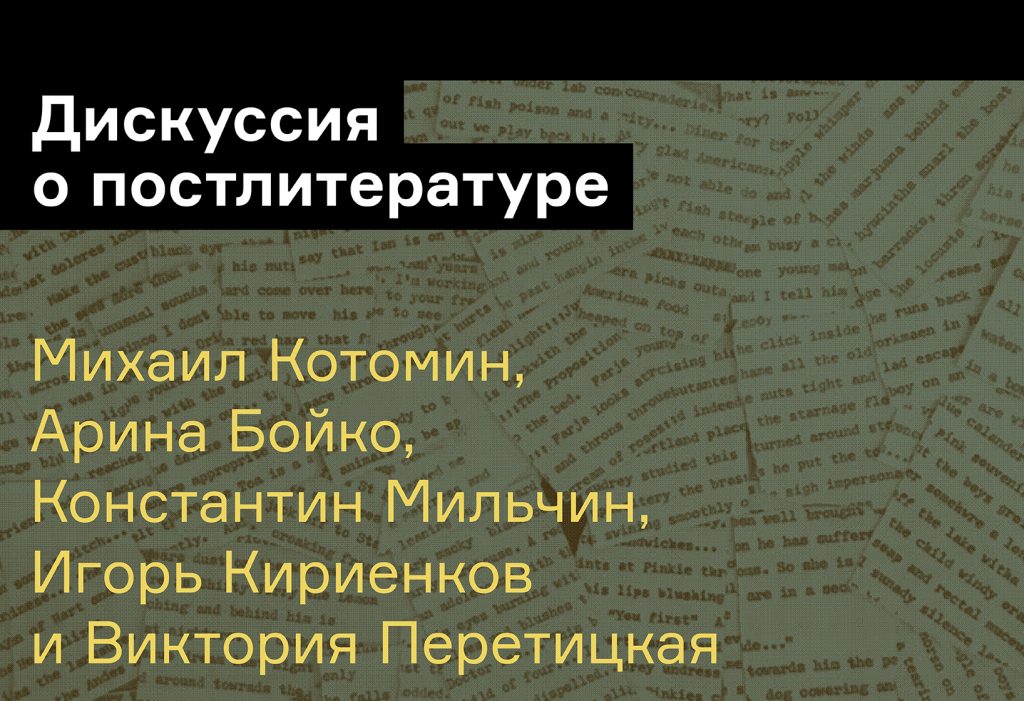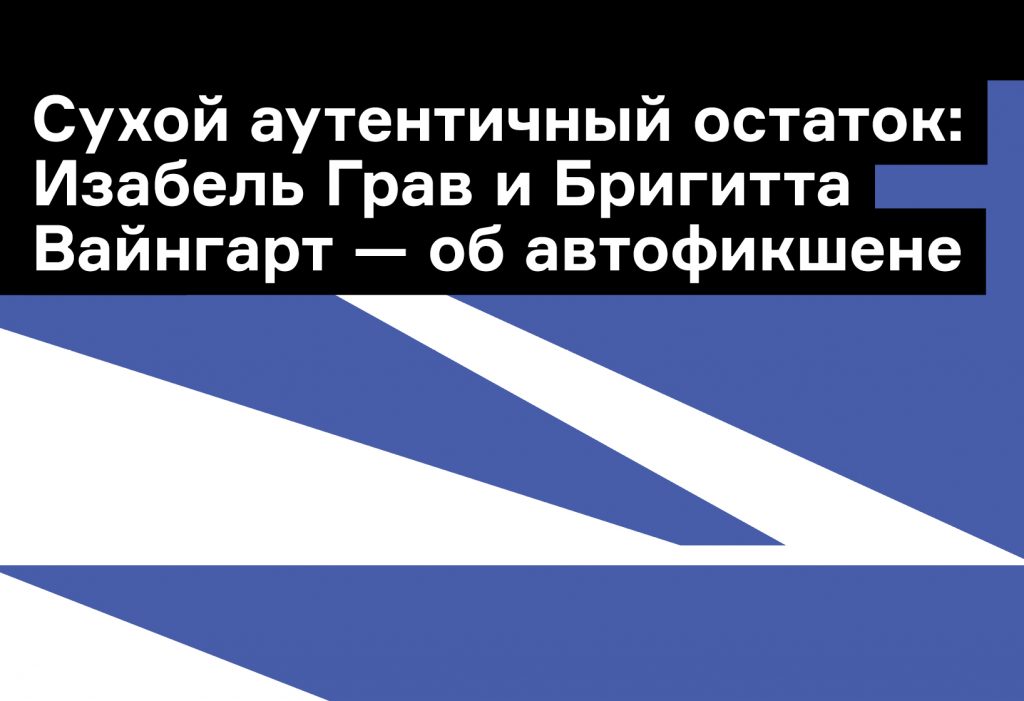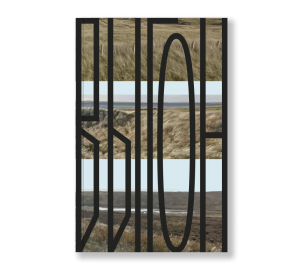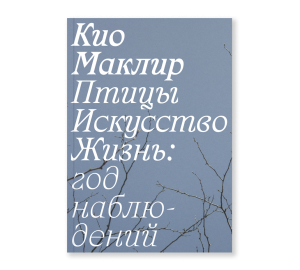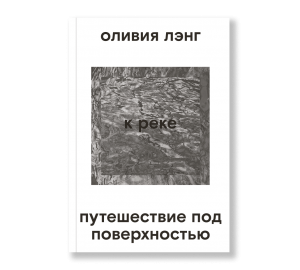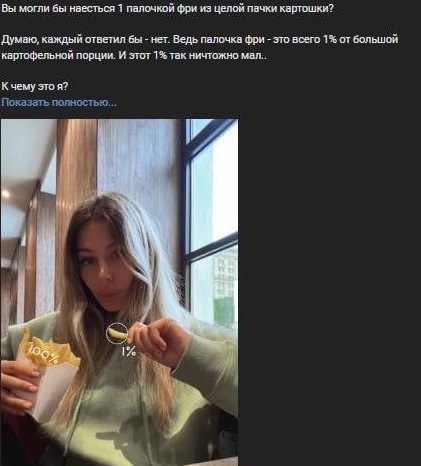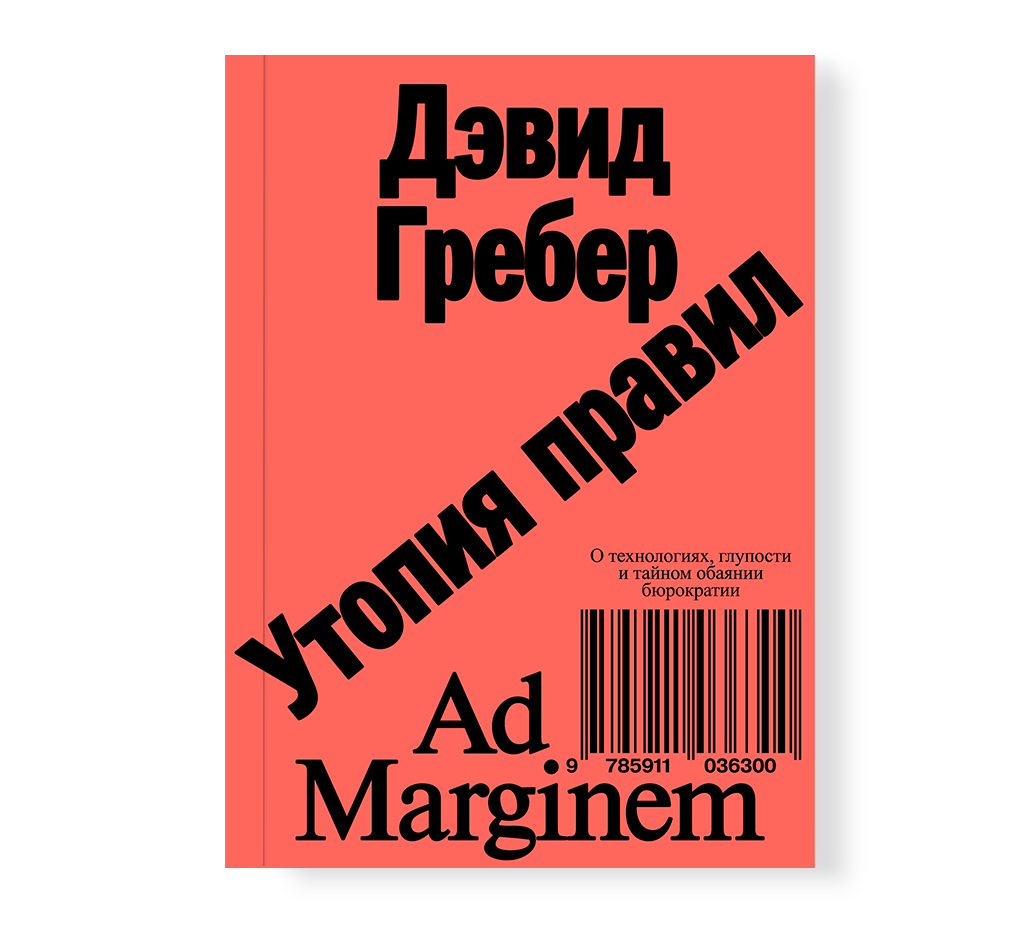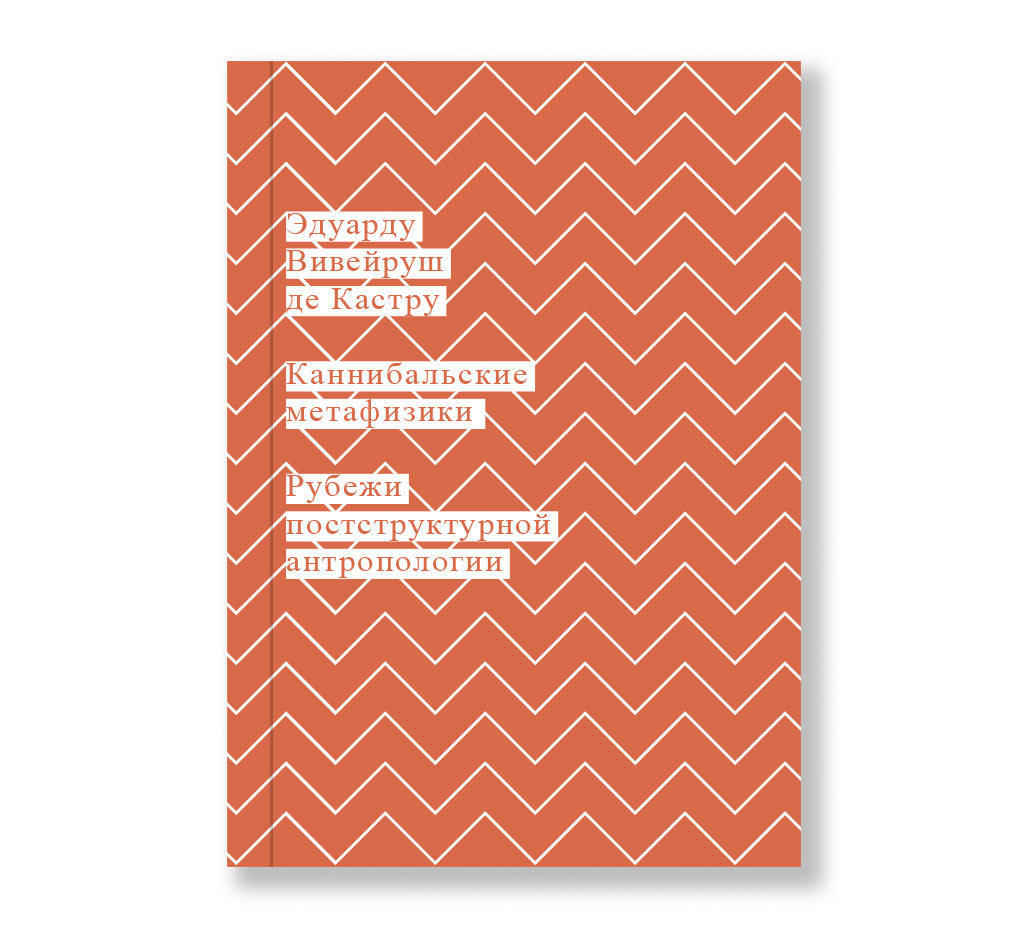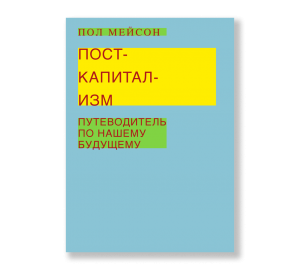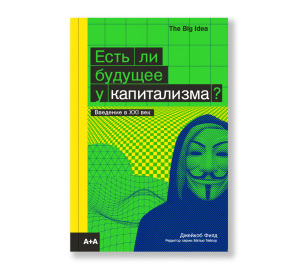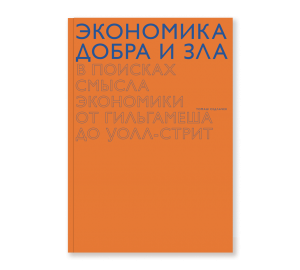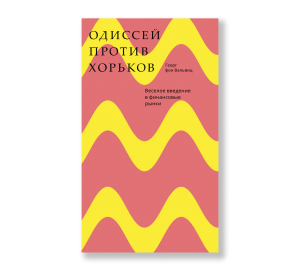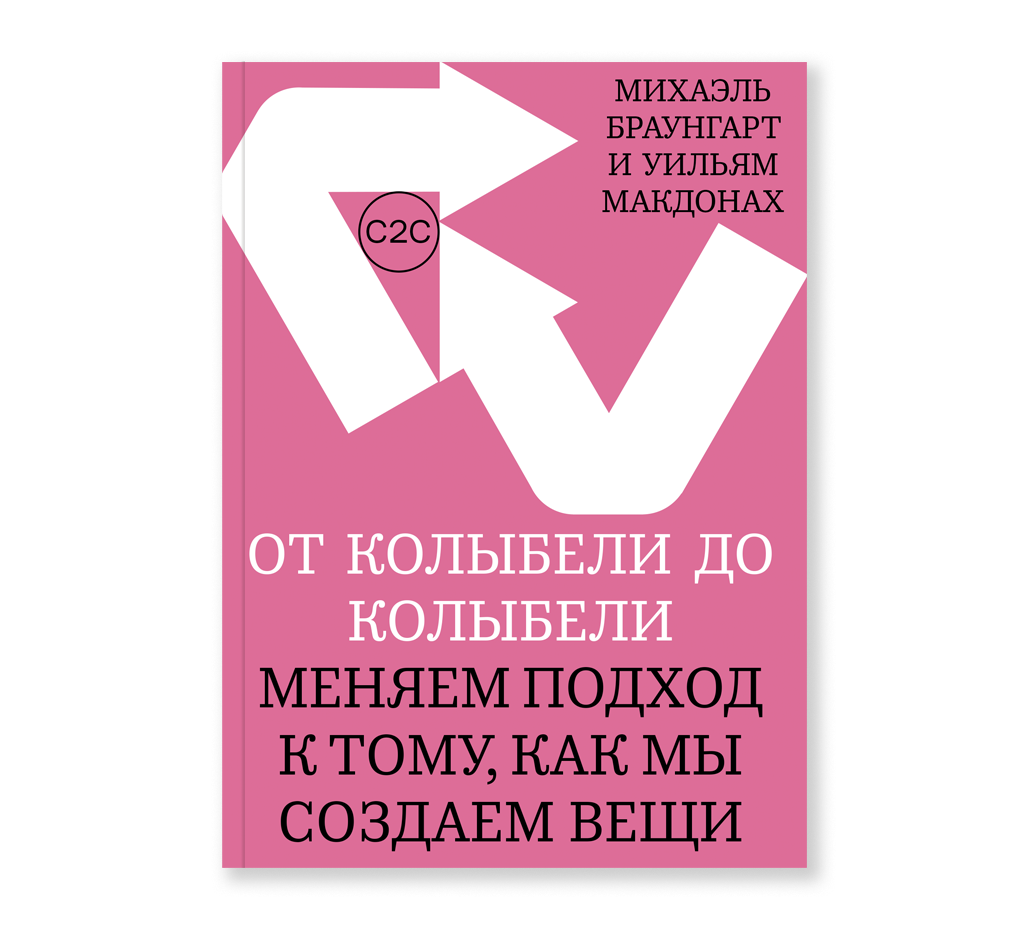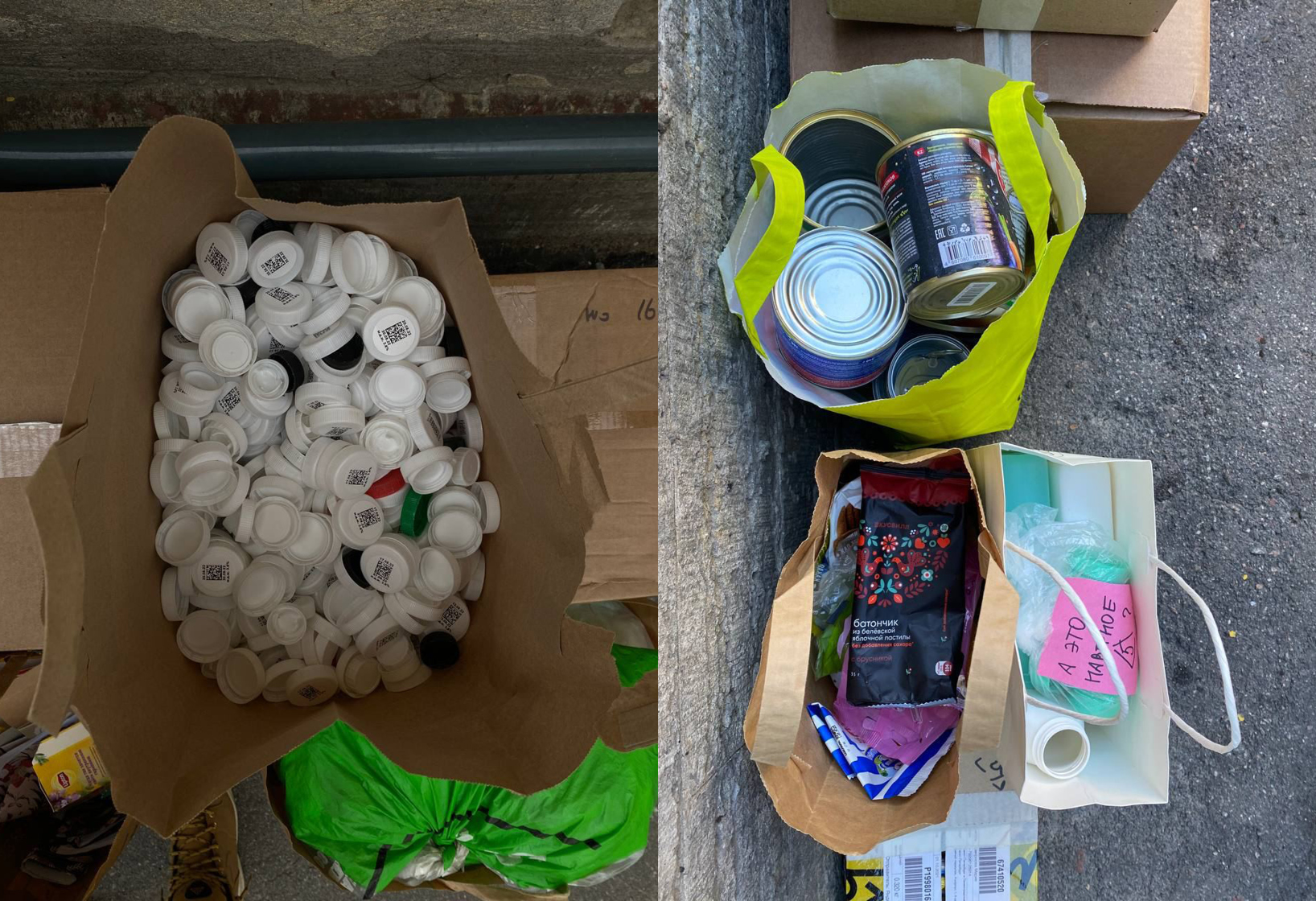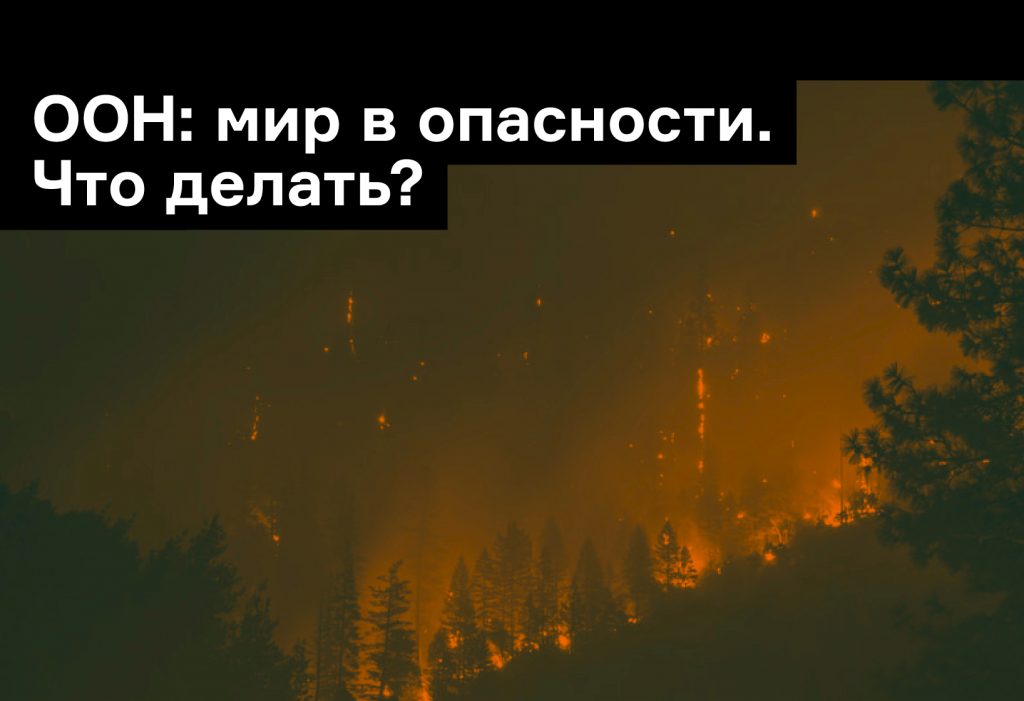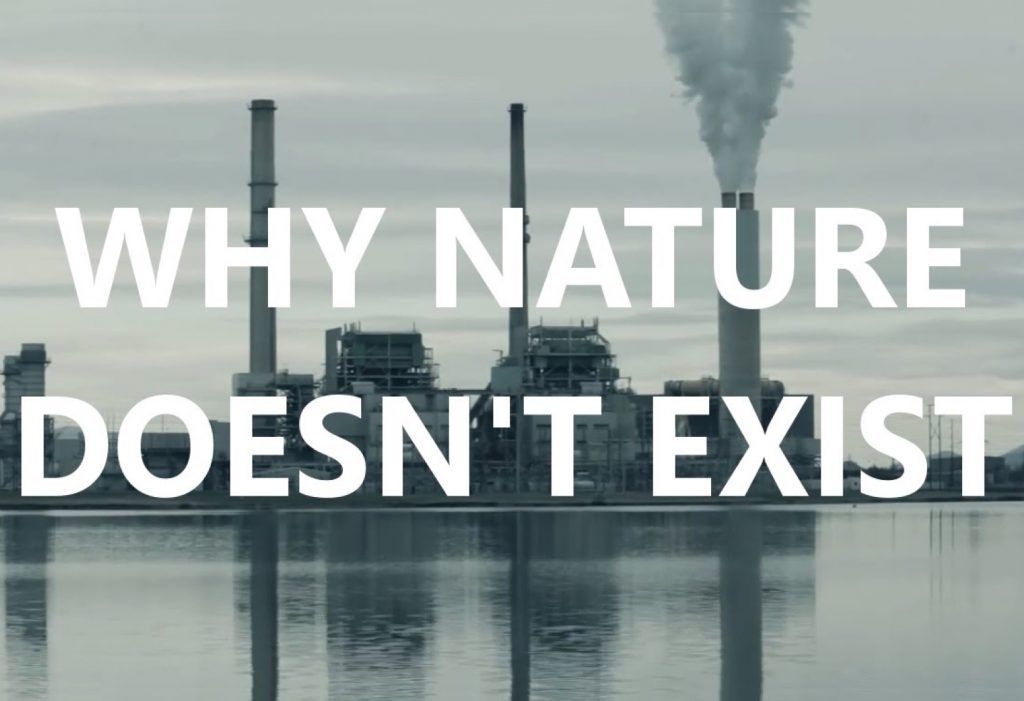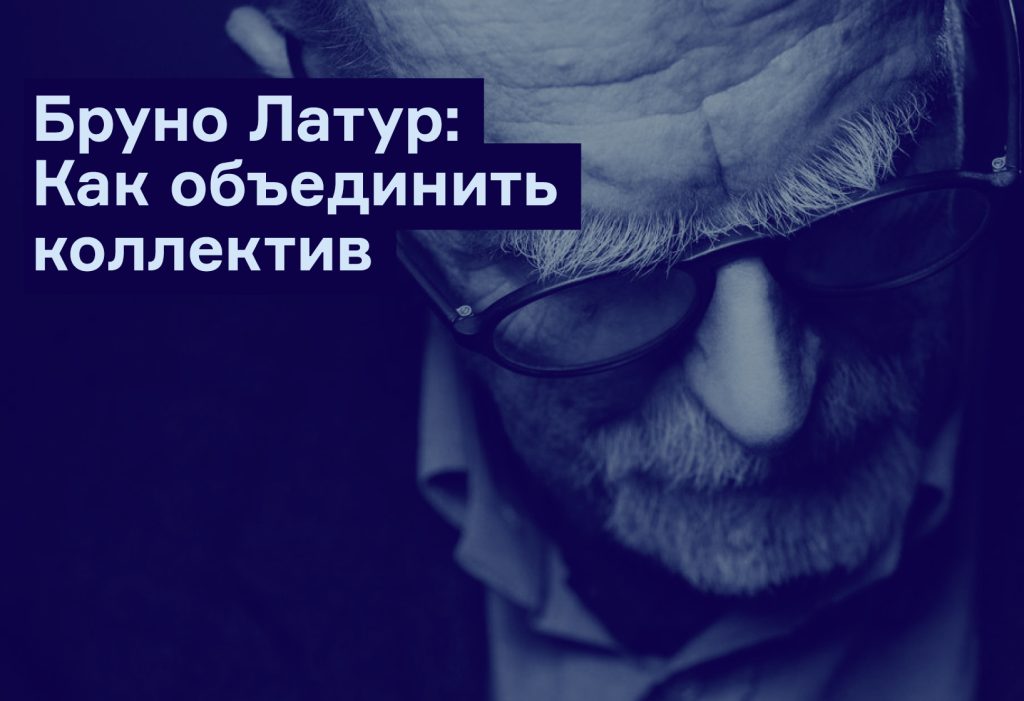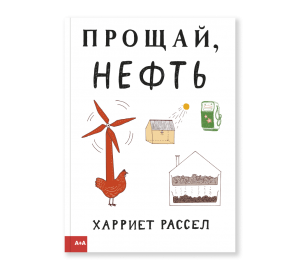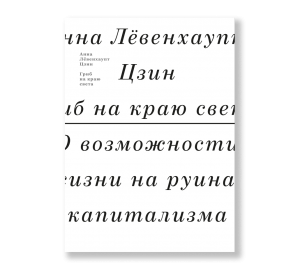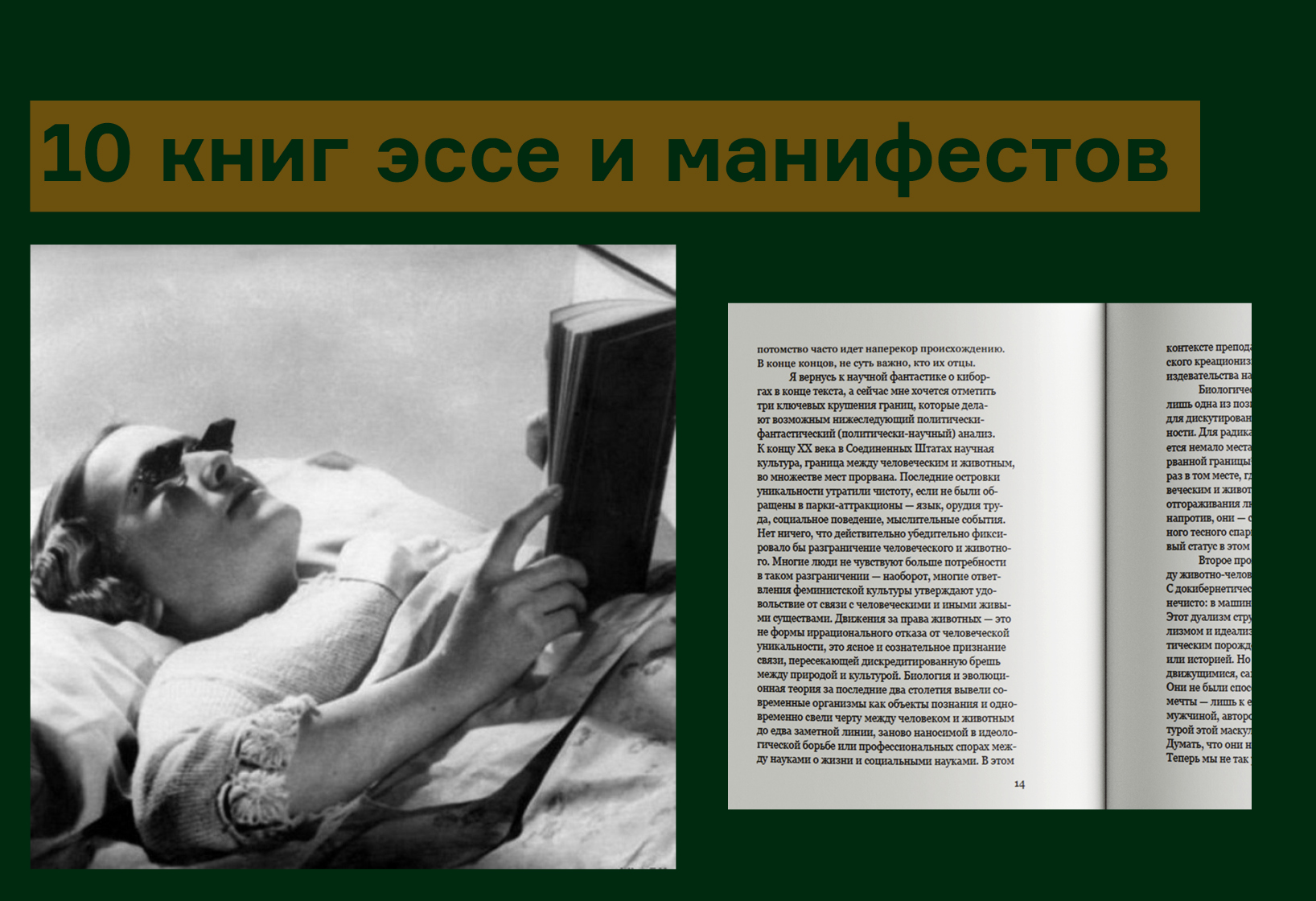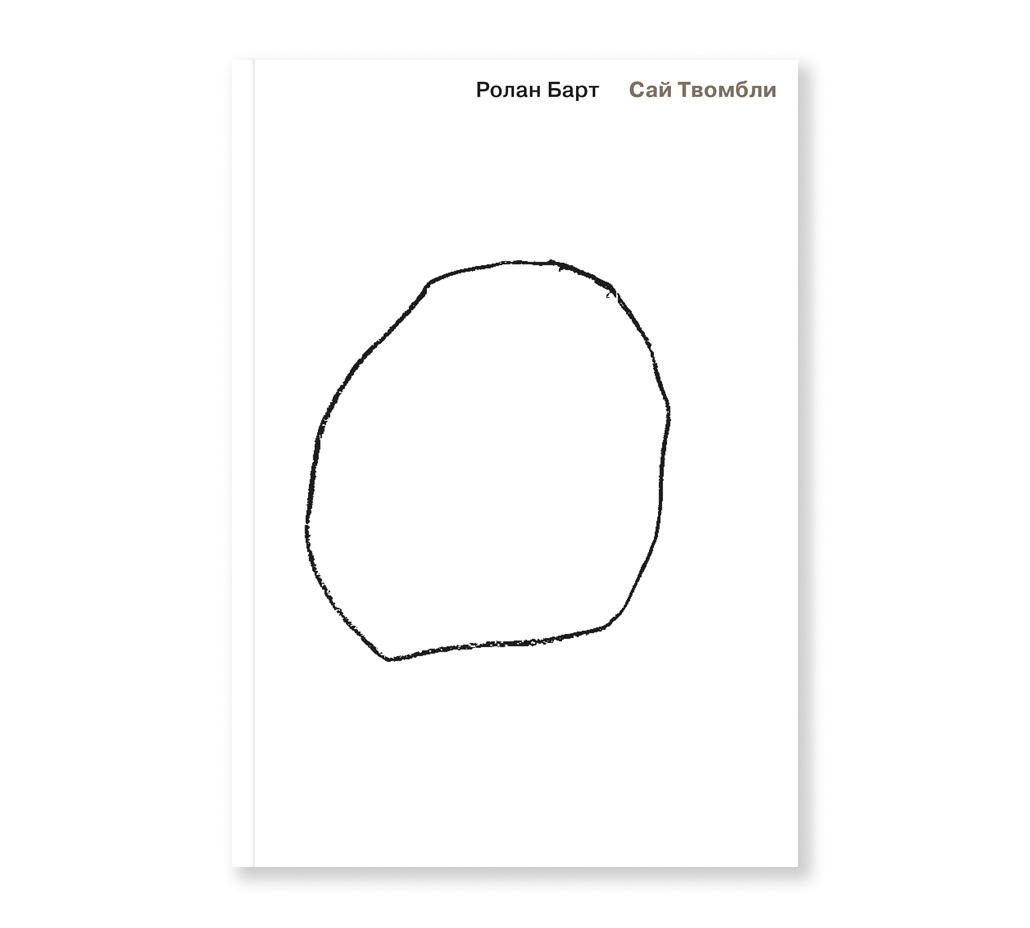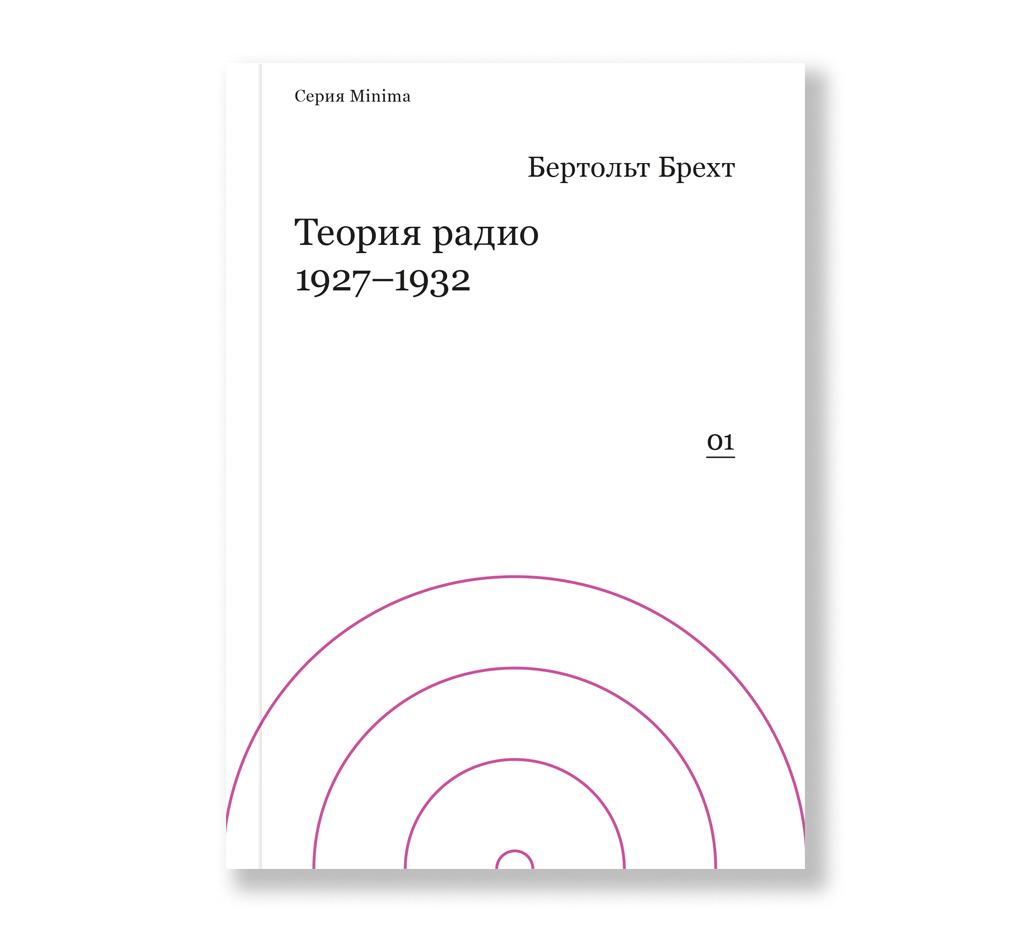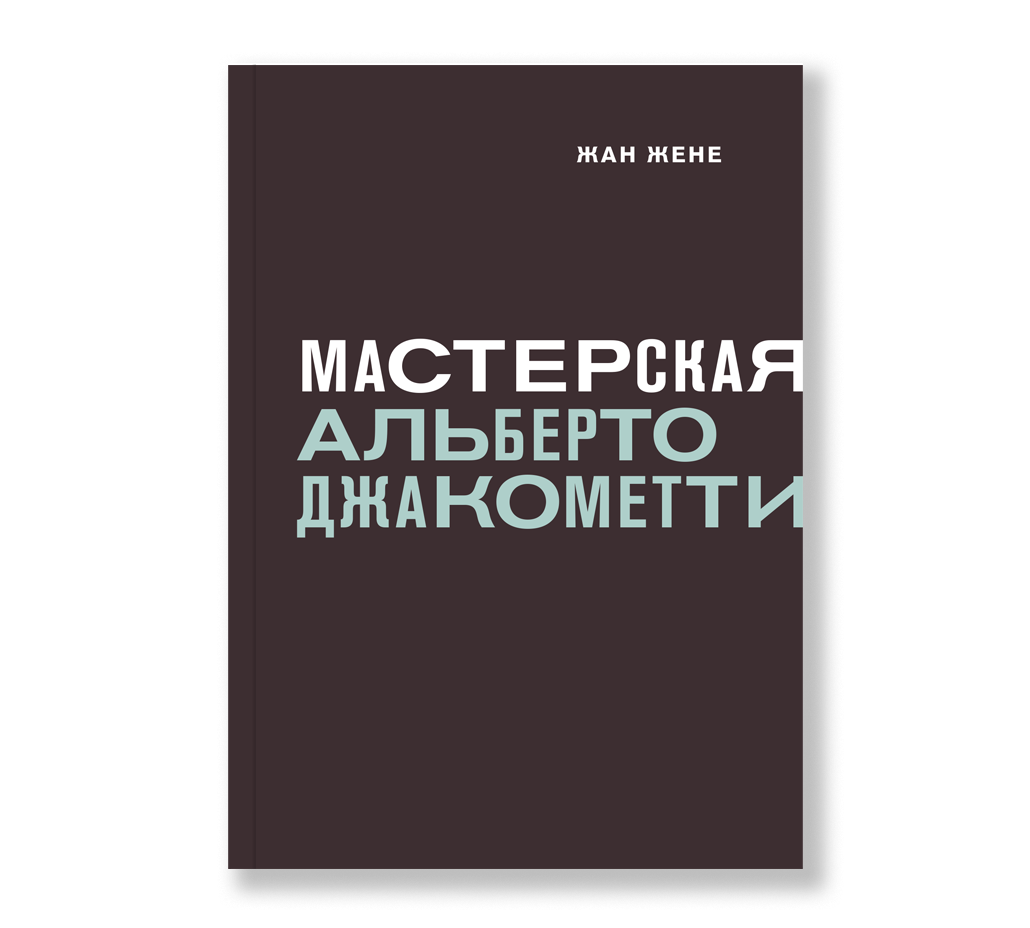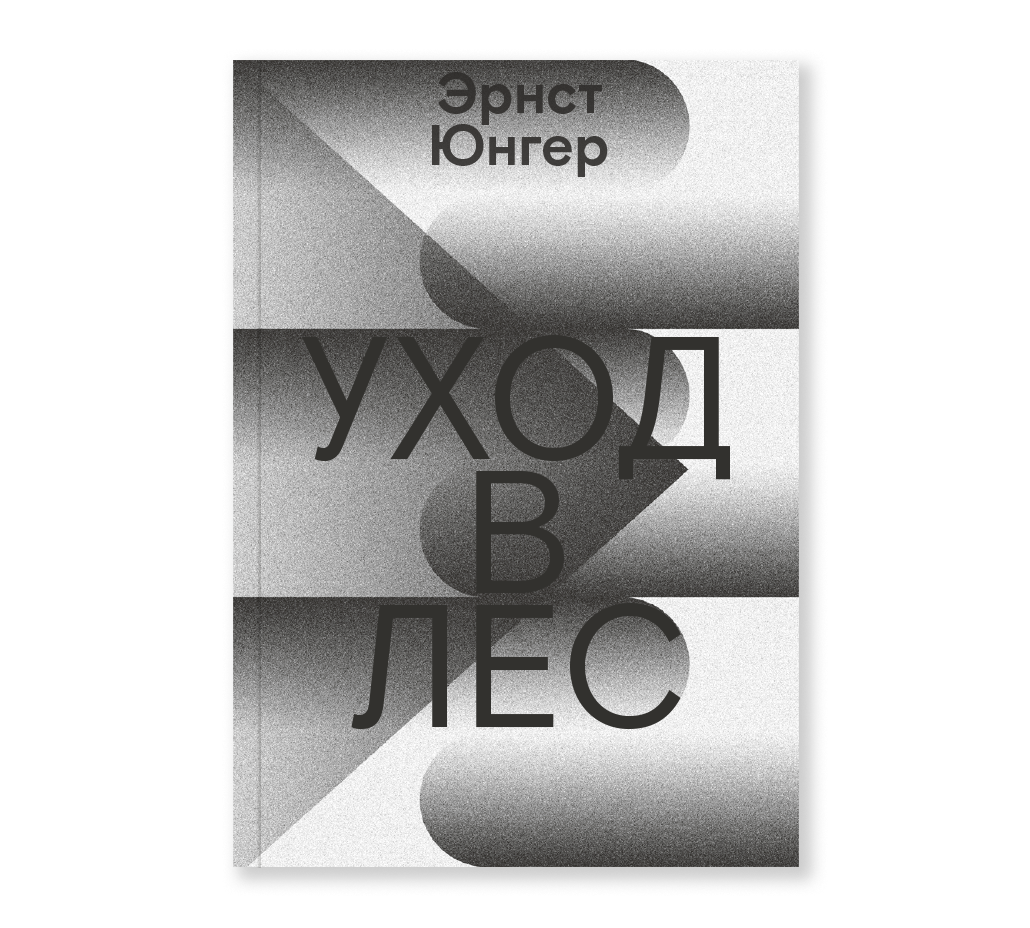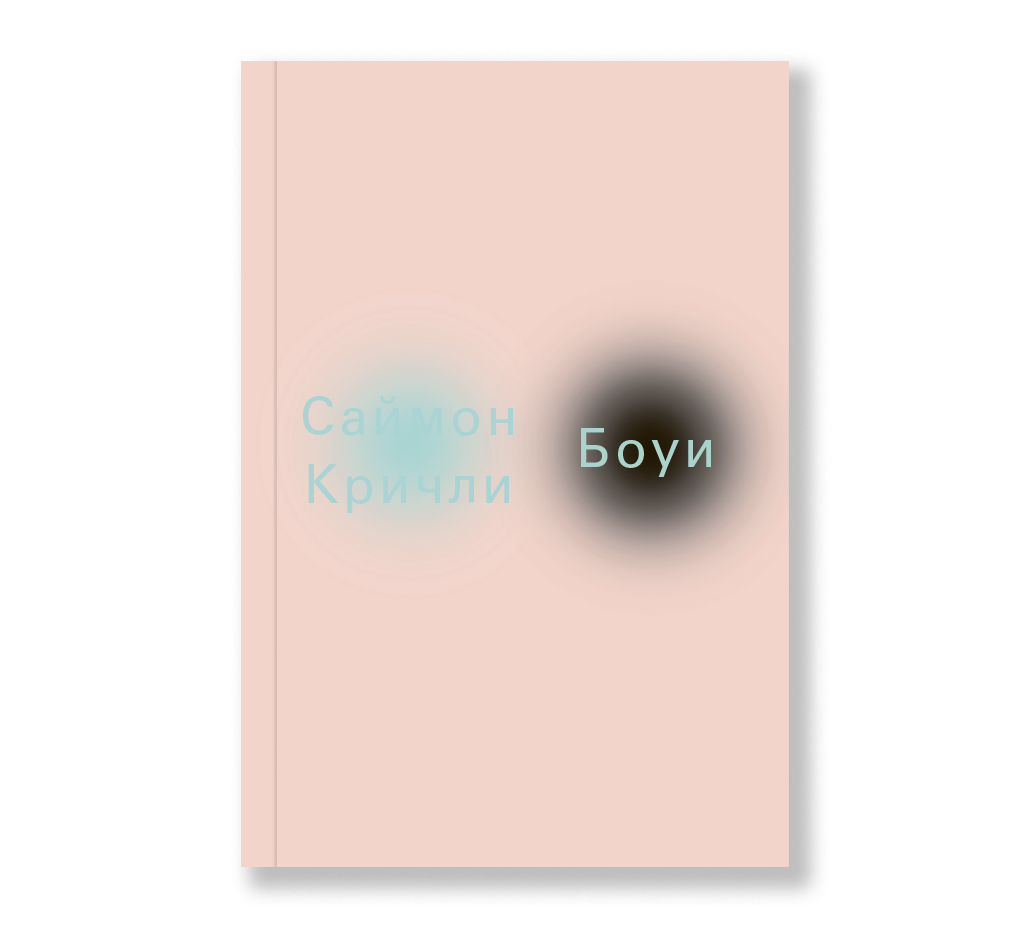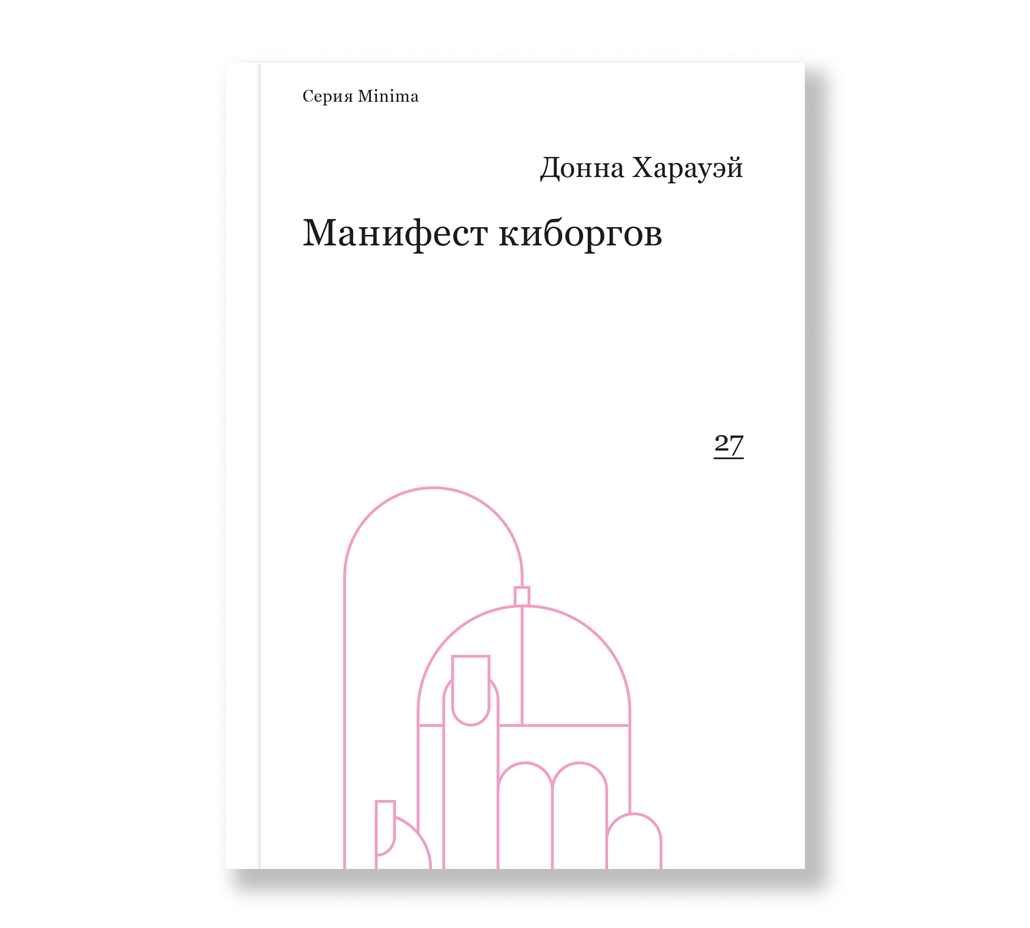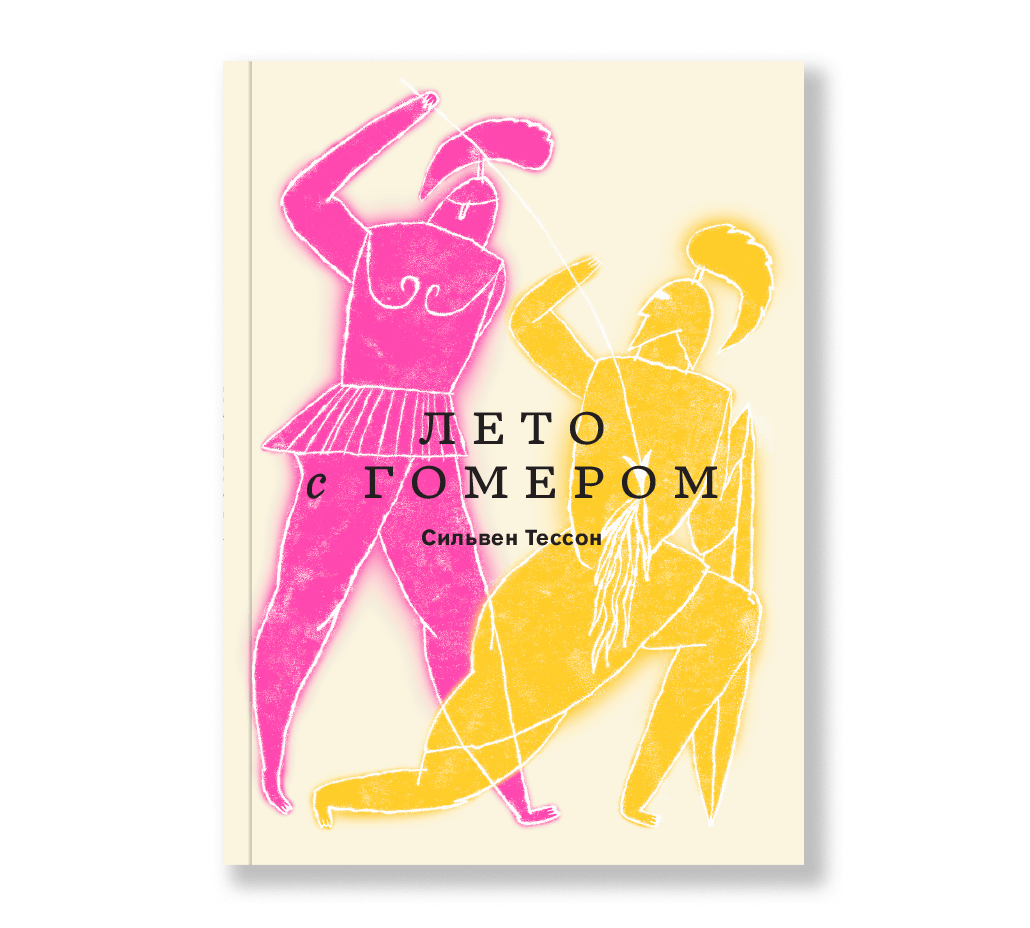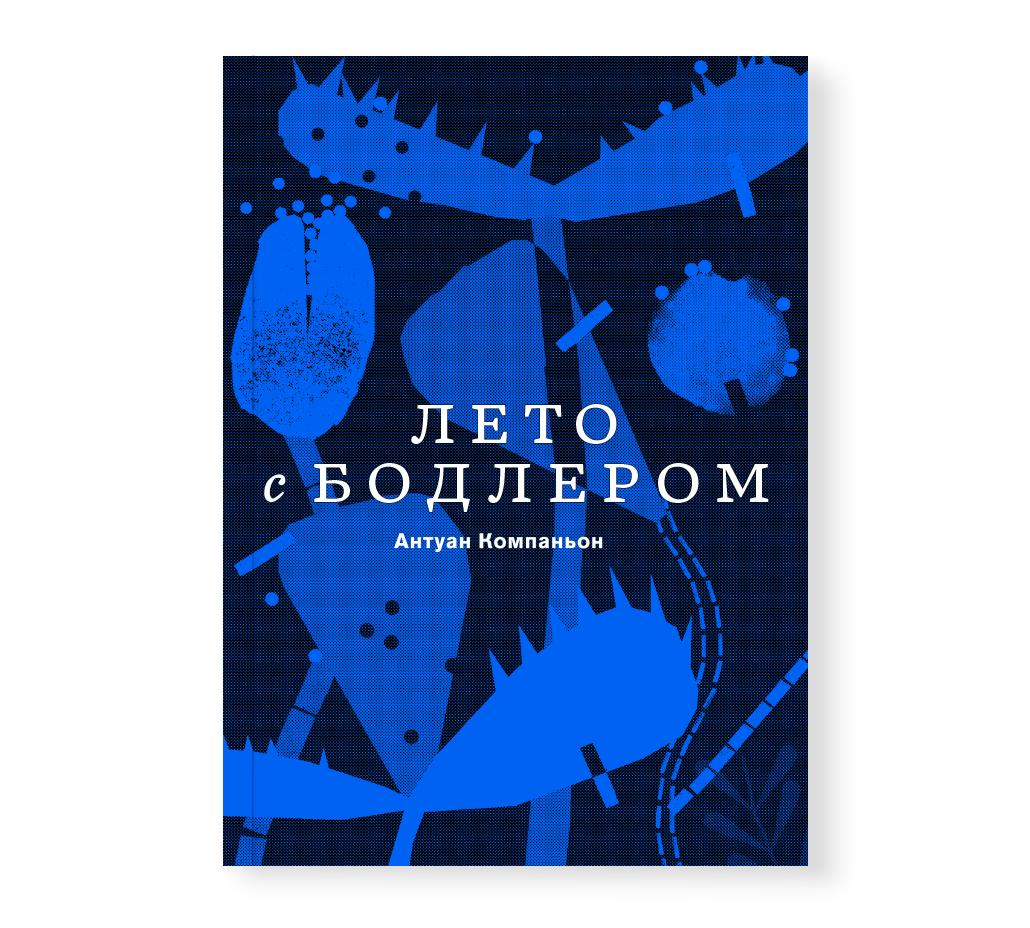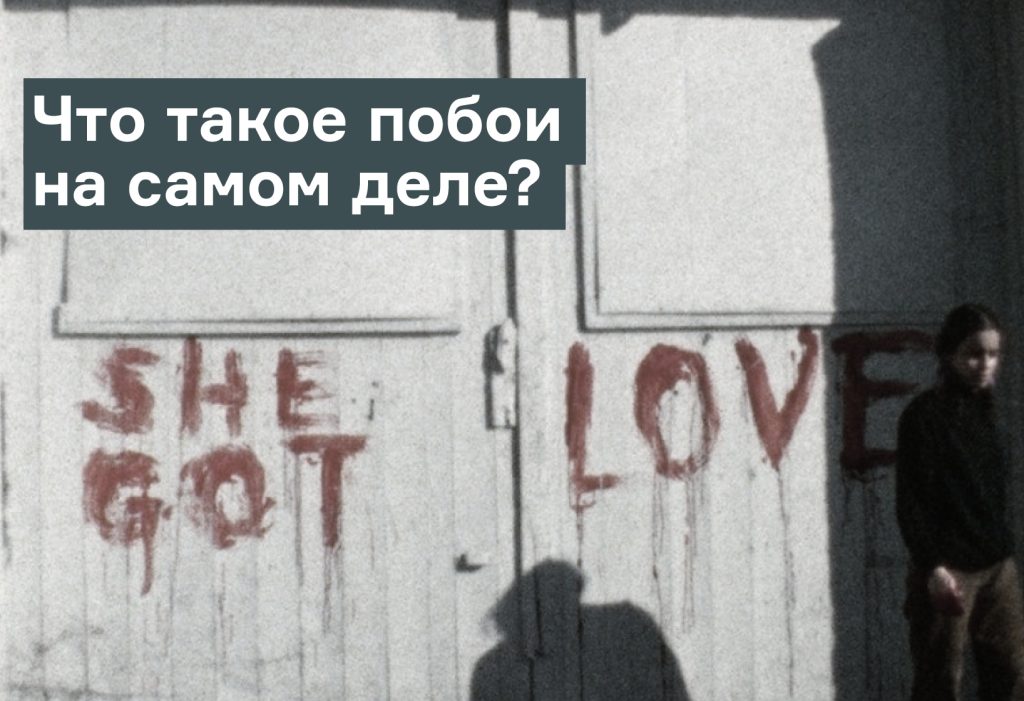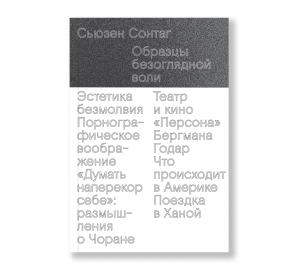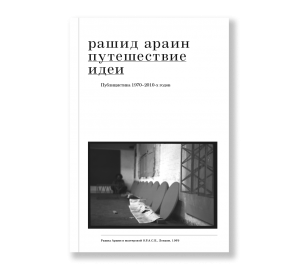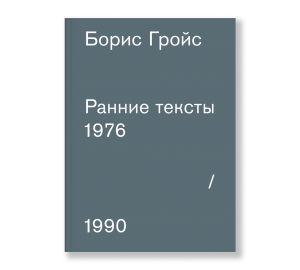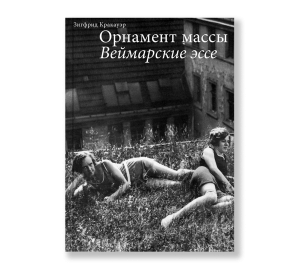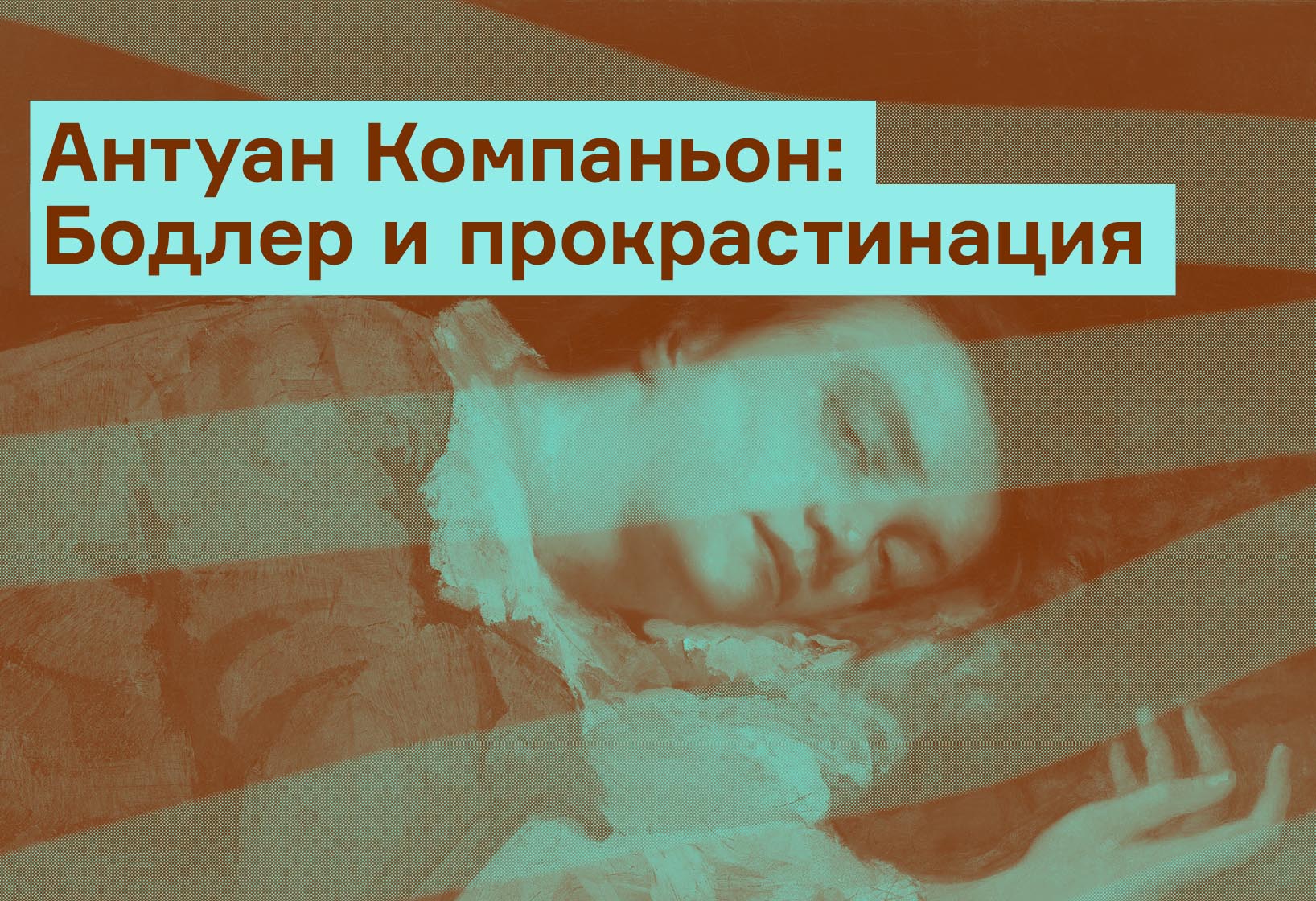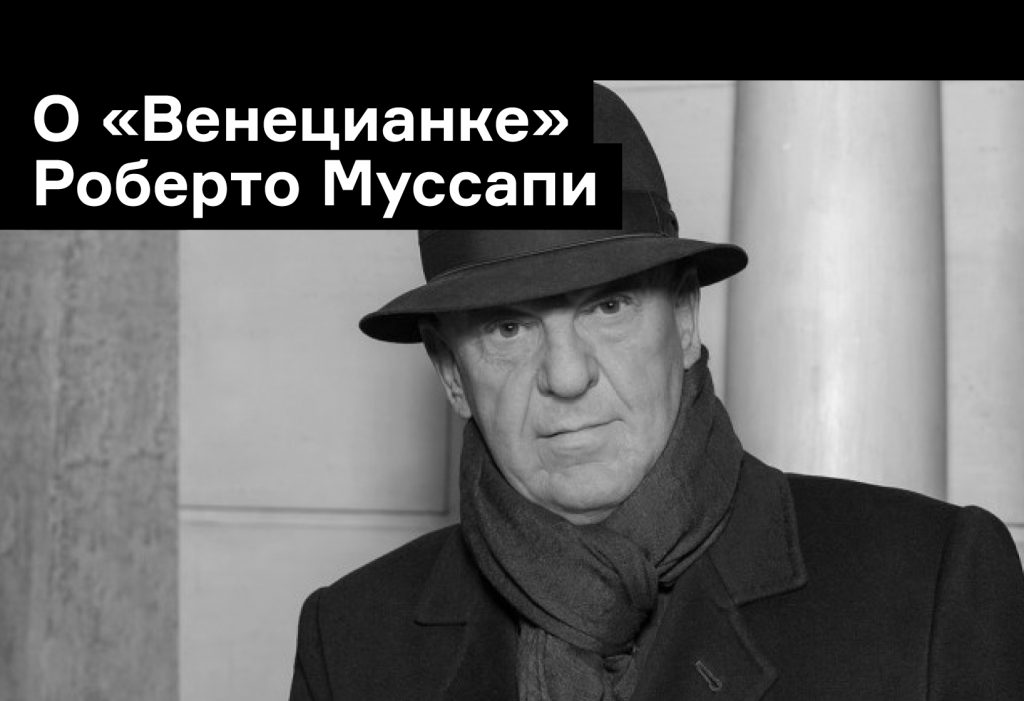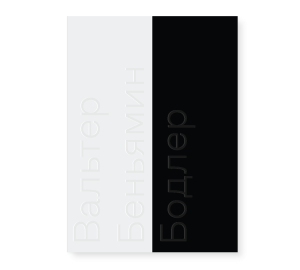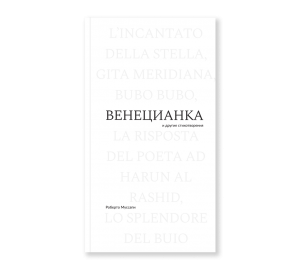Каким Дэвид Гребер представляет себе будущее, как его мысль преломляется в российском контексте и какую его книгу участники взяли бы на философский пароход? Публикуем расшифровку дискуссии, прошедшую 25 сентября на фестивале «Ревизия» в Санкт-Петербурге.
Участники:
Алексей Сергиенко
Аспирант Европейского Университета
Армен Арамян
Переводчик книг «Бредовая работа», «Заря всего. Новая история человечества», PhD студент University College London
Сергей Стеблёв
Редактор русского перевода книги «Заря всего. Новая история человечества», экономист (Автономный Университет Барселоны)
Михаил Федорченко
Аспирант Центра практической философии «Стасис»
Алексей Сергиенко: Стоит начать с небольшого вступления. Почему мы вообще 25 сентября 2022 года в России обсуждаем Дэвида Гребера, а не делаем что-то другое? Дэвид Гребер — один из таких людей, которые мыслили окружающую реальность в противоречиях и в способности человека эти противоречия снимать прямым действием, решимостью говорить о важных вещах, несмотря ни на что — и в этом обретать автономность и целостность действия в будущем.
Дэвид Гребер — американский антрополог. Родился в Нью-Йорке 12 февраля 1961 года в семье двух политических активистов, так что у него была очень хорошая педагогическая школа. Отец — участник интернациональных бригад в испанской революции, мать — активистка интернационального женского профсоюза швей. Поэтому рос он в очень интересной обстановке. Еще интересный факт, что в детстве у Гребера было хобби — переводить иероглифы майя.
Потом он подался в академическую карьеру, защитил диссертацию о памяти и насилии на Мадагаскаре (The Disastrous Ordeal of 1987: Memory and Violence in Rural Madagascar), где он жил с 1989 по 1991 год у профессора антропологии Маршалла Салинса — одного из создателей экономического подхода в антропологии. Потом эта диссертация стала книжкой, которая, к сожалению, не переведена на русский язык (Lost People: Magic and the Legacy of Slavery in Madagascar).
Он преподавал в престижных вузах Америки и Англии, написал огромное количество фундаментальных работ. Его, наверное, можно назвать классиком современной антропологии — теоретические и практические экспликации из его творчества повлияли на аргументы практически всех современных гуманитарных наук. Но это только с одной стороны Гребер предстает нам человеком науки — профессором, академиком, интересы, которого распространяются на антропологию, археологию, историю, философию, социологию и экономику.
С другой же стороны, Гребер — член профсоюза «Индустриальные рабочие мира» (одного из старейших профсоюзов Америки, с большой анархо-синдикалистской историей). С 1999 года он один из видных участников движения за глобальную справедливость в Америке, которое потом стало фундаментов Occupy Wall Street. Один из самых часто приводимых фактов о Гребере, что это он придумал лозунг «Мы — 99%» — один из важных лозунгов Occupy Wall Street. Конечно, это не совсем точно, сам Гребер всегда переводил стрелки и говорил: «Что вы, что вы… Это не я, это люди». Такой он был человек. Активный сторонник революции в Рожаве, активист, участник демонстраций; публично поддержал Азата Мифтахова — аспиранта МГУ, незаконно осужденного за нападение на офис «Единой России».
Из этих двух сторон и складывается феномен Дэвида Гребера. Мы видим редкое совпадение утонченности исследователя и открытость политическому низовому участию в общественной жизни, охватывающей не только артефакты прошлого, но и артефакты будущего, которые, согласно Греберу, нам еще предстоит открыть.
Поэтому мой первый вопрос: что мы называем феноменом Дэвида Гребера? Что феноменального в исследованиях этого человека?
Сергей Стеблёв: Мы сегодня, судя по мемам в последние два дня, тоже 99%, но не в том смысле, в каком имел в виду Гребер и Джозеф Стиглиц до него. Сегодня у нас есть роскошь быть 99 процентами довольно гарантированно живых.
В чем феномен Гребера? Действительно, у него была академическая и активистская сторона. На мой взгляд, первая его феноменальность в том, что значительная часть его текстов, которые активно академически цитируются, написаны очень доступным языком. Он умел писать демократично. Лучшая, по моему мнению, книга Гребера (The Democracy Project) не переведена на русский, она лучшая как минимум с точки зрения того, как она написана.
С другой стороны, Гребер дал очень много идей, к которым я постоянно обращаюсь в качестве политических ориентиров. Прямо перед нашим разговором Армен мне напомнил про текст Гребера «Армия альтруистов». Это, конечно, текст Гребера — публициста, это не какой-то фундаментальный антропологический труд.
Это текст про американскую армию. Гребер цитирует исследование мотиваций людей, идущих и остающихся служить. И очень высокую позицию занимает ответ, что они остаются, потому что там они делают что-то осмысленное. А они там занимаются общественными работами — чинят школы и т. п. Понятное дело, что не все служащие американской армии этим занимаются, но если те, кто остаются, почему-то остаются, то именно из-за этого. Поэтому текст называется «Армия альтруистов». Гребер видит в этом пример того, что в современном ему американском обществе закрыта возможно делать что-то осмысленное. То, о чем потом можно рассказать дома, а не прятать взгляд, отвечая на вопрос «что ты сделал за день?».
С точки зрения Гребера, в современном обществе (не только американском) для большинства людей закрыта дорога в осмысленные, высокие вещи — академии и т.д.. Непосредственного труда, где ты знаешь, что ты делаешь (трактор, например, или что-то такое), тоже становится меньше по известным всем причинам. И остается просто большая доля того, что Гребер называл бредовой работой. Армия остается одним из единственных таких выхлопов. И наш товарищ в Twitter несколько часов назад сказал примерно то же самое, осмысляя реакцию людей на частичную мобилизацию.
Армен Арамян: Для меня Гребер — один из важнейших авторов, потому что до прочтения его работы я вообще не очень интересовался антропологией. Он в своих работах, особенно во «Фрагментах анархистской антропологии», рисует очень соблазнительный проект антропологии как науки, в центре которой лежит мысль, что другой мир возможен, что антропология может показать пути выхода из того состояние, в котором существует наше общество — капитализм, патриархат и все такое. Что общество не всегда так устроено.
Антропология — это такая наука против капиталистического реализма. Она показывает, что общества могут быть устроены по-другому. И что наше собственное общество устроено не так, как кажется, если исходить из его официальной идеологии.
При этом, конечно, я, занимаясь журналистской работой, осознаю, насколько было важно умение Гребера оформлять свои идеи. Оставаясь в сфере теории достаточно фундаментальным автором, он умел озвучить смелые, сырые идеи, которые, как ему казалось, могут получить отклик у людей. Например, идея «бредовой работы» многим кажется сырой как академический концепт, но при этом она суперпопулярна. Он умел делать эти идеи не только понятными, но такими, без которых потом невозможно мыслить. После прочтения какой-нибудь работы Гребера тебе кажется, что ты всегда так думал, что всегда эти концепты с тобой были и без них уже ничего не объяснить.
Нам с Сережей и всем другим людям, которые читали Гребера, а потом пытались сделать что-то в академии, понятно, что быть таким автором в академии очень сложно. А вне академических институтов ты не можешь позволить себе тот уровень исследовательской фундаментальности. Поэтому для меня самый большой вопрос — как быть таким автором как Гребер? Одновременно оставаться фундаментальным автором, который не занимается профанацией, пересказом и популяризацией и при этом общаться на доступном для аудитории языке — развивать и менять публичный дискурс, заражать какими-то идеями.
Михаил Федорченко: Если каждому называть любимую книгу Гребера, которую он бы взял с собой на философский пароход, то моя книга — «Утопия правил». Мне кажется, это одна из таких работ, которая имеет мета-позицию над всей философией Гребера. Чем интересен Гребер не только как антрополог, но и как такой ангажированный академик, так это тем, что он постоянно сыплет понятными, очень жизненными примерами, которыми он характеризует свою философию. Это касается и того, как он описывает бюрократию во всех своих текстах, а в этом более подробно, как способ организации власти, как способ блокировки воображения. И вся его философия пронизана антифуколдианскими, антивеберовскими попытками найти способ выработки воображение внутри таких структур.
И в этой, и в других своих книгах он рассматривает эти имплицитные структуры, которые не позволяют находить диалог между властью и теми, на кого власть направлена: отсутствие фундаментального коммуникативного потенциала, который лежит вне рамок бюрократии, все эти мелкие способы контроля…
И тут он заходит уже на такую жижекианскую территорию, сам того не подозревая, утверждая, что разница между автократической властью и властью демократической не такая большая, потому что и там, и там есть структура, которая может проявлять власть путем насилия, заставляя субъекта делать что-то. И демократическая власть отличается от автократической только тем, что в демократиях есть только угроза применения палки. Но постоянное правило, постоянный бюрократический способ микроконтроля там сохраняется.
Такими способами капиталистического реализма, если мы применим этот термин к его трудам, и является постоянное следование всем мелким способам такого контроля за подписями, росписями, доверенностями, которые в настоящее время очень актуальны. Это тоже важный аспект греберовской мысли. Он говорит, что даже мельчайшая роспись, мельчайшая частица имплицитной идеологической власти — это власть правил. И эта власть накладывается на власть проективного воображения и блокируется им. Он описывает как хотел оформлял доверенность на свою мать: постоянно ошибался в написании имени, не там расписался… В итоге мать не смогла получить должного лечения и умерла. И он говорит: если мы хотим мыслить общество без государственной власти и власти как таковой, то мы должны мыслить общество без бюрократия. Потому что бюрократия — это те строительные блоки, которые фундируют любую такую скрытую власть.
Алексей Сергиенко: Мне кажется, что через все работы Гребера проходит линия фокуса на повседневности. Это то, чего недостает академическим исследователям, которые, как мы часто представляем, сидят в некотором вакууме — библиотеках, книгах, теоретических материалах, а вокруг происходит жизнь. И эта простота и популярность Гребера, о которой говорил Сергей, отличается от научно-популярного языка, который мы встречаем в книгах естественно-научных исследователей, когда они рассуждают, показывая на пальцах. Когда Гребер показывает на пальцах, он предлагает некоторый фокус, который совершается прямо на глазах, потому что все примеры из его книг находятся в нашей жизни.
В одной из своих первых работ («Фрагменты анархистской антропологии») он говорит, что нам нужна низкая теория, противопоставляя ее высокой. Низкая теория — та теория, которая стремится найти проекты, где разные положения себя бы усиливали. Это проект социального, политического характера, который не вступает в прямой антагонизм, а находят себя в новых рамках повседневности. Потому что мы ощущаем, что повседневность изменилась. Буквально на днях мы ощутили, что наша повседневность стала представлять опасность — все говорили, что опасно выходить на улицу, опасно заходить в метро. Это говорит о том, что повседневность представляет из себя чувствительный материал, который необходимо определенным образом объяснять, чтобы оставаться честным, хотя бы с самим собой. И Гребер в этом плане был честным человеком, посвятив себя не только академии, но и политической активности.
Вопрос, который здесь мне интересно задать: что такое повседневность? Где ее границы? Как нам, рассматривая теоретические положения, мыслить происходящее вокруг нас? В чем заключается секрет повседневности, о которой пишет Гребер?
Вот Михаил сказал о бюрократии. Бюрократия — это то, с чем мы имеем дело постоянно. Мы постоянно получаем чеки и постоянно их подписываем. Если мы учимся в университетах или работаем на работе, то задержки, связанные с оформлением документов, всегда нас останавливают. С другой стороны, бюрократия, та, что существует сейчас в России, как будто не нуждается ни в каких дополнительных измерениях. Тебя могу взять на улице без всяких документов. Даже если у тебя есть медицинская справка о том, что ты инвалид, то это ничего тебе не гарантирует. И это очень странно. Как бюрократия здесь начинает менять повседневность? И если бы Гребер жил в России, то он написал бы такую книгу как «Утопия правил»? Или это была бы «Утопия без правил»?
Михаил Федорченко: Кажется, что как раз в России Греберу было бы хорошо находиться. Его мысль здесь бы была антиатлантистской, если так можно ее назвать. В России сейчас на некоторых властных каналах (даже на Russia Today) говорят, что есть перегибы на местах. И в России постоянно происходят эти перегибы на местах. Правила гнутся, но до конца согнуться не могут — складка не появляется, как у де Касту.
Поэтому в рамках бюрократии, которая является фундаментом правил как элемента отправления власти, но не являясь при этом обязательными в плане выполнения контекстуальных правил, которые закладываются в бюрократию, эти правила постоянно находятся в подвижном состоянии. Не в рамках гегемонии отправляющего бюрократические решения органа, а в рамках тех, кто эти решения внизу оформляет. По идее, российская утопия правил — это правила правил. Правила правил — это всячески сгибать и трактовать правила как постоянно требующие своего нарушения. Такая диалектика правил, которая может как спасти человека, так и навредить ему в ситуациях подобных тем, что мы сейчас видим.
Поэтому пытаться обосновать бюрократические становления и как-то существовать в этих условиях можно и в России. Тут прогноз будет не совсем положительный, не совсем аффирмативный, но все-таки он в том, чтобы ускользать, всячески не заявлять о своем намерении встроиться в бюрократическую структуру. И в России выстраивается контргегемонная власть против бюрократии. Это характерный тип, который имеет множество антропологических-анекдотических свидетельств в рамках массовой культуры, в том числе в других странах. И тот идеальный вариант бюрократии, который описывает Гребер и который существует в идеале демократического типа правления, он не существует нигде и везде в рамках капиталистического строя общества. Везде есть необходимость отправлять эту мягкую или эту сильную власть по средствам этих имплицитных правил. Разница в том, что где-то их можно сгибать и находиться внутри этой складки, а где-то ты не можешь ими манипулировать, пользоваться ими как-то иначе, помимо того как хочет суверен.
Армен Арамян: Я хочу сказать не напрямую про бюрократию и повседневность. У меня сейчас возникла мысль. В последнее время, когда кто-то обращался ко мне за советом и говорил: «Вот человек интересуется левыми политическими идеями, что ей или ему почитать как первую книжку?», я всегда автоматически предлагал Гребера. Но при этом с некоторой фрустрацией, потому что кажется, что каждая из работ как бы недостаточна фундаментальна, все они про локальные явления. Например, «Бредовая работа» про очень специфическое социальное явление, не факт даже, что полноценно существующее.
Но сейчас я думаю: насколько критика Гребера полезна для того, чтобы понимать что-либо из происходящего в России? Как будто многие из его работ очень хорошо подходят для того, чтобы критиковать популярный политический дискурс. И я скорее про оппозиционный дискурс, чем про государственный. Потому что я не знаю как может пригодиться Гребер для понимания государственного политического дискурса. А вот для того, чтобы понять логику технократии… Которую иногда и государство пытается использовать: мы знаем все эти разговоры про эффективных функционеров, какого-нибудь Собянина, который строит очень современный цивилизованный европейский город Москва.
В значительной степени дискурс, условно говоря, оппозиционных движений или очень многих деятелей довольно легко критиковать при помощи Гребера. Потому что Гребер критикует западный common sense, который про то, что есть современная европейская цивилизация, которая образовалась, потому что в Европе были либеральные мужи, революции, идеи, демократия. И вот они через социальные потрясения, последним из которых была Вторая мировая, стали доминировать на Западе и эти идея нам всем нужно перенимать.
Гребер напрямую не занимается критикой глобального неолиберализма, он критикует именно эту логику. Например, у него есть прекрасное эссе There Never Was a West, которое тоже против такого европейского common sense императива Европы про саму себя. И «Бредовая работа» может и не очень хорошо объясняет то, как устроена современная работа, но она очень хорошо подрывает common sense, связанный с тем, что если за это платят, то это кому-то нужно.
Гребер мне часто кажется полезным, когда я вижу людей, которые пытаются критиковать путинский режим и предлагать альтернативу. Или даже не предлагать альтернативу, критикуя таким образом, что даже не понятно, что является альтернативой. А альтернативой для них является какое-то «нормальное» европейское государство; с рынком, который не столь важен как рынок, а важно, что это «нормальная» экономика. И если посмотреть какие-то выступления политических деятелей, то там всегда будет сквозить что-то такое про цивилизацию и нормальность. В том числе про нормальность функционирования бюрократии. Потому что критика коррупции и коррупционные расследования — это расследования того, как структура власти, как бюрократия, как эти правила в какой-то момент были нарушены. В идеале эти правила не должны нарушаться, но вот система у нас устроена почему-то так и эти правила нарушаются; и это — главная проблема нашего общества. Не неравенство, не доминирование политических групп, не дисбаланс власти, не угнетение групп, а проблема в том, что правильностью не соблюдается. И это довольно слабая критика, как мы можем заметить.
Я довольно часто про это думаю, про этот антикоррупционный дискурс, дискурс про неправильных чиновников, думаю о том, что он популистски слаб. Хотя это спорный вопрос, потому что антикоррупционные расследования Навального довольно популярны — это видео с десятками миллионов просмотров. Но именно как дискурс, который бы нас объединял с какой-то общей целью, с тем, что мы должны что-то изменить, добиться какого-то лучшего будущего — он не очень работает. Лучшее будущее — это там, где все также, но не воруют. Если бы это было так, то в реальности это означало бы, например, что российская армия очень хорошо оснащена, что там все идеально работает.
Какой-то политический статус-кво в России предполагает, что большинство политических сил, у которых есть возможность строить сильные движения будто бояться озвучивать реальную политическую альтернативу, которая не сводилась бы к мантрам про нормальность — нормальный какой-то порядок, законность…
Даже дискурса про справедливость особо нет. Хотя, если смотреть на последние расследования команды Навального (Фонд борьбы с коррупцией признан организацией, исполняющей функции иностранного агента, а также экстремистской; деятельность в РФ запрещена), то там появляется некоторый левый популистский сентимент: «Вот, смотрите, обычная уборщица получает столько, а этот получает столько». Но за этим тоже нет критики устройства общества. Просто правила не соблюдаются, все разворовывается, поэтому все так. Гребер хороший автор, чтобы такой common sense критиковать и стимулировать нас двигаться дальше, придумывать другие политические программы, которые представляют что-то еще.
Сергей Стеблёв: Я чуть-чуть уйду в сторону, чтобы вернуться к Греберу, а не уходить в тему критики российской оппозиции.
Одна их ключевых идей, которые Гребер вбросил в мою голову, что бюрократия — это не что-то привязанное к государству, это не только то, что можно найти в департаменте. Люди, которые работают в McKinsey — бюрократы; люди, которые работают в аудите — бюрократы; люди, которые работают в топ-менеджменте — бюрократы. Это все частные бюрократии.
Почему это все бюрократии? Потому что все эти люди занимаются координацией того, что происходит в обществе, они принимают решения, у них есть какое-то знание. В «Заре всего» Гребер и Венгроу пытаются объяснить, что они понимают под бюрократической властью и говорят, что бюрократическая власть основана на знании: если только вы знаете, где зарыт клад, то у вас есть бюрократическая власть; если только Эльвира Набиуллина знает, как спасать российскую экономику, то у нее тоже есть власть — и даже Владимир Путин чувствует над собой некую власть либералов-экономистов. Штука в том, что это подталкивает нас к тому, чтобы не экзотизировать российское общество (в том числе) и понимать, что в нем есть множество разных бюрократий, что то, что они делают — важно для всего общества.
То, как управляются курьеры — это тоже бюрократия. Частично алгоритмизированная бюрократия. Это они знают, где какие заказы, они знают, по каким схемам будет награждаться труд и они сами координируют эти процессы.
Другое дело, что нам, возможно, нужна социалистическая бюрократия. Кроме шуток, Гребер говорит, что главное, что в экономике происходит — создаются люди. Все эти люди созданы для того, чтобы быть частными и государственными бюрократами. И вот тут начинается мое отличие от мысли Гребера. Он постоянно говорит, что совсем другой мир возможен. Он говорит, что каждый день воспроизводит капитализм и, если бы мы поняли, что в этом главный секрет и просто однажды перестали бы его воспроизводить, то все бы изменилось. Я немного достраиваю эту фразу, но я думаю, что Гребер сильно на эту идеалистическую педаль нажимает. И как мы недавно обсуждали с Арменом, что у Гребера есть проблема: она в том, что создается ощущение, что anything goes — этот мир возможен, тот мир возможен, любой мир возможен! На мой взгляд, смысл в том, чтобы понимать, какой другой мир возможен.
Касательно бюрократии. Я думаю, что все разговоры про то, что бредовых работ не существует — это все фуфло. Конечно, они есть и все это очень хорошо сочетается с тем, что мы макроэкономически знаем про современность. Существует огромное количество людей, которые работают на своих высокооплачиваемых работах и знают, что это не приносит никакой пользы обществу. И, возвращаясь к вопросу о том, какой другой мир может быть, вполне возможно, что один из этих миров заключается в том, что все эти люди берутся координировать конкретные полезные вещи удовлетворения человеческих потребностей.
И тут, кстати, есть еще одна бронебойная фраза Гребера, о том, что есть декларация прав человека и наша либеральная оппозиция считает себя продолжателем и хранителем дискурса прав человека. И Гребер всегда говорил, что в декларации прав человека написано, что у всех должно быть право на кров, на то, чтобы не умирать голодной смертью и т.д.. Но, говорит Гребер, никогда ни одну страну никто не осуждал в международном суде за то, что эти права человека нарушены. Нам нужно, так сказать, апроприировать дискурс прав человека, если уж на то пошло, в том числе в России, переключиться туда. И вот в этом бюрократы могут помочь.
Алексей Сергиенко: Действительно, основная линия критики Гребера в том, что он предлагает оставаться в тени существующего порядка и на этой почве засеивать семена контрвласти; выходя из-под структур насилия, давать место воображению. И повседневность — это место, где воображение имеет обоснование. Известны примеры коммунизма повседневности: когда ты стреляешь сигарету на улице, то чаще всего тебе ее дают; если спрашиваешь время, то тебе его подсказывают. И на это Гребер говорит: «Смотрите, мы взаимодействием друг с другом и даже не требуем возмещения потраченного времени. Если бы все были такими капиталистами, то мы бы сказали: вот сигарета, стоимость пачки 200 рублей, так что с тебя 10 рублей».
Но критика Гребера заключается в том, что он действительно идет вразрез с анархистской теорией, которая основывается на надежде на революцию, которая рано или поздно случится. Надежде, что победят рабочие всех стран или к власти придут миноритарные группы. Не к власти даже, а к контрвласти, что они научатся сосуществовать друг с другом.
В этом плане он очень похож на Хаким Бэя (известного также как Питер Ламборн Уилсон) — недавно умершего теоретика анархизма, Гребер во «Фрагментах анархистской антропологии» часто на него ссылается. Он тоже предлагал постоянный способ ускользания из-под власти, поиск мест, где мы может устраивать такие встречи и говорить о вещах, о которых мы бы пару дней назад боялись говорить публично — и таким образом себя соединять, питать наше общее чувство солидарности.
С другой стороны, есть ли у Гребера презентация будущего? Его часто называют анархо-оптимистом, который нам говорит, что изменения порядка возможны. Он искренне верил, что XXI век — это век, когда случился кардинальное изменение в глобализированном мире. Но что интересно: линия критики Гребера всегда в конфликте с прошлым. Он говорит, что у нас нет примеров в прошлом, которые мы могли бы взять за образ общества, в котором мы хотим жить. Что прошлое всегда к нам поворачивается темной стороной, если мы его начинаем исследовать. Это значит, что прошлое — это не то, на чем мы должны строить утопическую картину. Мы не должны воображать прошлое. Мы должны двигаться сквозь с него, отталкиваясь от него только как от конкретного эмпирического материала.
Поэтому вопрос: каким представляет себе будущее Гребер?
Есть ли в этой картине мира смысл для нас? Можем ли мы пойти за этим чувством оптимизма и хорошего взгляда в будущее или мы должны более фундаментально рефлексировать над прошлым, пытаясь чему-то научиться что-то вернуть? Есть ли какая-то репрезентация будущего в проекте, который нам предлагает Гребер?
Михаил Федорченко: У Гребера довольно сложно найти когерентный способ мышления о будущем, потому что оно всегда у него рассредоточено по разным работам. Но у него всегда есть тезис, что нам необходимо воссоздавать проективное воображение, нужно учиться мыслить за рамками власти (не так важно какой), нужно не повторять ошибок революционных движений, т.е. не брать власть ради самой власти, нужно в принципе пересматривать парадигму революционного воображения. И вряд ли кто-то из постанархистов, которым Гребер себя не считал, но к которым он идейно примыкает, думает иначе. И это проблема скорее того, что сам образ будущего всегда подлежит реконструкции в соответствии с присущими нам здесь и сейчас способами мышления о государстве и о социальном протесте. Поэтому тут можно обратиться акселерационистской мысли — к Нику Сырничку и Алексу Уильмсу с их попыткой выстраивать свой диагноз будущего: как можно через воображение утопического раскрутить и на практике реализовать различные социальные и политические возможности.
Гребер не дает нам конкретной дорожной карты. Ему и не нужно, потому что он занимается другим.
Он занимается антропологическими аспектами ускользания от власти, он занимается критикой эффективности микровласти, он занимается, если мы вспомним диалектику раба и господина у Гегеля, понятую через Батая (что тот, кто находится в самом низу иерархии, руководит и имеет большую власть над тем, кто находится вверху иерархии, что раб имеет власть над наслаждением господина) тем, что напоминает нам, что только на контргегемонном проекте проектирование и конструирование будущего не ограничивается.
Армен Арамян: Мне про будущее нечего сказать.
Алексей Сергиенко: И это очень важное замечание. Потому что нам его действительно очень сложно вообразить в нашем положении. И есть ли Гребера тот ресурс, благодаря которому мы могли бы это воображение найти в себе?
Михаил Федорченко: Был ли у него этот ресурс в принципе? Я не в курсе, но коллеги может лучше знают: Гребер все-таки оставался в рамках западной академической парадигмы или же он находил интересные моменты в постколониальных каких-то исследованиях? Может быть там располагается что-то релевантное? Мне кажется, впадать в меланхолию не нужно. Гребер, описывая темные страницы прошлого, в нее не впадает. Он, наоборот, учит оптимизму. Мне кажется, оптимизм даже среди туч — это то, что сейчас нужно.
Сергей Стеблёв: Михаил задал очень хороший вопрос. В «Долге» есть явный прообраз исламской, я бы так сказал, политической мысли. Гребера в первую очередь всегда интересуют моральные способы мыслить, это мы постоянно у него берем. Что касается мусульманской традиции: он говорит об обмене и о том, что такое рынок в моральном понимании. Он говорит, что единственный идеал экономического взаимодействия по мусульманской средневековой мысли — это сделка, которая никем не форсится, которая не основана на внешнем принуждении государства. Если мы посмотрим на такую мейнстримную институциональную либеральную мысль, то в хорошем обществе все сделки обязательно закреплены судами. А что это значит? Что они закреплены итоговой отсылкой к насилию. И единственная коммерция, которую Гребер готов принять как человеческую — та, которая основана чисто на доверии, в которой нет третьего, который следит с дубинкой за тем, чтобы все вовремя доставили свои товары.
Это хороший ориентир для будущего, но для меня из внезападной мысли более интересна история про собственность. В книге «Заря всего» Гребер и Венгроу пишут про индигенную концепцию собственности и говорят, что она основана на представлении о заботе. Заботе о том, что тебе доверили.
Сказать: «Это — твой лес», это значит сказать: «В этом лесу должны продолжать расти деревья, должно поддерживаться биоразнообразие. Если ты его вырубаешь, то ты сажаешь снова».
Понятно, что это нарушение одного из столпов римской категории собственности, которой мы мыслим постоянно, нарушение представления о собственности как о праве на уничтожение того, что у тебя есть. Если лес твой, то ты его можешь спалить. А если не можешь, то значит, что он уже не совсем твой. А это значит, что недостаточно хорошо развиты институты собственности.
Если нам не уходить в совершенно параллельный дискурс: в котором у нас все не так, в котором мы все — постанархисты и вообще не можем ни с кем разговаривать из-за схожести наших категорий, то нужно подумать о том, что, например, экономический процесс — это просто такая небольшая штука в экосистеме. Это значит, что базовые институты собственности в хорошем обществе должны быть построены на заботе о частях этих экосистем. Кстати, довольно забавный факт, что российские олигархи отчасти так и мыслят себя. Они считают, что доставшееся им по итогам приватизации — это тоже не до конца их. Они иногда любят об этом поговорить. Даже Дерипаска иногда говорит: «Если что, мы все отдадим». Они думают, что они такие гардианс, что они заботятся об этих кусочках, которые им доверили. Но понятно, что это такой абьюз дискурса заботы. Но это показывает, что эта логика не какая-то инопланетянская, она не только индигенная — нам не нужно всем превращаться в племена вокруг канадских озер, чтобы ее понять.
А вообще, Гребер действительно не любил придумывать образы будущего, в первую очередь потому, что он считал, что везде нужно искать тех, кто уже пытается снизу решить те или иные проблемы. Это такая базовая позиция, но не сказал бы, что она идеально работает.
Из Гребера нужно брать дискурс тактики, моральной тактики, но стратегическое мышление — это не Гребер.
Армен Арамян: Мы столько раз об этом с Сережей рассуждали, что мне уже нечего добавить. Но я тоже задумался о будущем у Гребера. Это есть мем «этого будущего хотят леваки», так же можно сказать «этого будущего хотел Дэвид Гребер», когда в конце «Бредовой работы» очень неловко возникает: «А кстати, безусловный базовый доход!».
Но в конце «Бредовой работы» он как раз следует принципу, который Сережа описал. Он рассказывает, какой вклад феминистки внесли в понимание, что такое капитализм и почему он возможен (а он возможен за счет того, что огромная часть труда по воспроизводству общества не оплачивается и по умолчанию должна выполняться женщинами). И Гребер говорит, что в 1970-е было феминистское движение, требовавшее зарплату за работу по дому. А потом добавляет: теперь эти активистки требуют безусловный базовый доход. Безусловный базовый доход — не звучит как супер вдохновляющая идея, конечно. И здесь есть гэп между тем, что Гребер утверждает, что все возможно, но в тоже время говорит: «Я вам ничего не скажу и никакими идеями про то, что возможно на самом деле, не поделюсь. Просто все возможно!»
Алексей Сергиенко: Это интересно, потому у исследователей в области антропологии, которые пришли после Гребера, была артикулированная позиция на счет того, что же им нужно. Есть такой нидерландский исследователь Уле Бьерг. В своей книжке «Как делаются деньги» он использует тот же тезис, что и Гребер в «Долге» — о воображаемости денежных единиц, о необоснованности их воплощения в купюрах или железе. Он говорит, что мы не можем представить, каким должен быть мир с точки зрения финансовой системы, но можем представить, какая должна быть революция в этом мире. Он говорит, что самый эффективный способ современной забастовки — это разом перестать оплачивать кредиты и ипотеки. Потому что это разрушит способность банков мультиплицировать денежную валюту с помощью перебрасывания и переведения ее в разные инстанции и деривативы. И что только таким образом мы можем выйти на горизонт возможных будущих.
Мне кажется это очень интересным в свете того, как мы можем мыслить себе другой режим существования, другой режим повседневности. Выплачивание кредитов — это уже для многих повседневность. Слом и преломление в этом моменте влечет волну непредсказуемых последствий. Но, возможно, непредсказуемость последствий — это то, что необходимо нам сейчас, чтобы иметь возможность мыслить себя в другом измерении реального, а не в том, которое нам навязывается постоянным закабалением правилами или, как сказал Михаил, правилами правил в России.
Кажется, что Гребер все равно внес существенную лепту в направление, практические результаты и выводы современной науки, которая стремится как-то ответить на практические вопросы, не оставаясь только в теоретической области размышлений. Поэтому важно, что его мысли вселяют оптимизм не только в нас как в читателей, но и как в исследователей и практиков анархистской политики.
Михаил Федорченко: Внеся феминистский элемент в эту дискуссию, Армен коснулся воспроизводства труда — больше на эту тему пишет хорошая знакомая Гребера Хелен Хестер в книге «Ксенофеминизм», которая тоже сейчас переводится. О том, как связан репродуктивный труд в современном капитализме и деньги, о том, как возможно помыслить их без диктата власти, которая конструирует человека на основе деторождения и как из этого будущего можно спастись. Мне кажется, можно Гребера покритиковать в связи с необходимостью выработки аффирмативной политики. Но что такая политика может быть помыслена и продуцирована как раз теми, кто его читает.
Задача Гребера — не быть революционным теоретиком. Нужно перевернуть его философию с головы на ноги и использовать ее как орудие, с помощью которого можно менять социальную реальность. Его философия — не само орудие. Орудие — это мы.
Сергей Стеблёв: Действительно, Гребер описывает мою задачу как автора, как академика — изменение common sense, здравого смысла. И эффект от этого изменения одновременно опьяняющий и стимулирующий, но если ничего дополнительно не использовать в этом состоянии, то опьянение пройдет и в лучшем случае не будет похмелье. Короче, Гребер — не тотальный автор.
Но нас удивило, что у него были разные другие проекты. Он писал, что у него есть проект в соавторстве с посткейнсианским экономистом или несколькими. Мы могли бы увидеть его более привязанные к историческому моменту мысли. В этом смысле не надо его тотально загонять в наши рамки, построенные на основании того, что мы особенно хорошо запомнили.
Алексей Сергиенко: Гребер умер два года назад от последствий ковида и очень много проектов подвисло. У него был интересный проект с его женой Никой Дубровской, посвященный детям: музейному пространству, где дети могли бы себя чувствовать свободно и тем самым давать эмпирический материал для размышлений о возможных обществах.
Вопрос из зала: У меня в последние пять минут возник вопрос. Из того, что вы сказали о работах Гребера, я могу сравнить его с представителями колониальной опции, которая предполагает отход от академичности, от привычного мира. И там есть схожая проблема: люди отказываются воображать будущее, представлять политическое общество. И сегодня вы, Армен, сказали, что вам нечего сказать о будущем. Я хотел спросить, с чем связан отказ от воображения политического будущего и будущего в целом? Можно ли это как-то исправить?
Армен Арамян: Мне казалось, что мой отказ от того, чтобы мыслить будущее не нуждается в объяснении, что он исходит из общих настроений. Но это хороший вопрос. Мне кажется, что есть распространенное объяснение про капиталистический реализм, неолиберализм, провал советского проекта, про то, что в XX веке была большая политическая альтернатива капитализму, но этот проект оказался провальным. Но дальше нет убедительной причины, почему бы нам не придумать еще несколько версий политического будущего, кроме как разочарованности.
Это еще и вопрос того, что производство какого-то виденья будущего предполагает политическое движение, которое хочет такого будущего. Это не просто, что какой-то один автор придумал его и все. Люди объединяются — с общими целями, с общим виденьем проблем, на основе солидарности или общей идентичности — и что-то предлагают, верят в какой-то вариант будущего.
В последнее время я часто думаю, что главная проблема российского общества (извините за такую формулировку), то, почему мы не можем объединиться и что-то сделать, в том, что мы как будто не знаем, что делать. Этот образ «нормальной» политики — в него сложно поверить. Особенно сейчас, когда эта нормальная политика разваливается даже в тех местах, которые долго себя позиционировали как ее витрину. Но это двойная проблема: нет движения — нет людей; нет людей — нет движения. Сложно ответить, что первично. Наверное, хардкорные марксисты проще бы на него ответили, ссылкой на классы и т.д. Но Гребер хорош тем, что у него нет такого фатализма и детерминизма (хотя Сережа сейчас скажет, что у Маркса тоже его нет), Этим Гребер и хорош, и плох.
Михаил Федорченко: Мне кажется, сам с собой полемизируя, Армен ответил на свой вопрос, выяснив, что будущее все же есть и находится в руках организованных сообществ, которые сами объединяются в рамках имманентного политического момента. И мы можем только индексировать, что такие образы будущего существуют, мы не можем их навязывать.
Алексей Сергиенко: Остается всем домашнее задание: подумать про будущее в хорошем ключе и поискать индексации и имманентные моменты, лакуны и движения, которые могли бы с нашим образом будущего срезонировать.