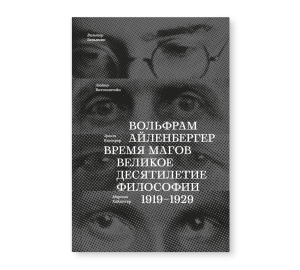«Не возвращаться в Цюрих без уравнения»

Зима 1925 года. У Эрвина Шрёдингера рецидив туберкулеза. Он только что провел семинар по квантовой механике, о которой только начали говорить в научном сообществе, и, отправляясь в санаторий в Швейцарии, решает там поработать над уравнением, которое позже станет известно как уравнение Шрёдингера. Публикуем отрывок из книги Бенхамина Лабатута «Когда мы перестали понимать мир», в которой чилийский писатель рассказывает о нескольких ученых двадцатого века, чьи открытия удивляли, но сделали наш мир еще более тревожным и непознаваемым.


В 1923 году Шрёдингеру исполнилось тридцать семь, он обосновался в Швейцарии и наконец зажил спокойно. У них с Аннемари было много любовников, но супруги принимали неверность друг друга и жили в мире. Мучило Шрёдингера лишь одно: он понапрасну растрачивает свой талант. Его интеллектуальное превосходство проявилось уже в раннем детстве: в школе он всегда получал самый высокий балл, и не только по любимым предметам, а по всем без исключения.
Много лет спустя один из товарищей ученого вспоминал: лишь на один вопрос учителя Эрвин не смог ответить — не назвал столицу Черногории. Слухи о его гениальности ходили, даже когда он поступил в Венский университет, там товарищи называли его не иначе как «тот самый Шрёдингер». Он с жадностью впитывал любые знания из всех областей науки, включая биологию и ботанику, а еще с одержимостью изучал живопись, театр, музыку, филологию
и классическую философию.
Благодаря его неудержимому любопытству, помноженному на очевидные способности к точным наукам, преподаватели предрекали ему блестящее будущее. Однако со временем «тот самый Шрёдингер» превратился в самого заурядного физика. Он не опубликовал ни одной выдающейся статьи. У него не было братьев, детей у них с Анне тоже не было, и если он умрет сейчас, его родовое имя исчезнет навсегда.
Биологическое и интеллектуальное бесплодие заставило его задуматься о разводе. Что, если он всё бросит и начнет заново? Что, если бросит пить и перестанет гоняться за каждой юбкой? Что, если бросит физику и посвятит себя другой своей страсти? Почему бы и нет? Он думал об этом большую часть года, но дальше ссор с женой, которые становились всё более ожесточенными, не заходило. Шрёдингер пользовался тем, что она крутила головокружительный роман с его коллегой из университета, голландским физиком Петером Дебаем. От будущего Шрёдингер ничего не ждал, жизнь казалась ему серой и однообразной, и тогда он снова впал в апатию, которая чуть не добила его в годы войны.
В тот момент декан факультета пригласил его провести семинар на тему гипотезы де Бройля. Шрёдингер взялся за подготовку
с не меньшим энтузиазмом, чем в годы студенчества. Он изучил диссертацию французского коллеги вдоль и поперек и, как
Эйнштейн, сразу же признал ее потенциал. Наконец Эрвин нашел, куда направить свою энергию, и во время выступления распустил хвост перед профессорами кафедры физики, как если бы защищал собственную диссертацию. Квантовая механика вызывает много проблем, но ее можно усмирить по классической схеме, объяснил он. Не нужно менять основы дисциплины, чтобы исследовать другие явления. Не нужно выдумывать одну физику для больших объектов, а другую для маленьких. Тогда никому из нас не придется применять ужасные расчеты этого проклятого вундеркинда Вернера Гейзенберга! — сказал Шрёдингер, рассмешив коллег. Если де Бройль прав, у явлений атомного уровня есть кое-что общее, или даже, осмелился предположить Эрвин, они могут быть проявлением вечного субстрата.
Шрёдингер уже заканчивал выступление, как вдруг Дебай прервал его. Этот взгляд на волны, сказал он, довольно тупой. Одно дело — сказать, что материю можно представить в виде волн, а другое — описать их.
Шрёдингер вернулся домой как в воду опущенный. Может, Дебай и прав, но повел он себя грубо и напыщенно, и сделал это нарочно. Чертов голландец! Шрёдингер никогда его не любил. А как он смотрит на Анне! Ладно он, она-то как смотрит на него… «Подонок! — закричал Эрвин, запершись в кабинете. — Leckmich am Arsch! Friss Scheiße und krepier!1». Он бил ногами мебель и швырялся книгами, пока приступ кашля не повалил его на колени. Шрёдингер тяжело дышал, опустив голову к самому полу и зажав во рту носовой платок. Когда он достал платок, то увидел пятно крови, огромное, как роза с раскрывшимися лепестками. Ошибки быть не может: у него рецидив туберкулеза.
Шрёдингер приехал в санаторий «Вилла Гервиг» незадолго до Рождества и поклялся не возвращаться в Цюрих без уравнения — нужно заткнуть за пояс Дебая. Он разместился в той же комнате, где
и обычно — по соседству с дочерью директора Отто Гервига. Директор разделил санаторий на два крыла: в одном располагались тяжелые больные, в другом — такие как Шрёдингер.
Доктор Гервиг в одиночку растил дочь, его жена умерла при родах. Девочка болела туберкулезом с четырех лет, и отец не мог себе этого простить: она выросла, ползая между больными. Теперь она была подростком и успела повидать сотни смертей от того же недуга, каким страдала сама. Быть может, поэтому от нее исходило нечеловеческое спокойствие, прозрачная и совершенно неземная аура, которая менялась лишь во время приступов, когда бактерия расцветала у нее в легких. Тогда девушка превращалась в собственную тень в перепачканных кровью платьях, а ключицы
так сильно выступали, что, казалось, вот-вот прорвут кожу, как молодые оленьи рога, когда стали растут по весне.
Шрёдингер познакомился с дочерью доктора, когда ей было всего двенадцать, но даже в столь юном возрасте она его покорила. В этом Эрвин ничем не отличался от остальных пациентов; все были точно околдованы ею, и течение заболевания у них будто синхронизировалось с ее состоянием. Отец находил такое совпадение самым загадочным из всех, что он наблюдал за свою карьеру. Ему было с чем сравнивать. В мире животных достаточно загадок: мурмурация скворцов, подобное оргии появление цикад из-под земли, внезапное перевоплощение саранчи, робкого насекомого-одиночки, которое меняет внешний облик и повадки и превращается в прожорливую тучу, способную стереть с лица земли целые области, а потом умирает, подарив экосистеме столько питательных веществ, что голуби, вороны, утки, сороки и дрозды объедаются до отвала.
Когда дочь была здорова, доктор был готов побиться об заклад, что не потеряет ни одного пациента, но когда ей становилось хуже, он знал: скоро в лечебнице освободятся койки. Болезнь в одночасье меняла облик девочки: она таяла на глазах, теряя едва ли не половину своего веса, светлые волосы истончались, как у новорожденной, а кожа, и без того мертвенно-бледная, становилась практически прозрачной.
Она блуждала между миром живых и мертвых, из-за чего лишилась всех радостей детства, но приобрела мудрость, несвойственную детям ее возраста. Девочка проводила в постели долгие месяцы и прочитала все научные книги из отцовской библиотеки, а заодно книги, которые оставляли пациенты после выписки, и те, что ей дарили хроники. Благодаря чтению самых разных книг и постоянному заточению у нее развился необыкновенно живой ум и неутомимое любопытство. Когда Шрёдингер приезжал в санаторий в прошлый раз, она докучала ему расспросами о последних достижениях в теоретической физике, о которых, кажется, знала всё, хотя никакого контакта с внешним миром не поддерживала и ни разу не покидала территорию лечебницы.
В свои неполные сорок лет он выглядел молодо и держал себя как подросток. В отличие от ровесников, предпочитал неформальный стиль и одевался скорее как студент, а не как профессор. Из-за этого случались неприятности: как-то раз консьерж в отеле в Цюрихе отказался заселить его в номер, забронированный на его имя, потому что принял за бродягу; в другой раз охранники не пустили его на важную научную конференцию, куда он был приглашен, из-за внешнего вида — в волосах пыль, на ботинках толстый слой грязи. Шрёдингер не поехал на поезде, как порядочный человек, а перешел через горы пешком. Доктор Гервиг прекрасно знал: Шрёдингер не такой, как все. Он имел обыкновение приводить своих
любовниц в лечебницу, но, несмотря на его нрав, стали а может быть и благодаря ему, доктор питал к ученому безграничное уважение, и, если здоровье пациента позволяло, они подолгу катались на лыжах или гуляли по горам вокруг санатория.
В тот год параллельно с приездом Эрвина доктор захотел, чтобы его дочь наконец стала жить более активной светской жизнью. Он определил ее в самый престижный женский пансион в Давосе, но она не сдала вступительный экзамен по математике. Только Шрёдингер переступил через порог санатория, как доктор стал упрашивать его позаниматься с дочерью хотя бы пару часов, разумеется, если состояние здоровья и занятость ему это позволят. Шрёдингер насколько мог вежливо отказался и побежал вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки зараз. Что-то неясное подталкивало его вперед; оно начало обретать форму в его воображении, как только он вдохнул разреженный горный воздух, и он знал: стоит ему хоть немного отвлечься, как чары рассеются.
Он вошел в комнату и сел за стол, как был — в пальто и шляпе. Достал тетрадь и начал записывать свои мысли; сначала писал медленно и беспорядочно, потом — с непостижимой скоростью; его концентрация росла, а всё вокруг, казалось, исчезло. Он работал, не поднимаясь со стула несколько часов подряд, по спине то и дело пробегала дрожь, и лишь когда солнце показалось на горизонте, а из-за усталости перед глазами стояла белая пелена, он рухнул на кровать и уснул, не снимая ботинки.
Проснулся, не понимая, где он. Рот открыт, в ушах звон, голова болит так, словно он всю ночь пил. Открыл окно, чтобы впустить свежий воздух, и сел за стол. Не терпелось перечитать плоды вчерашнего озарения. Пролистал записи, и ему подурнело. Что за чепуха? Перечитал от начала до конца, потом от конца до начала — бессмыслица какая-то. Он не понимал ход собственной мысли, не понимал, как от одного довода перешел к другому. На последней странице нашел наметки формулы, которую искал, но так и не смог выяснить, откуда она взялась. Как он ее вывел? Казалось, что кто-то проник в комнату, пока он спал, и оставил эту непостижимую загадку — только бы его помучить.
Он потер виски: нужно успокоиться и прогнать из головы образ насмехающихся над ним Дебая и Анне, но на сердце было тяжело. Он швырнул тетрадь об стену, да так сильно, что листы разлетелись по комнате. Он стал сам себе противен. Переоделся, спустился в столовую, потупив взгляд, и сел на первый свободный стул.
Когда подозвал официанта, чтобы заказать кофе, то понял: он пришел в столовую во время обеда тяжелых больных. Напротив сидела пожилая дама, и первое, что он заметил, — ее длинные холеные, знавшие лишь богатство и достаток пальцы, которыми она стали держала чашку чая. Нижняя часть лица у нее была совершенно обезображена из-за туберкулеза. Шрёдингер силился скрыть отвращение, но не мог отвести глаз; его поразил страх: вдруг и его тело окажется среди того небольшого процента больных, чьи лимфатические узлы раздуваются, как виноградины? Даме стало неловко, и ее неловкость перекинулась на всех, кто сидел за столом; миг, и половина сотрапезников, такие же обезображенные и уродливые, как она, смотрят на Шрёдингера так, будто он — собака, усевшаяся гадить посреди церкви.
Он уже собирался уйти, как вдруг кто-то положил руку ему на колено под пологом белой скатерти. Ничего эротического в прикосновении не было, но по телу пробежал электрический разряд, и физик мгновенно пришел в себя. Он посмотрел на ту, чья рука еще лежала у него на колене, словно бабочка со сложенными крыльями, и увидел дочь доктора Гервига. Шрёдингер не смел улыбнуться, чтобы не напугать ее, но поблагодарил взглядом и продолжил пить свой кофе, стараясь не шевелиться, а вокруг разливался покой, словно девушка прикоснулась ко всем пациентам за столом сразу. Как только стало слышно лишь робкое позвякивание блюдец и приборов, мадемуазель Гервиг убрала руку, разгладила складки на платье и направилась к выходу. Она остановилась лишь раз, чтобы поздороваться с двумя ребятишками; они бросились обниматься, повисли у нее на шее, а она расцеловала их.
Шрёдингер попросил еще кофе, но не сделал ни глотка. Он остался сидеть в зале, пока пациенты не разошлись, а потом пошел к стойке регистрации, попросил бумагу и карандаш и написал записку доктору Гервигу. Он готов помочь его дочери. Мало того, сделает это с огромным удовольствием.
Чтобы не мешать Шрёдингеру работать, доктор Гервиг предложил проводить занятия в комнате дочери, куда из комнаты гостя вела дверь в стене. Перед самым первым уроком Шрёдингер всё утро приводил себя в порядок. Принял ванну, гладко побрился, сначала решил не причесываться, но передумал: лучше выглядеть более официально, тем более что, как он знал, женщинам нравится его высокий и гладкий лоб. После легкого обеда в четыре часа он услышал, как с другой стороны щелкнул замок, а потом в дверь чуть слышно постучали два раза.
У него началась эрекция, так что пришлось сесть и подождать пару минут, после чего он взялся за ручку двери и вошел в комнату мадемуазель Гервиг. Не успел он переступить через порог, как в нос ударил древесный запах. Однако дубовые панели, украшавшие стены, было не разглядеть за сотнями жуков, стрекоз, бабочек, сверчков, пауков, тараканов и светлячков, посаженных на булавки или укрытых стеклянными колпаками, а под стеклом была воссоздана их естественная среда обитания. Посреди этого огромного инсектария за столом сидела мадемуазель Гервиг и смотрела на него стали как на новый образец своей коллекции. Она выглядела настолько властной, что Шрёдингер на секунду почувствовал себя робким школьником, которого учительница уже заждалась, и сделал глубокий реверанс, а она не смогла сдержать улыбку. Физик заметил,
что у нее маленькие зубы со щербинкой между резцами, и лишь тогда увидел ее настоящую — юную девочку. Он устыдился своих фантазий, которые подогревал с той встречи в столовой, схватил стул, и они сразу же начали разбирать задания из вступительного экзамена.
Девочка быстро соображала. Удивительно, как ему хорошо с ней, даже несмотря на то, что страсть улеглась. Они провели два часа практически в полной тишине, а как только она решила последнюю задачу, назначили время следующего занятия, и она предложила ему чашку чая. Шрёдингер пил чай, а мадемуазель Гервиг показывала ему свою коллекцию насекомых: отец ловил их, а она расставляла и хранила. Когда она намекнула, что не смеет дольше задерживать его, он понял, что уже стемнело. Шрёдингер простился с ней у порога, сделав точно такой же реверанс, как в начале урока, и хотя мадемуазель Гервиг снова улыбнулась, вернувшись в комнату, Эрвин почувствовал себя набитым дураком.
Он обессилел, но уснуть не мог. Закрывал глаза и видел мадемуазель Гервиг: вот она сидит за столом ссутулившись, морщит нос, проводит
кончиком языка по губам. Нехотя встал и собрал с пола листы, которые разбросал прошлым утром. Попробовал разложить их по порядку, но даже это потребовало немало сил. Он никак не мог разобраться, каким образом от одного утверждения пришел к другому. Удалось понять лишь уравнение на последней странице, то, которое идеальным образом описывало движение электрона внутри атома, хотя никакой очевидной связи с предыдущими решениями физик не видел. С ним такое впервые. Вроде сам написал, а что — загадка. Абсурд! Шрёдингер сунул листы внутрь обложки и спрятал в ящик стола. Сдаваться не хотелось, поэтому он взялся за статью, которую начал писать полгода назад, об одном необычном звуковом явлении, которое наблюдал во время войны. После сильного взрыва звуковая волна угасает по мере удаления от источника взрыва. Однако на расстоянии около пятидесяти километров волна вдруг опять набирает силу, возрождается и становится мощнее, чем в начале, как будто в пространстве движется вперед, а во времени — назад. Иногда Шрёдингер слышал, как бьется сердце у того, кто стоит рядом с ним, поэтому такой необъяснимый всплеск тающего звука завораживал его, однако как он ни старался, сосредоточиться на работе больше двадцати минут не мог — мыслями постоянно возвращался к мадемуазель Гервиг.
Он опять лег в постель и выпил побольше снотворных таблеток. Ему снились кошмары. В первом огромная волна выбила окна в комнате и затопила всё до самого потолка. Во втором Шрёдингер плавал в штормящем море стали в нескольких метрах от берега. Он выбился из сил и едва мог удержать нос над водой, но выходить не решался: на берегу его ждала прекрасная женщина, кожа у нее была чернее угля; она танцевала, а у ног лежало тело ее мужа.
Несмотря на тяжелые сны, он проснулся в хорошем настроении и был полон сил; он знал, в одиннадцать его ждет мадемуазель Гервиг. Однако, увидев ее, он понял: она не выдержит урока. Девушка была бледная, с большими темными кругами под глазами. Она объяснила, что почти всю ночь помогала отцу наблюдать, как у тли вылупляется потомство. Самое удивительное и ужасное, сказала она, что, не прожив и несколько часов, личинки готовы к дальнейшему размножению. Крохотные насекомые производят потомство, находясь во чреве собственной матери. Мать, дочери и внучки походили на жуткую матрешку — одно поколение внутри другого; получился суперорганизм, доказательство того, что природа тяготеет к чрезмерному изобилию. Эта же тенденция заставляет птиц высиживать больше птенцов, чем они могут прокормить, толкая старшего птенца на братоубийство, вынуждая его выбрасывать остальных из гнезда. У некоторых видов акул бывает и того хуже, продолжала мадемуазель Гервиг. Когда акулята вылупляются у матери в животе, у них уже достаточно развитые зубы, поэтому они пожирают тех, кто появляется на свет позже, и получают достаточно питательных веществ, чтобы в первые недели жизни не стать
добычей тех самых рыб, которыми будут питаться, когда подрастут.
Отец велел мадемуазель Гервиг рассадить три поколения насекомых в стеклянные банки, а потом опрыскал пестицидом. Стенки банок окрасились в изумительный оттенок голубого, точно в банках было само небо. Жучки подохли мгновенно, и всю ночь девушке снились их лапки с голубоватым налетом, и она совсем не отдохнула. Она не сможет сосредоточиться на уроке, но не будет ли герр Шрёдингер так любезен прогуляться с ней у озера? Быть может, свежий воздух вернет ей силы.
На улице царила зима. Вдоль берега на озере стоял лед, и Шрёдингер занимал себя тем, что отламывал льдинки и наблюдал, как они тают в его горячих руках. Они огибали дальний берег озера, когда мадемуазель Гервиг спросила, над чем он работает. Шрёдингер рассказал ей о гипотезах Гейзенберга и диссертации де Бройля,
а потом описал мнимое озарение, которое случилось с ним по приезде в санаторий, и странное уравнение. На первый взгляд оно походило на формулы, которые используют для анализа морских волн или для расчета распространения звуковых волн в воздушной среде. Однако чтобы уравнение было верным для пространства внутри атома, чтобы его можно было применить к движению электронов, Шрёдингеру пришлось включить в него комплексное число, квадратный корень из минус единицы. На практике это значит, что волна, которую описывает его уравнение, выходит за пределы трехмерного пространства. Ее гребни и ложбины ходят в разных измерениях; это
в высшей степени абстрактное царство, которое можно описать только чистой математикой.
Пока он говорил, мадемуазель Гервиг села на деревянную скамью у озера, открыла книгу, которую всё это время держала в руках, и прочитала вслух: «Духи следуют один за другим, как волны воображаемого моря жизни и смерти. В течении жизни нет ничего, лишь взлеты и падения материальных и ментальных форм, а реальность остается непостижимой. В каждом живом существе дремлет безграничное знание, неизвестное и сокрытое, но ему предначертано пробудиться, разорвать невидимую сеть чувственного разума, разбить телесную оболочку и покорить время и пространство».
Шрёдингер узнал мысли, которые не давали ему покоя долгие годы, а она рассказала ему о том, что в санатории лечился один писатель. Он прожил в Японии несколько десятков лет и принял буддизм; это он познакомил ее с восточной философией. Остаток дня Шрёдингер и мадемуазель Гервиг обсуждали индуизм, веданту, Великую колесницу Махаяны, да так живо, будто вдруг обнаружили, что у них есть общий секрет. Когда вспышка света озарила горы, мадемуазель Гервиг сказала, что нужно немедленно возвращаться, иначе их застанет буран.
Шрёдингер хотел найти любой повод, только бы не расставаться с ней. Он и раньше увлекался молоденькими девушками, но что-то в мадемуазель Гервиг обезоруживало его, он робел, и как только они подошли к лестнице, ведущей в санаторий, он замешкался: подать ей руку или нет? Потом поскользнулся, оступившись о край ступеньки, и вывихнул лодыжку. В комнату его несли на носилках, а нога так распухла, что мадемуазель Гервиг пришлось самой снимать с него ботинки, прежде чем уложить в постель.
Примечание:
[1] «Пошел он на хрен! Пусть подавится дерьмом!» (нем.)