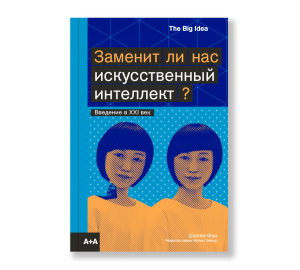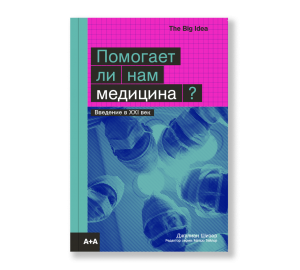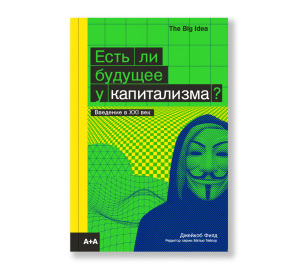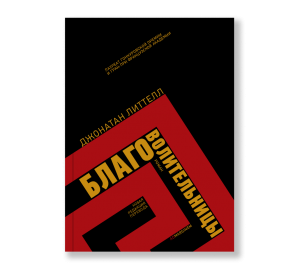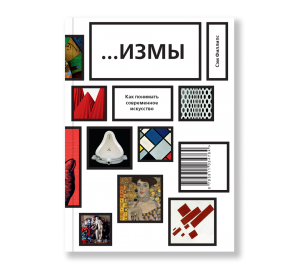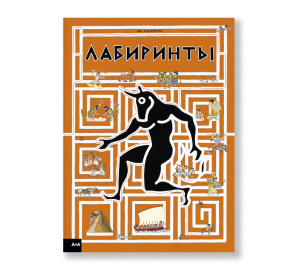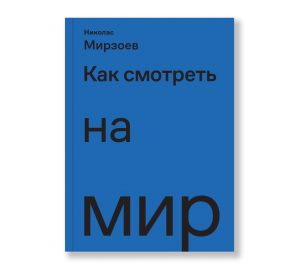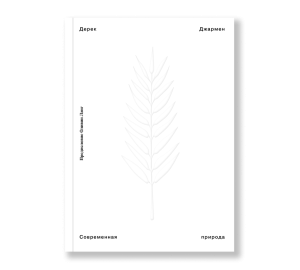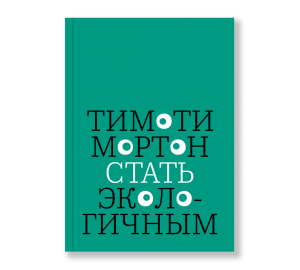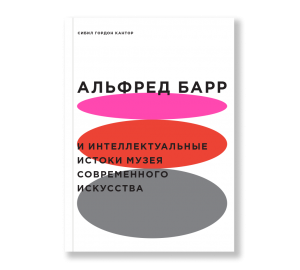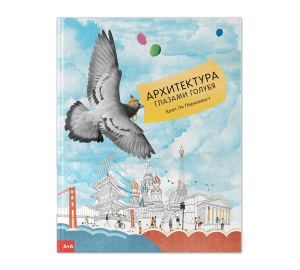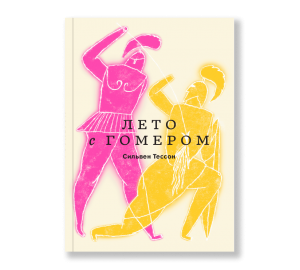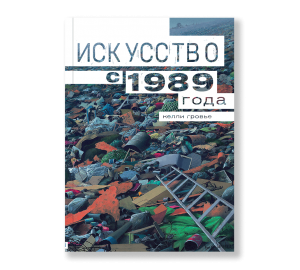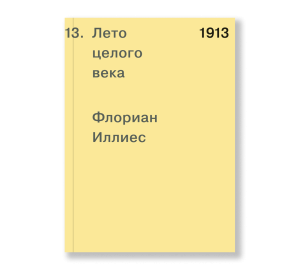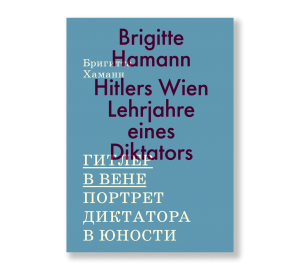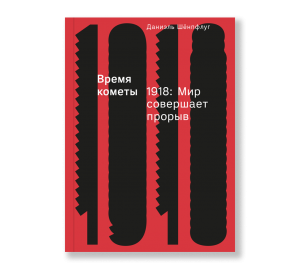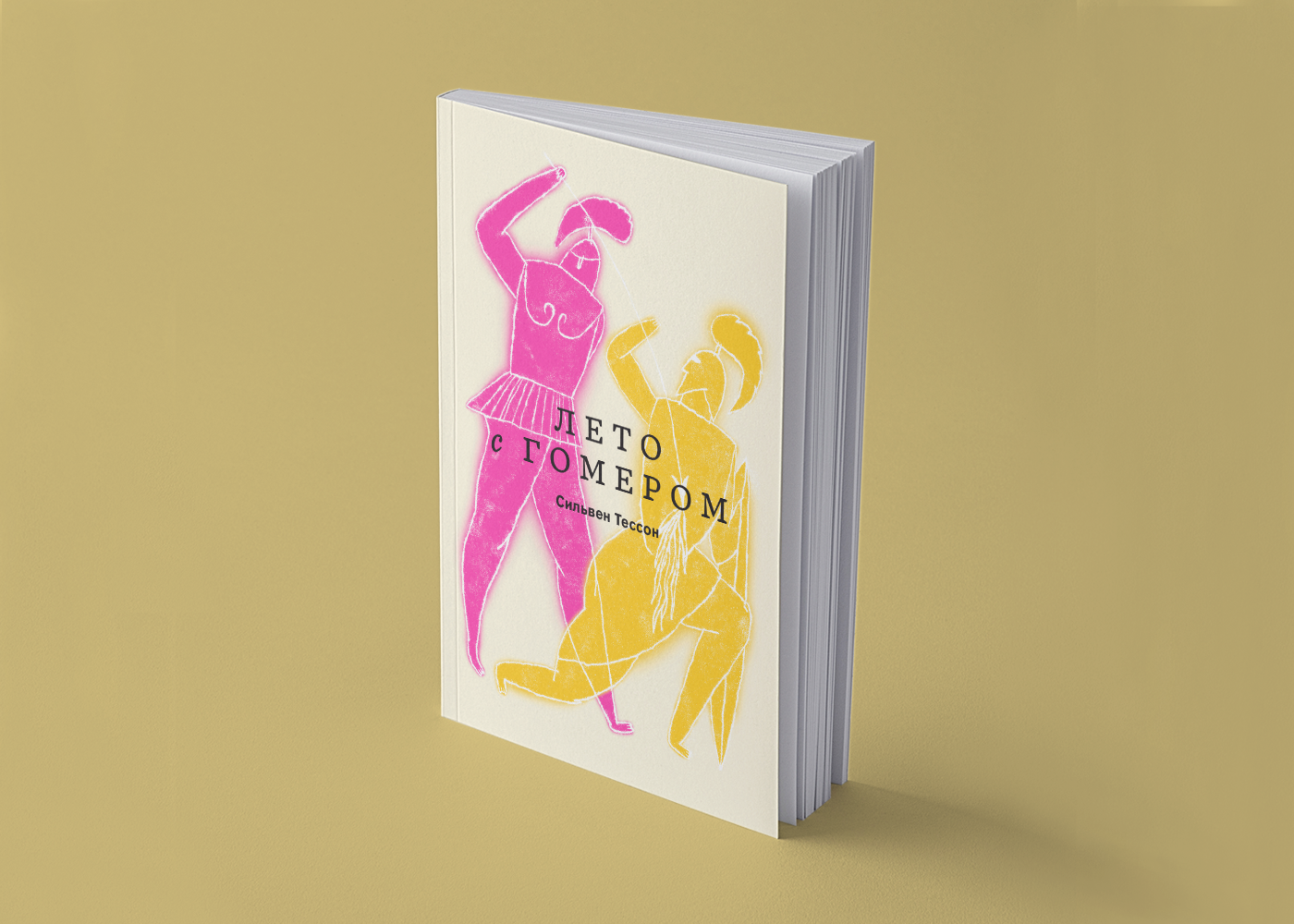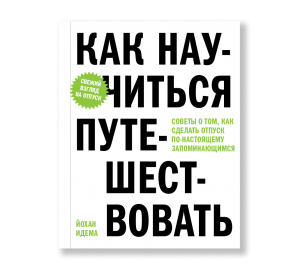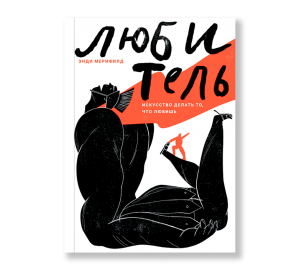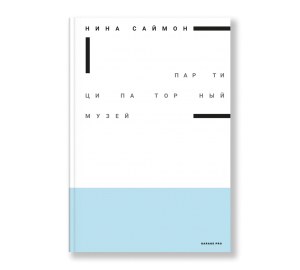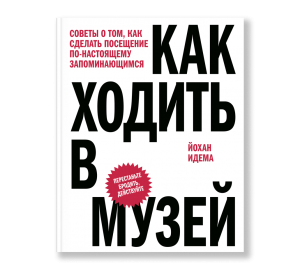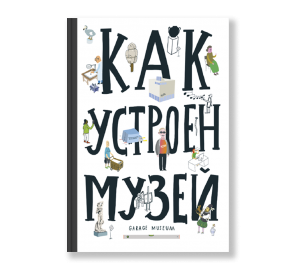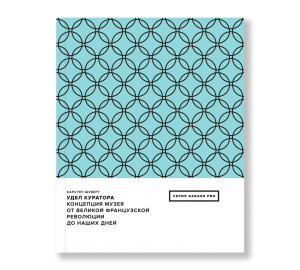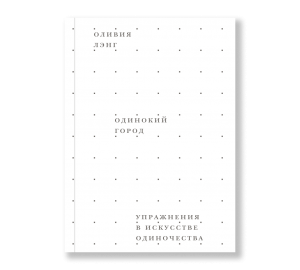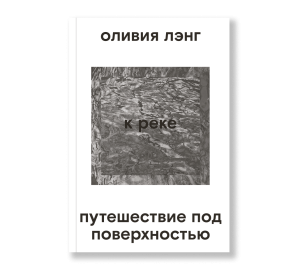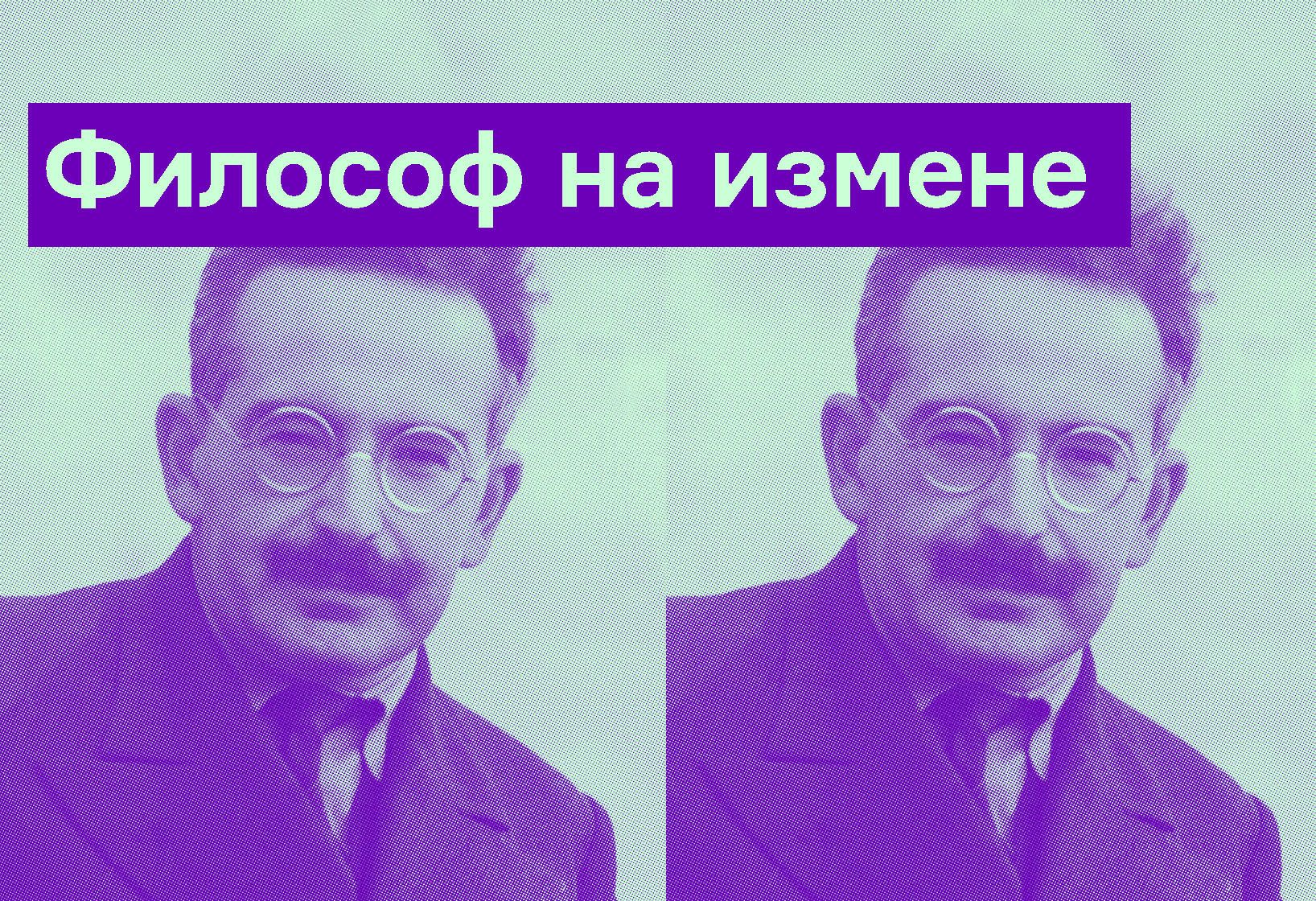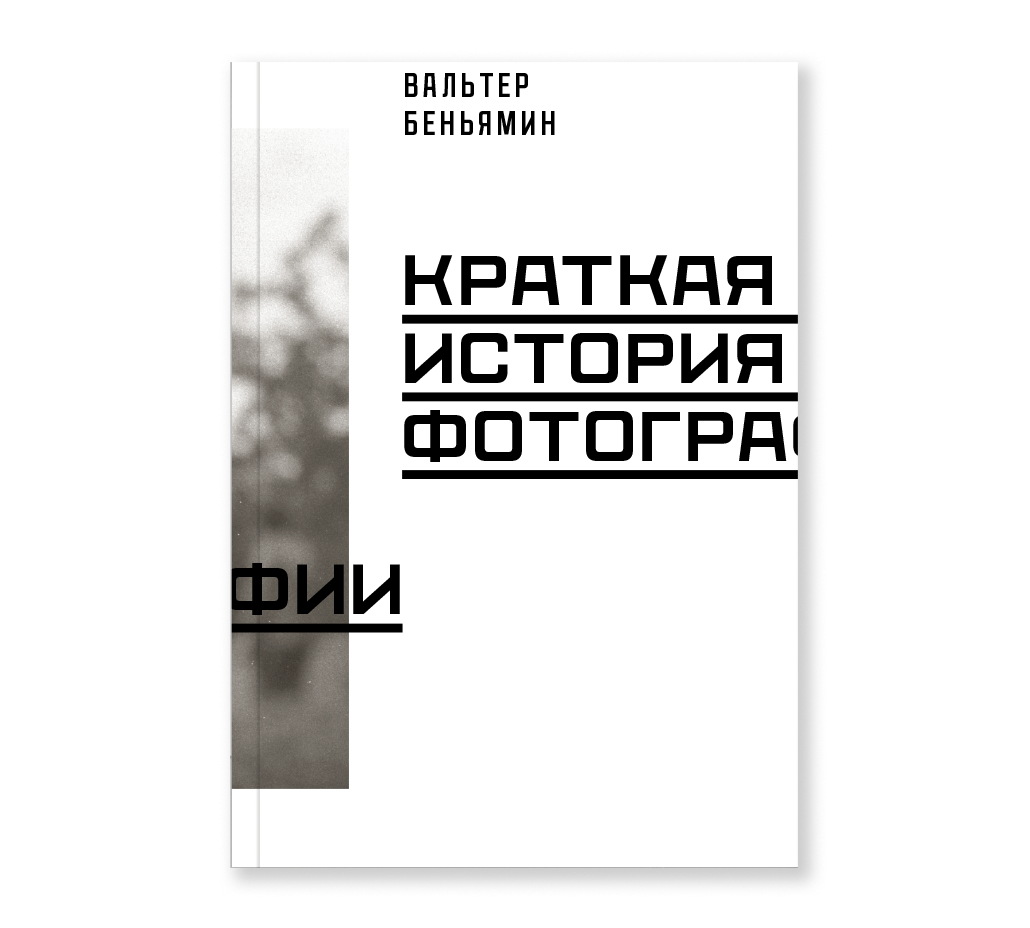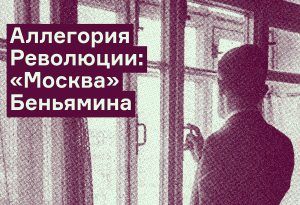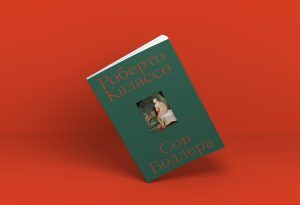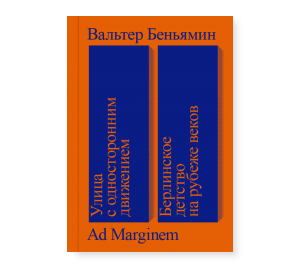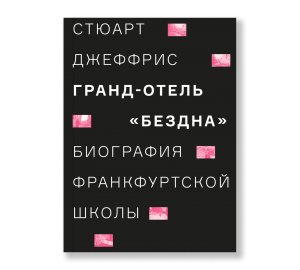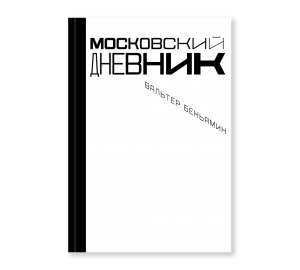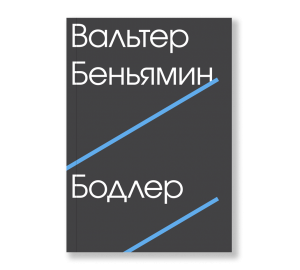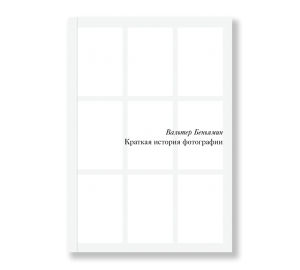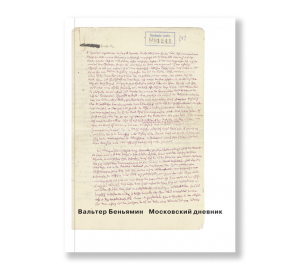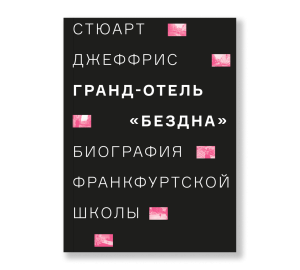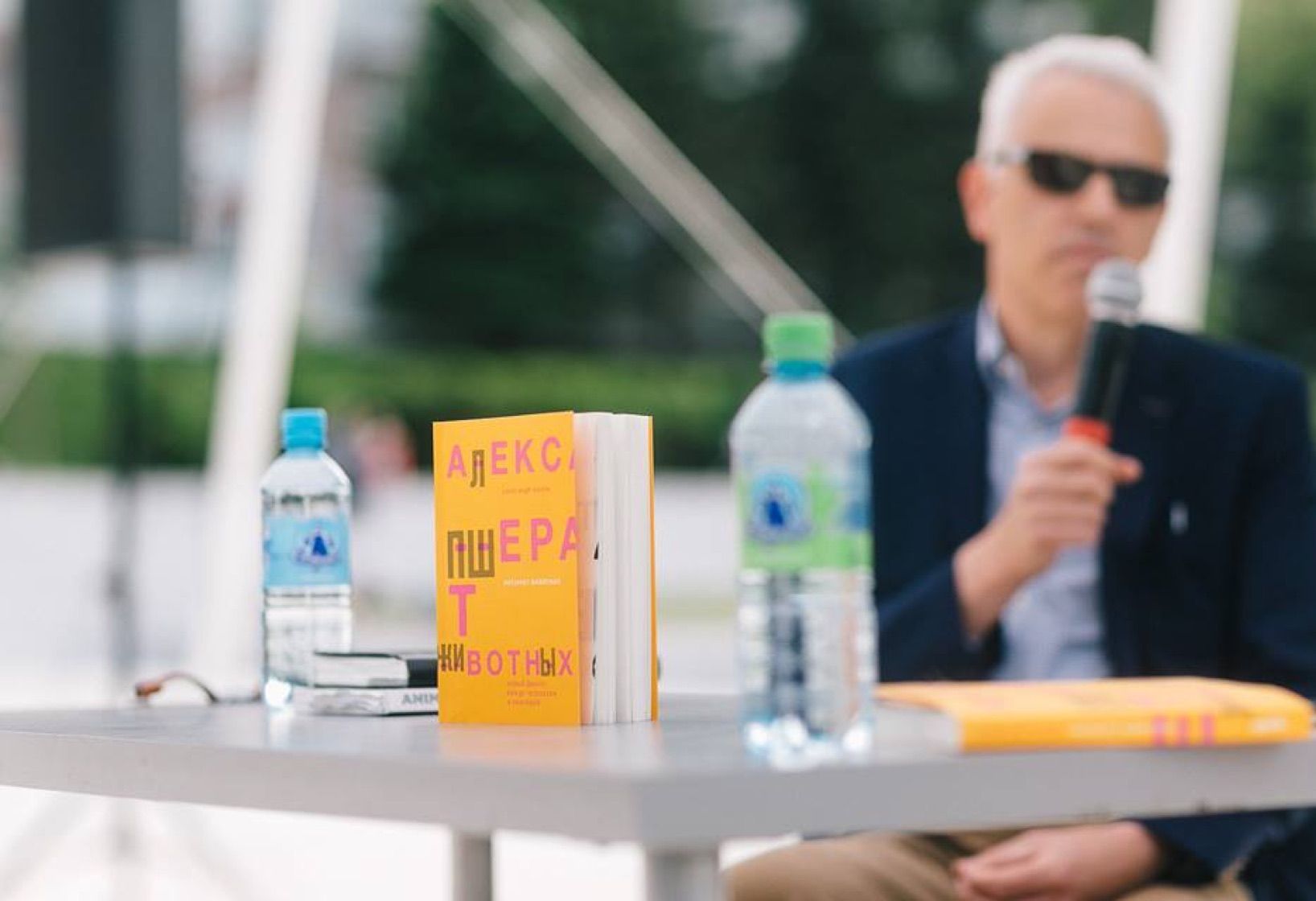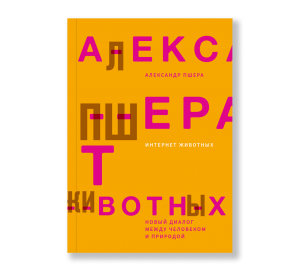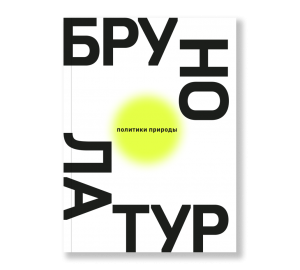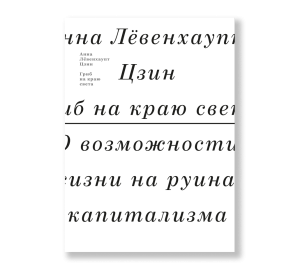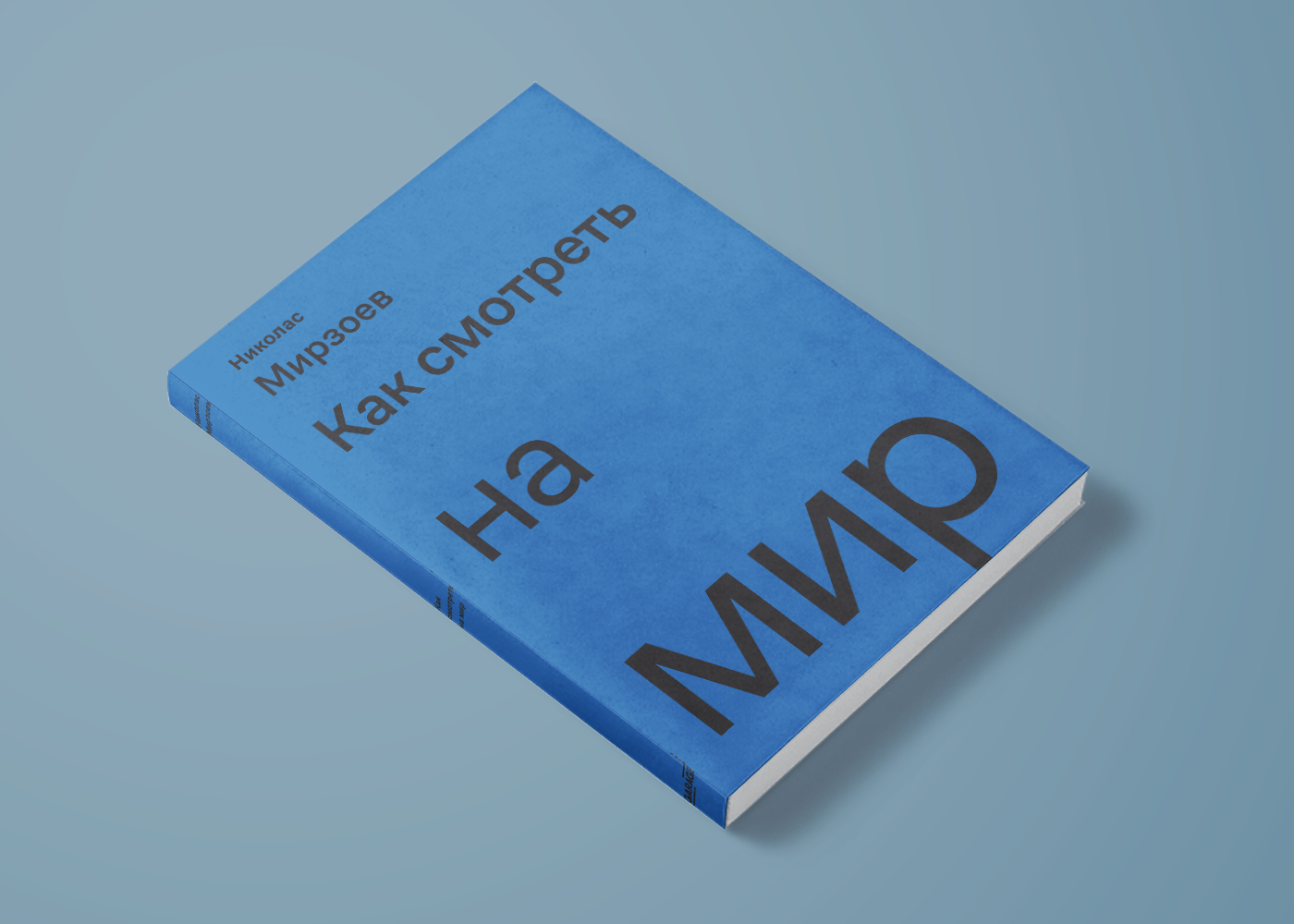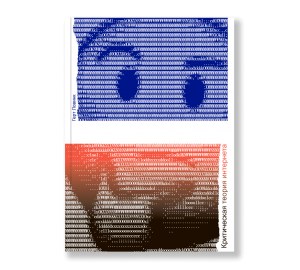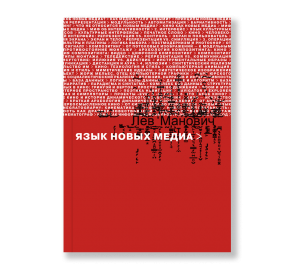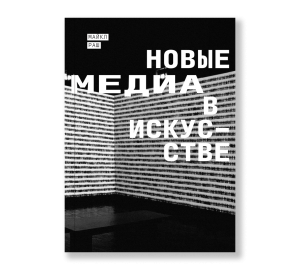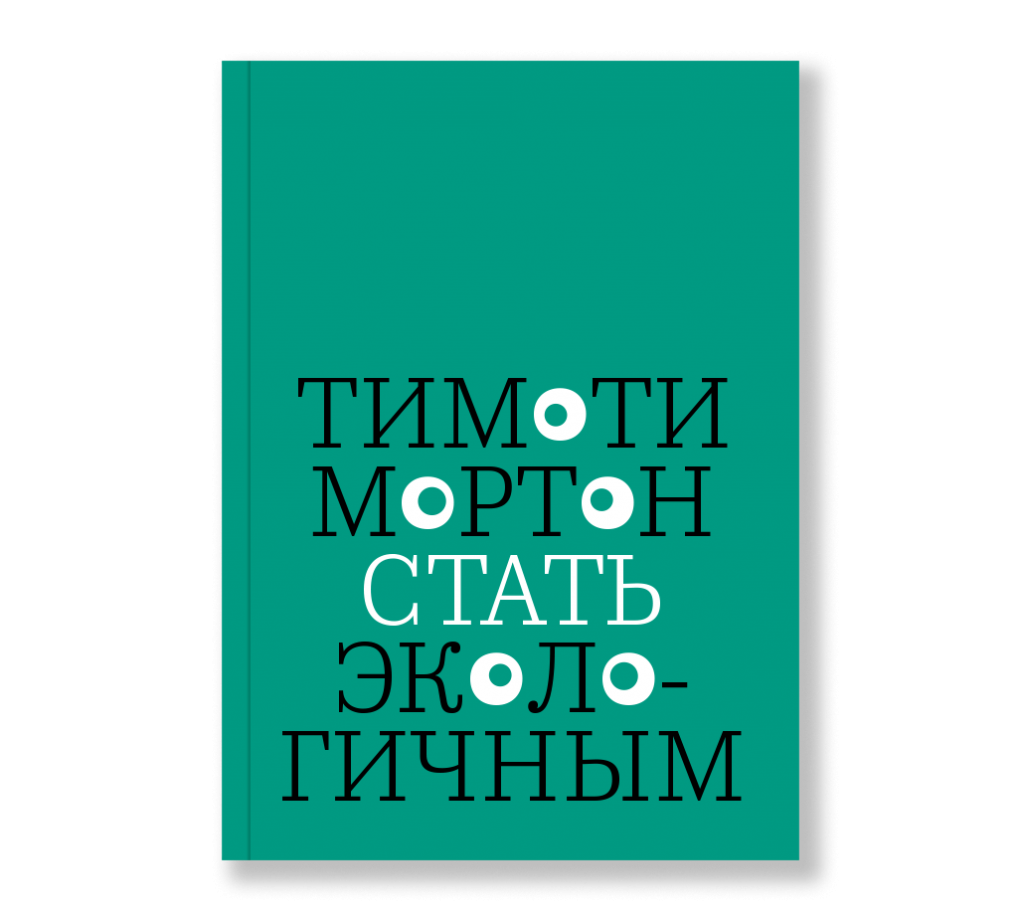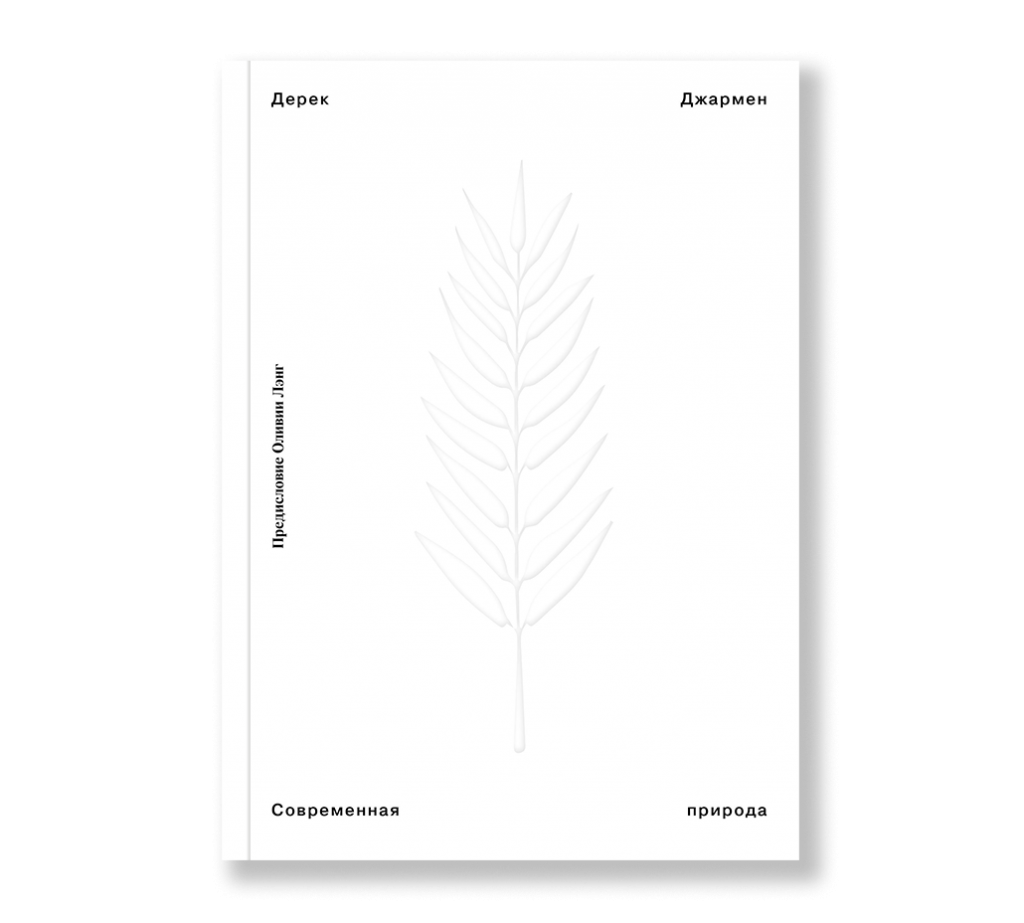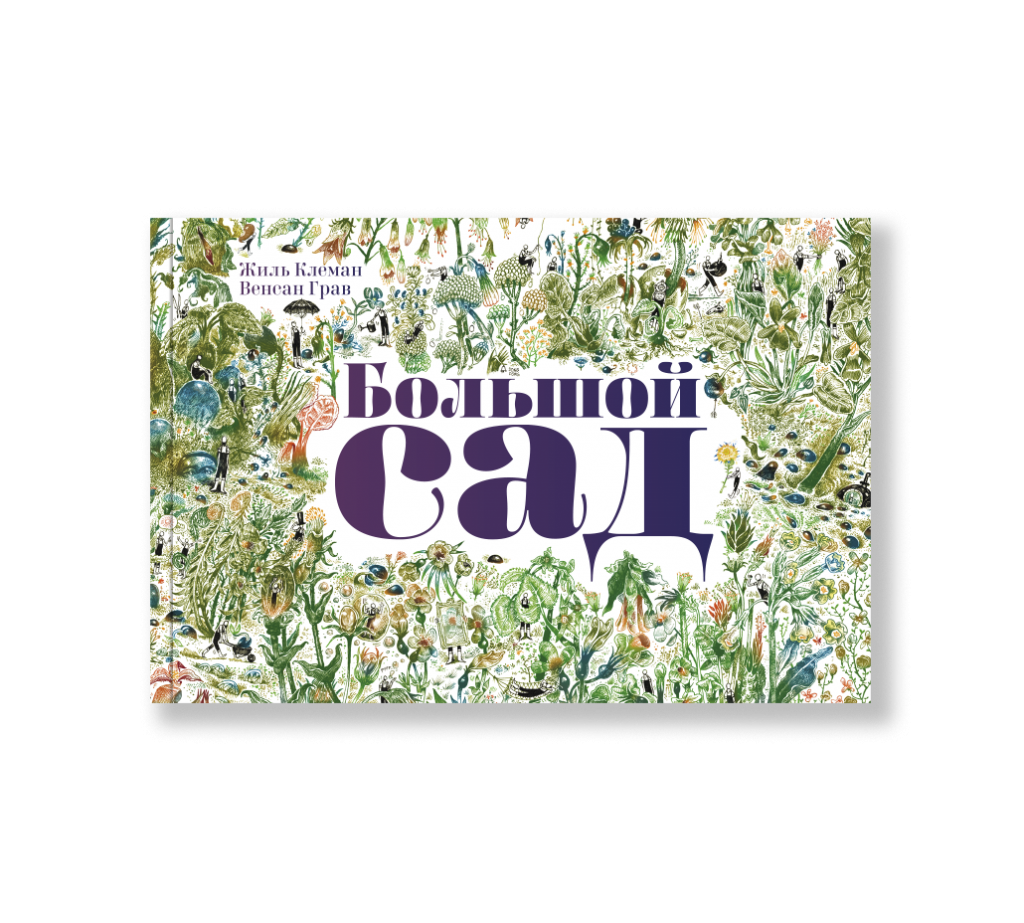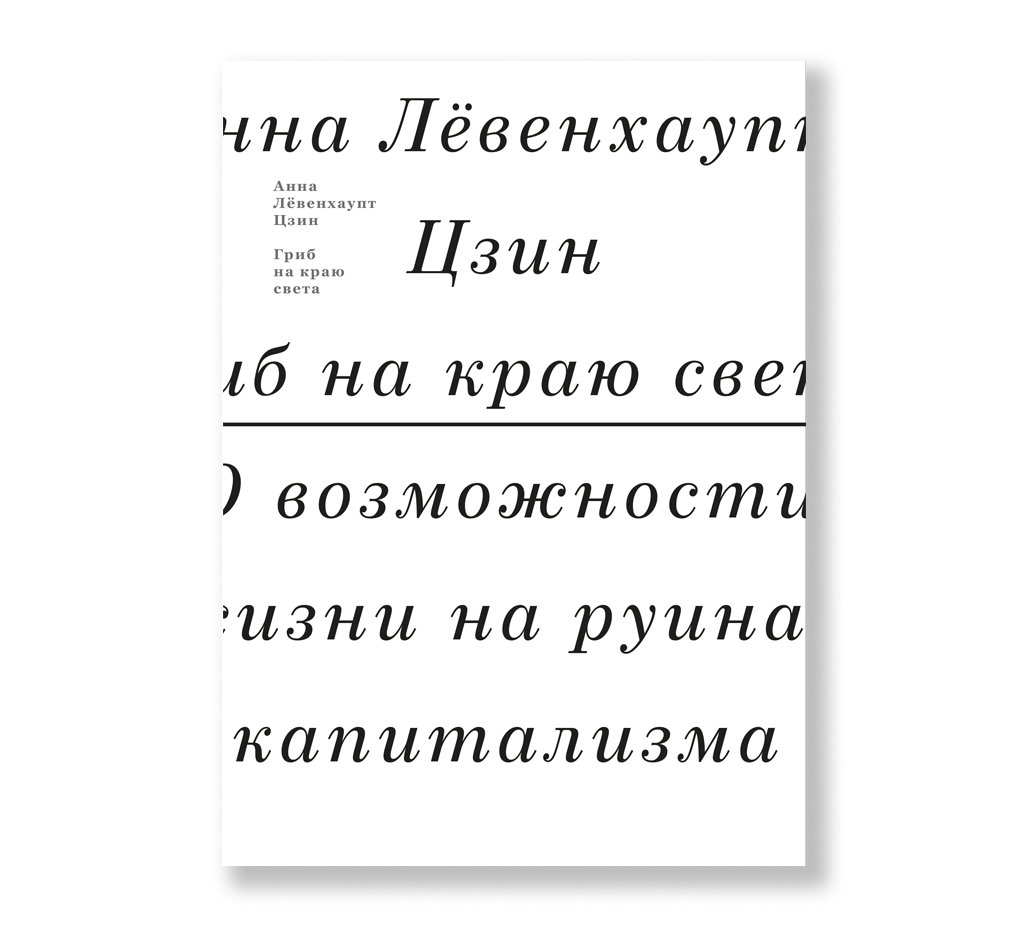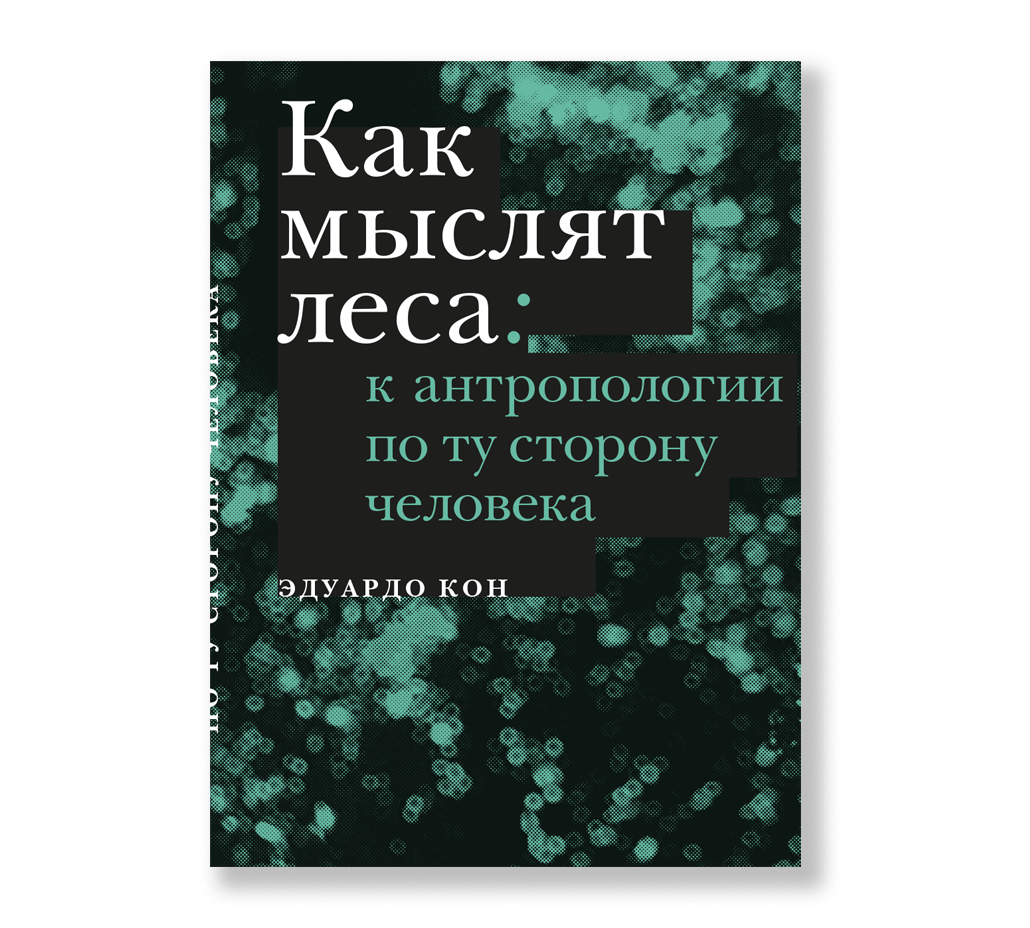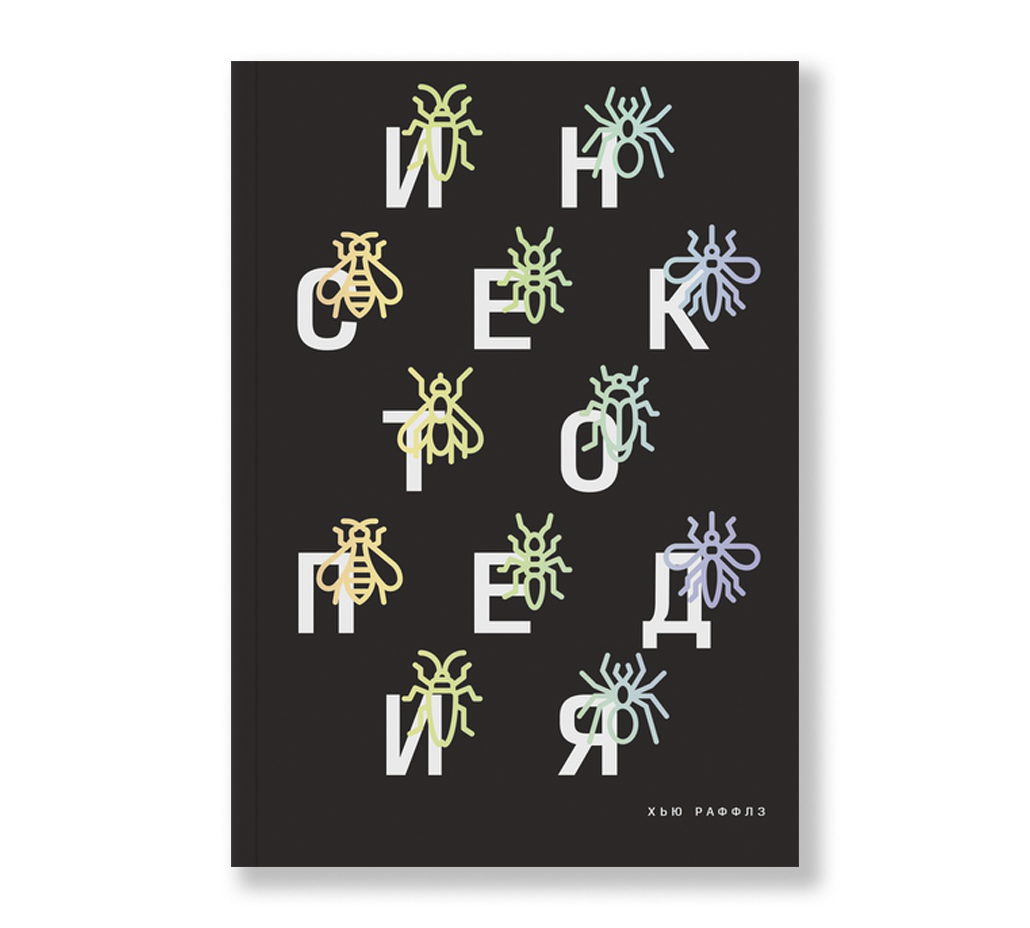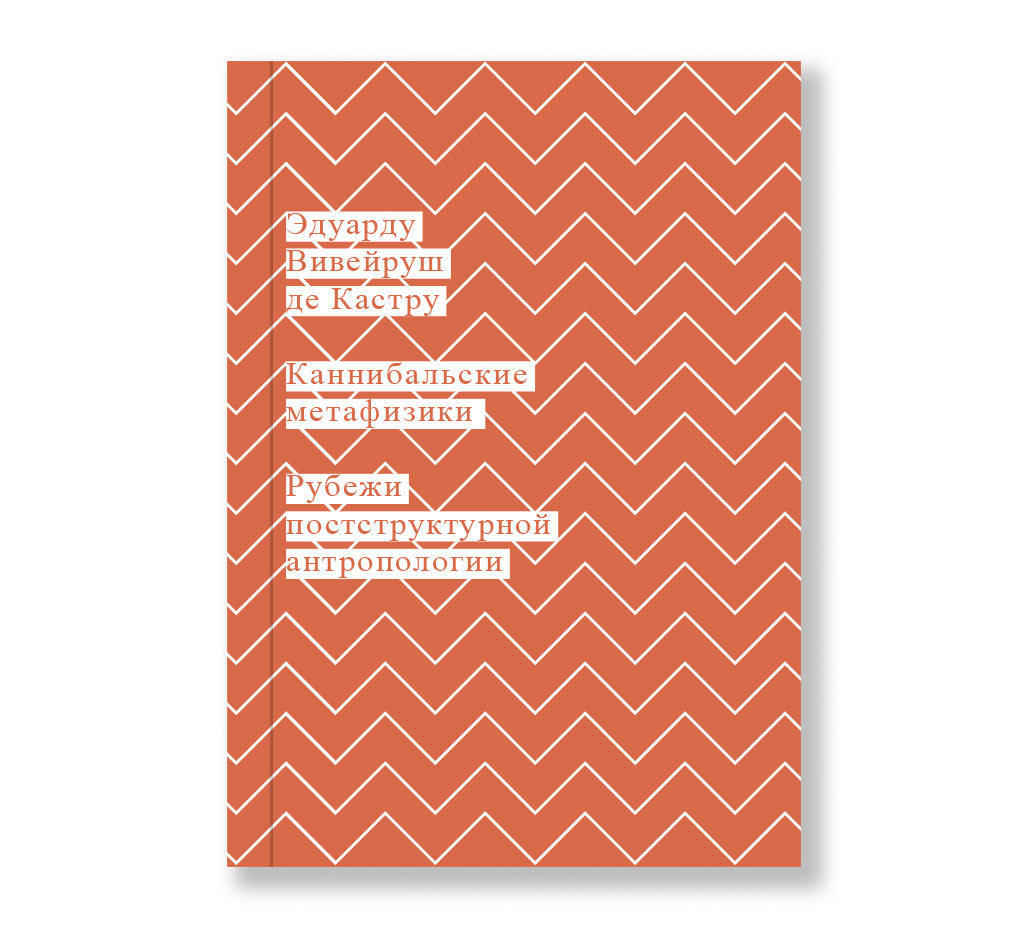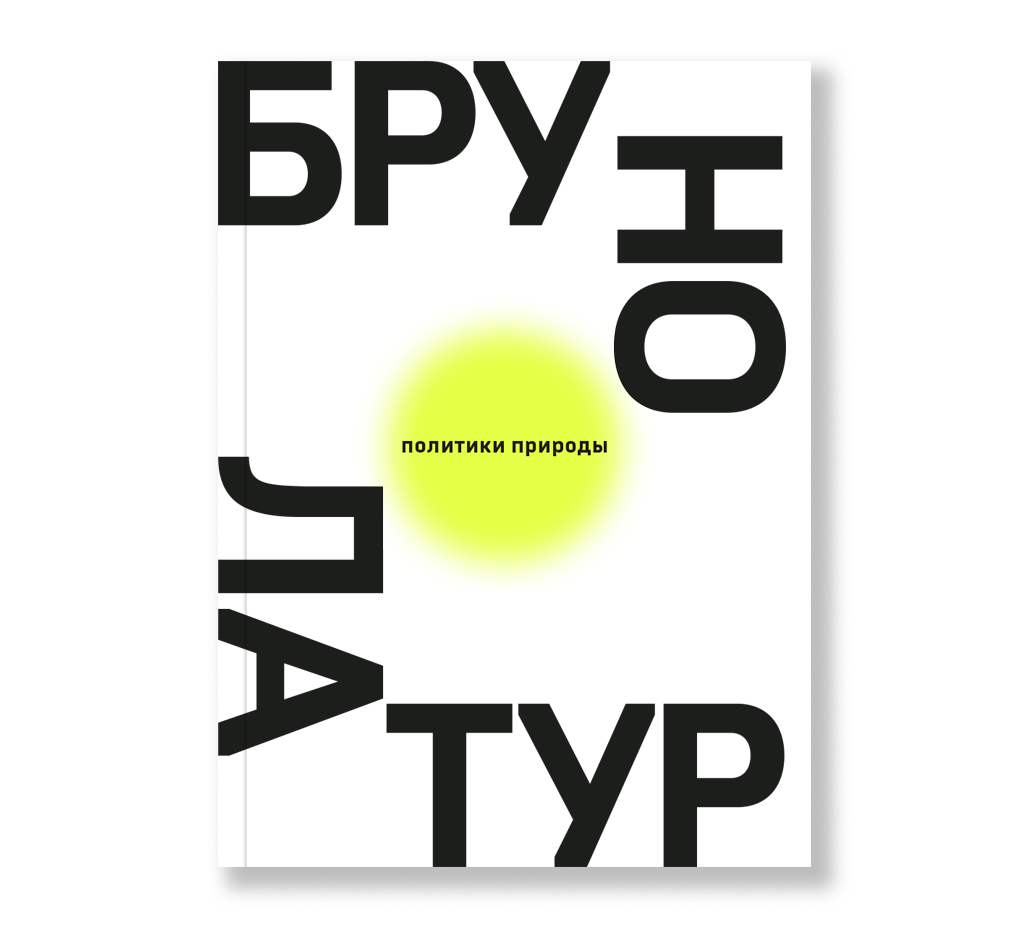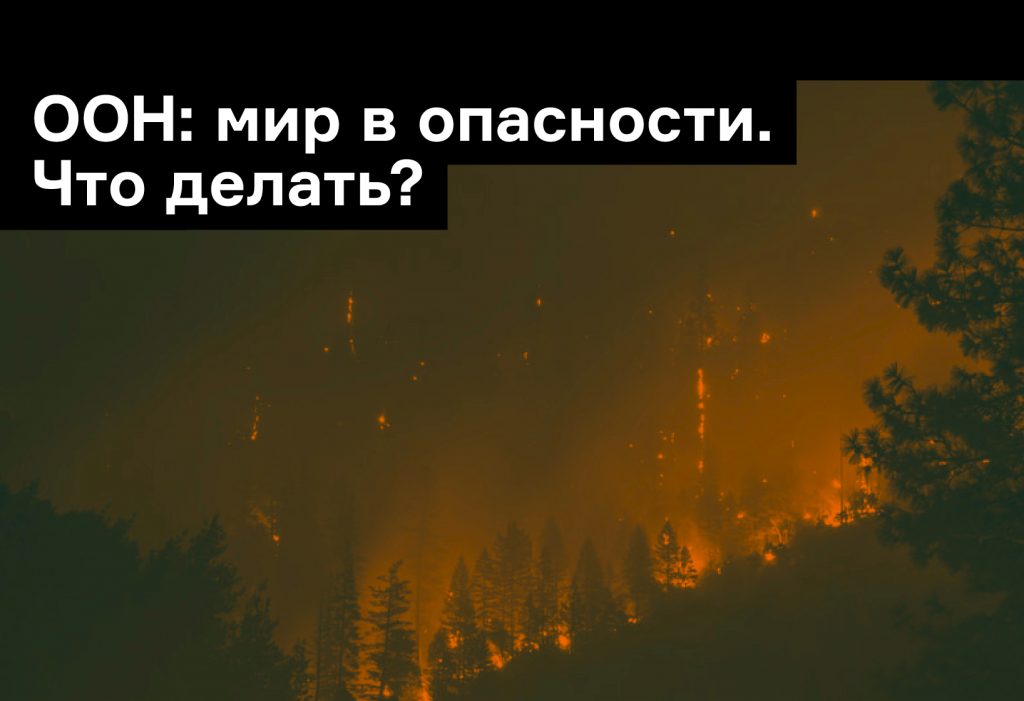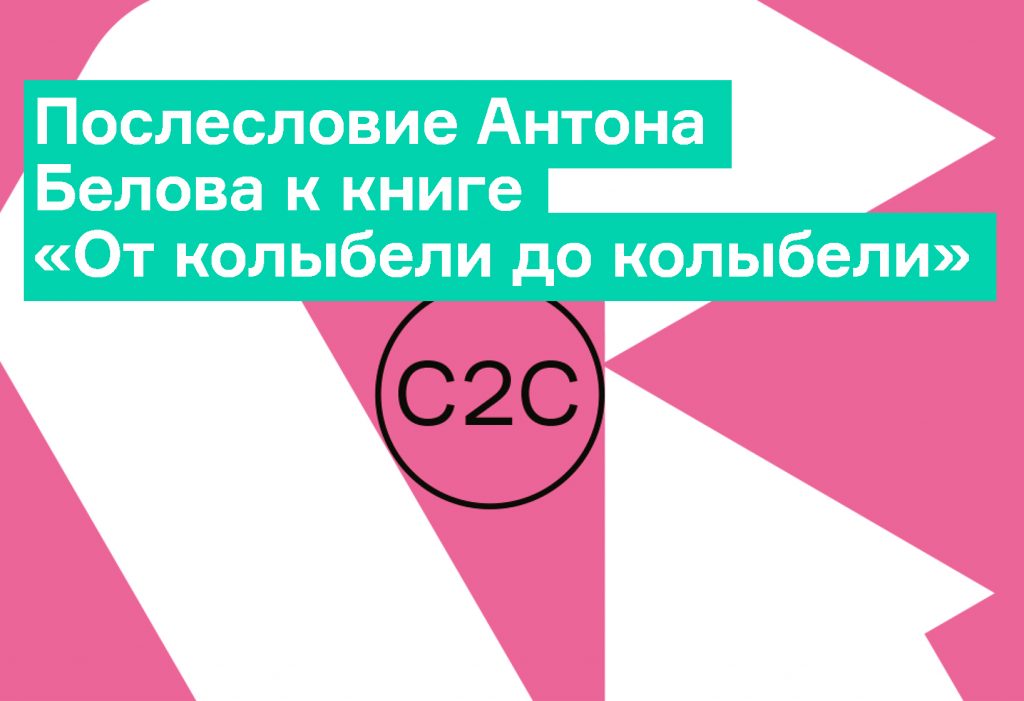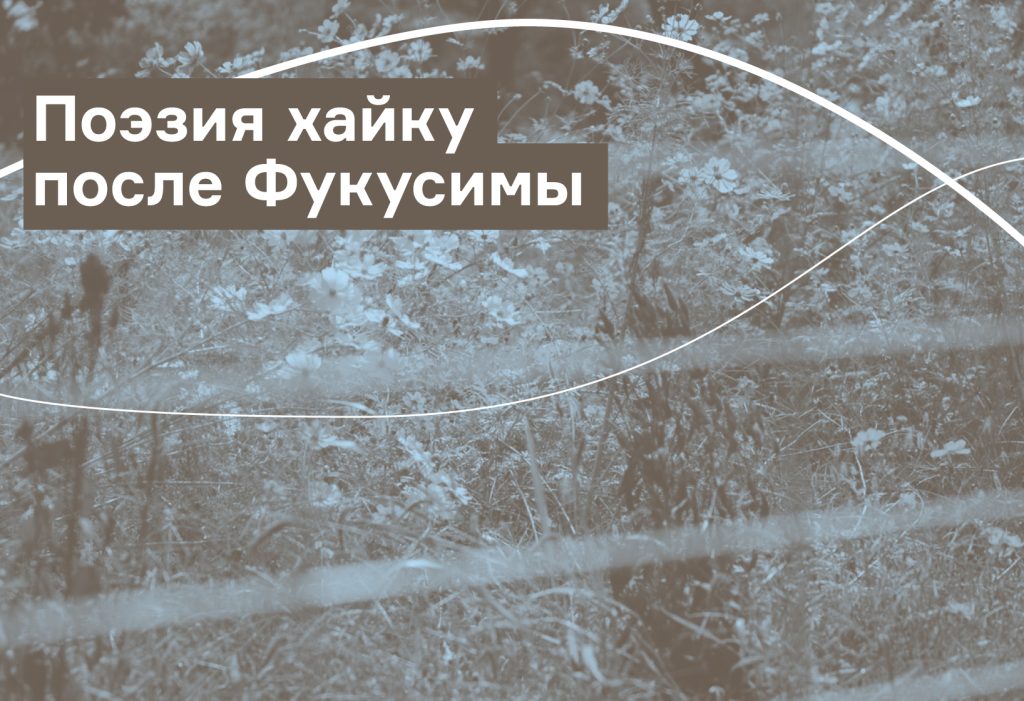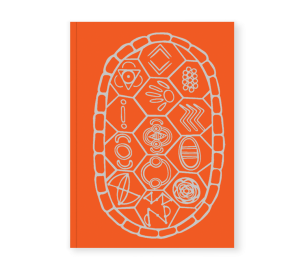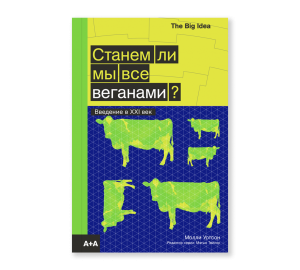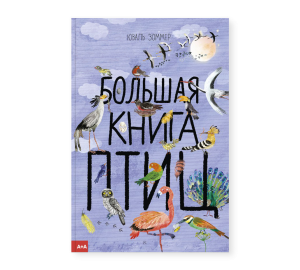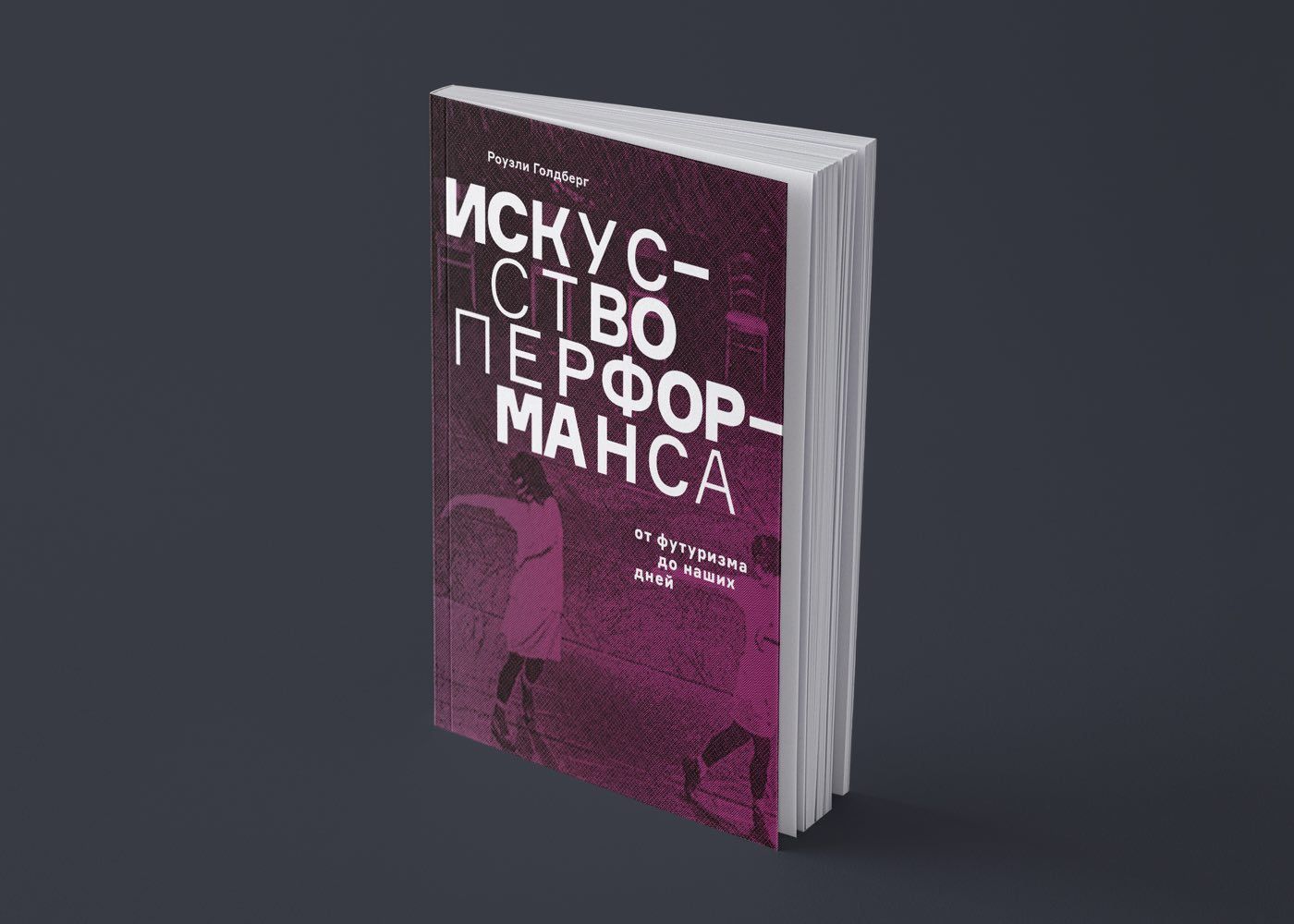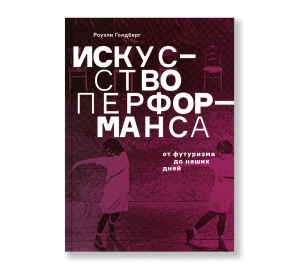Отечественные издания Беньямина выходят на массовый рынок. Философ, который раньше был интересен лишь небольшому кругу интеллектуалов, становится автором, которого читают в метро. Благодаря многослойности текстов Беньямина, это закономерное развитие его наследия. За скобками остается сложная фигура автора: боязливая, депрессивная, наполненная комплексами и внутренними противоречиями. Подобная странность делает Беньямина актуальным философом, попадающим в дух времени едва ли не точнее наших современников. Александр Вилейкис, сотрудник Института Социально-Гуманитарных наук ТюмГУ и куратор Центра новой философии, поговорил с главой издательства Ad Marginem Александром Ивановым о жизни, смерти и влиянии Вальтера Беньямина.
О слабой теории, влиянии и актуальности
Вальтер Беньямин интересен своей «слабой» теорией. Специально или нет, он работает с понятийным каркасом в ослабленном виде — концепты постоянно мутируют, находятся в таком движении, где их логическая определенность все время пребывает под угрозой. Беньямин концептуально и понятийно часто неуловим — его мысль трудно поймать и зафиксировать как определенную концепцию, опираясь на которую можно было бы дальше развивать антропологию или теорию искусства в каком-то заданном концептуальном поле.
Это напрямую касается отдельных его шедевров, например «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Восхитительный текст, из которого концептуально почти ничего не вытекает. Развить мысль о воспроизводимости, соотношении оригинала и копии, ауре не получается, хотя ход гениальный. Он демонстрирует оптику, которую Беньямин применяет к девятнадцатому веку, выбирая в нем то детскую иллюстрированную книжку, то универсальные магазины-пассажи, то, например, пыль, оседавшую в тяжелых бархатных портьерах буржуазных гостиных (он утверждает, что во Франции середины XIX века «даже революции покрылись пылью»).
Беньямин создает свою замкнутую вселенную, в которой его понятия — это ее самоинтерпретирующие механизмы. Попытки использовать их за пределами авторского мира чаще всего приводят к неудачам.
Именно это свойство «ослабленной» концептуализации дает возможность наследию Беньямина до сих пор оказывать эмфатическое влияние: на стиль, на манеру писать, думать, оптически настраивать внимание на странные объекты. Совершенно очевидно, что воздействие Беньямина на антропологию, на visual culture studies, media theory, gender theory — за последние сорок лет огромно. Мне кажется, беньяминовская идея «слабой» теории невероятно важна для современного академического дискурса.
Например конфликт Марты Нуссбаум с феминисткой Джудит Батлер. Нуссбаум — сильная исследовательница, действительно серьезный философ. Ее книга про этику стоицизма просто великолепна. И она (Нуссбаум) упрекает Батлер за логическую нерелевантность, особенно в последней книге. Эта работа – «Заметки к перформативной теории собрания», которую мы (Ad Marginem) недавно издали, тоже связана для меня со «слабой теорией». Батлер оперирует странными, гибридными, «беньяминовскими» понятиями, половину которых составляют концепты, а половину — чувственно-материальные образы или картинки. Гибриды, сложные для представления и поиска адекватной им языковой формы.
У Батлер значительная часть книги посвящена скрытой и явной полемике с Ханной Арендт. Последняя полагала, что политическое располагается на территории открытого публичного высказывания и действия, что это дискурс, который не связан с телесными практиками и с телесным самоопределением как частным и непубличным опытом. Батлер показывает обратное, что чувственно-телесные аспекты инаковости — например, инвалидность или трансгендерность — могут носить прямой политический характер. Политическое, по Батлер, не располагается в иерархии деятельности в качестве ее высшей духовной формы, как представляла Ханна Арендт в «Vita Activa». Батлер, напротив, связывает политику с самыми «низкими» телесными функциями, плавающей, нестабильной квир-идентичностью. Политическое для нее выражает себя через чувственный язык телесной инаковости. Мне кажется, в рассуждениях Батлер присутствует очень беньяминовский способ думать о парадоксальных объектах гендерной теории не вполне понятийным способом.
«Слабая» теория больше подходит для описания современных гибридных объектов, нежели классическое, восходящее к кантианству, представление о теоретическом знании. Поэтому, мне кажется, Беньямин в этом отношении невероятно актуален, особенно для русского контекста, хотя его чтение предполагает очень сложную перенастройку читательской концептуальной оптики. В том числе и политической.
О квирности, сексуальности и книгах
Судя по биографии, Беньямин был невероятным социофобом, практикующим квир-поведение, всячески избегающим идентичностной стратегии, будь то идентичность академическая, политическая или гендерная. В гендерном смысле он одновременно бабник и асексуальный «ботаник», нёрд и гик в одном лице. Приезжает к Асе Лацис в Москву, когда она живет с другим мужчиной и не просто таскается за ней, а выступает в известной всем роли отставного — «ну почему ты меня бросила» — нытика. При этом осуждает успешного бабника Брехта. И завидует ему.
Или история, когда он напился на Ибице и затем просто не разговаривал со знакомым, который отнес его, пьяного, домой. Беньямин не мог иметь с человеком ничего общего после того, как тот видел его в таком состоянии. Неясно, какие у него были комплексы и переживания, но одно очевидно: в этом во всем, в своей квирности, в неидентичностной стратегии поведения он предстает актуальным и современным человеком, практически нашим современником.
Беньямин — криптолевак, который стесняется своей левизны, оставаясь в своих бытовых привычках вполне буржуазным.
Есть несколько причудливых фактов из их отношений с Асей Лацис, когда, например, он, в пароксизме любви, показывает ей свои сокровища: библиотеку и ее жемчужины, и говорит, что она может взять любую книгу в подарок. Но Ася случайно выбирает самую ценную книгу, не зная этого, и Беньямину становится дико жалко этой книги. Он ей говорит, дескать, давай я у тебя ее выкуплю, а ты оставишь книгу у меня, потому что для тебя она ведь все равно не имеет никакого смысла, а я понимаю ее ценность. Причем это не совсем рыночная ценность, а скорее ценность данной констеляции книг, которые он подбирает в свою коллекцию: одна книга-звезда соотносится с другими книгами-звездами, образуя созвездие авторской коллекции, и так далее. Это вполне буржуазное поведение, хотя и немного weird.
В его еврействе тоже много странного. Бесконечные тяжбы со своим другом, гебраистом Шолемом, который все время зазывал его в Палестину, а Беньямин постоянно увиливал и откладывал эмиграцию. Он одновременно интересуется ивритом, иудаизмом, каббалой, мистикой букв, но в то же время слегка побаивается радикального шолемовского еврейства
Сколько проколов, сколько подстав терпели окружающие от Беньямина. Он — безусловно прекарный тип, воспринимающий свое пребывание в любом месте как временное, негарантированное — кроме, конечно, часов, проведенных в библиотеке или в книжных лавках. Беньямин был действительно фанатиком книг, почти в сексуальном смысле. Он относился к книгам как к эротическим объектам.
Ему был присущ особого рода книжный фетишизм — набор практик, где его сексуальность принимала странные обличья. То, во что он включен по-настоящему, это его библиотека, его книжки. Я думаю, что расставание с ними, понимание, что он, скорее всего, уже больше никогда их не увидит — одна из причин его самоубийства. В каком-то смысле Беньямин — святой-покровитель всех книгоманов и библиофагов, родственная душа любого книжника, который готов спать с любимой книжкой под подушкой, обнюхивать страницы и переплет, часами сидеть над какой-то строкой или словом. Поэтому, да, удивительный тип. Хотелось бы оставить за ним эту его странность, ни в коем случае не академизировать ее, в смысле присвоения какой-либо школой или дискурсом. Я думаю, что так оно, скорее всего, и будет.
О наркотиках, дружбе и восприятии
Такое чувство, что Беньямин — чувак, который постоянно находится на измене.
Да, абсолютно точно. Он довольно регулярно практиковал, начиная с поездок в Неаполь в 1920-х, курение гашиша, и выражение «быть на измене», скорее всего, точно описывает его опыт. Беньямин часто находился в этом состоянии, с измененным сознанием, с постоянным ощущением, что его сейчас накроет. Возможно, он не выполнял главное правило употребления наркотика: не делал это в комфортной обстановке, в окружении людей, которым абсолютно доверяешь. Беньямин курил гашиш в одиночестве или в состоянии непроясненных отношений с тем же Адорно, с женщинами, со своей кредитной историей, и так далее. Поэтому, вы правильно сказали: на измене.
Беньямин это нёрд, «ботаник», но с элементами гика — «фанатеющего», «подсевшего» на что-то странное.
Абсолютно неловкое и непрактичное существо. К примеру, у Шолема и даже у Адорно все схвачено: дела, карьера, семья. Они нормализованы выше крыши к началу тридцатых годов, а Беньямин — чем дальше, тем радикальнее — избегает нормализации, бежит от нее как от чумы.
Это состояние проявляется не только в мысли, но и в повседневности: проблемах с финансами, которые он мог легко решить. Сегодня рухнул образ Беньямина, который был создан Арендт и Шолемом: фатумного неудачника, проклятого. Реальный Беньямин мог жить абсолютно комфортно, но ему было либо страшно, либо лень.
Я хорошо его понимаю. Во-первых, Беньямина доставал любой источник раздражения, который отвлекал от любимых занятий: чтения, прогулок под кайфом, мечтательного созерцания и саморефлексии. Он любил общение в очень приватном смысле: переписка с Адорно тому пример. Эти письма местами невероятно смешные. Одно из моих любимых — то, где Адорно учит Беньямина, как правильно понимать исторический материализм. Загадочное письмо, говорящее о больших проблемах между ними.
Мы в этом году, пройдя через какие-то невероятные редакторские страдания, постараемся наконец-то издать книгу Адорно «Minima Moralia», «Малую Этику», которая является, пожалуй, самой «беньяминовской» из всех его книг. Она написана сразу после смерти Беньямина. Мне кажется, что самое важное в ней — проявление того влияния, которое Беньямин может оказать на любого: прививкой способности мыслить через чувственные констелляции, ассамбляжи фрагментов опыта, через создание образно-мыслительных форм, иероглифов смысла, ментальных аллегорий. Я бы не называл эту способность эссеизмом, это слово уводит немного в сторону. Ее можно назвать способностью создавать смысловые артефакты через ассамблирование кусков текста и картинок — материальных или воображаемых. Чем-то это похоже на дадаизм, на флюксус, на текстовые практики ситуационистов — свободная комбинаторика каких-то образов, пространственных метонимий, фрагментов и набросков, которые соположены и вместе образуют то, что Беньямин называет констелляцией, созвездием, аллегорией.
Эта попытка реализовалась в книге Адорно, у самого Беньямина такой книги не получилось. Может быть, «Улица с односторонним движением», но она крошечная такая, а эта средненькая, добротная. Думаю, что если читать эту книгу как текст Беньямина, а не Адорно, то откроется дополнительная смысловая перспектива. Написать книгу не просто о друге, его там почти нет, но написать книгу так, как если бы друг был живой и сам мог написать все это, сочинить книгу как бы от его лица. Вообще, связь Беньямина и Адорно мне представляется более интересной и глубокой, чем его связь с Брехтом и Шолемом.
О Москве
Вальтер Беньямин — единственный крупный европейский мыслитель, не считая Грамши и Лукача, который не просто жил в Москве, а написал несколько важных, ключевых текстов о ней. Это редчайшая удача для нас всех.
Мы (Ad Marginem) в девяносто седьмом году, к первой публикации «Московского дневника», организовали маленькую конференцию, на которую съехались такие, например, американские исследователи как Джонатан Флэтли, Сьюзан Бак-Морс, ну и знатоки Беньмина из других мест. По инициативе Сергея Ромашко, переводчика Беньямина, мы организовали экскурсию по «беньяминовской Москве».
Мы «посетили», например, гостиницу, где останавливался Вальтер Беньямин. С 1960-х ее нет — она находилась над подземным тоннелем под Триумфальной площадью и Тверской, наверху, рядом с KFC. Зато сохранилась больница, где Ася Лацис лечилась от депрессии. Существуют разные маршруты любимых прогулок Беньямина. Он часто ходил гулять от гостиницы до Каретного ряда, потом, пешком, по Садово-Самотечной, до самой Сухаревской площади с ее огромным рынком и знаменитой башней.
Беньямин много путешествовал на трамваях. Они тогда ходили через Красную Площадь. Однажды, доехав на трамвае почти до Даниловского рынка, он очутился как бы в деревне. Там и сейчас можно увидеть недоджентрифицированные кусочки старой Москвы; Беньямин тогда записал в дневнике, что Москва неожиданно превращается в деревню.
Мы посетили несколько таких мест, и закончили в модном тогда ресторане «Петрович» на Мясницкой. Один канадский аспирант, который тоже приехал с докладом, привез с собой отменнейший гашиш. (Недаром, спустя 20 лет, его легализовали именно в Канаде.)
На дворе девяносто седьмой год, и мы стали забивать джойнт прямо в ресторане «Петрович». Ну как не помянуть Беньямина, когда куришь гаш! Официантка была удивлена, что мы могли сделать такое в ресторане, но не сильно протестовала.
О «Пассажах», Марксе и Бодлере
«Пассажи» (с англ. The Arcades Project — незавершенный проект Беньямина по исследованию истоков современности, который представляет собой представляет собой массивный набор цитат, замечаний и выписок, разделенных на тематические разделы — «конволюты» — приме. ред.) на девяносто процентов состоят из цитат, вот, например, одна из моих любимых. Это из мемуаров Лафарга, зятя Маркса, описание их прогулки с Энгельсом по Парижу в 1880-е. Они фланируют по левому берегу, где-то в районе рю Жакоб (Rue Jacob), в самом центре якобинства, набредают на заведение с вывеской «У регента», и Энгельс говорит: «Поль, видишь эту брассерию? Мы тут сидели с Карлом в сорок восьмом году, весной, именно здесь он за полчаса изложил мне свою концепцию исторического материализма».
Абсолютно беньяминовская сцена. Она мне очень нравится. Это то, что Беньямин в другом месте называл особым опытом, в пространстве которого сами факты, их образная ткань становятся теоретичными, когда теория разворачивается в какой-то первосцене: вот два провинциальных бородатых немца-нонконформиста сидят в парижском кафе, пьют пиво, и один другому за полчаса излагает концепцию исторического материализма. Это же дико круто.
Мне кажется, что таких перлов в «Пассажах» довольно много. Конечно, конволют от конволюта сильно отличается, но в каждом есть просто прекрасные куски: про моду, про фланёра, про скуку, про тюль как главную субстанцию Второй империи… Мне очень нравится. Я периодически читаю «Пассажи», как один из героев новеллы Проспера Мериме «Коломба», разбойник и бывший семинарист, читал «Записки о галльской войне» Цезаря. Могу открыть и прочесть пару страниц: как выглядела какая-нибудь субстанция в девятнадцатом веке и как в девятнадцатом веке что-то концептуализировалось. Мне кажется, что это кладовая жемчужин рефлексии капитализма, размышлений о том, как выглядела первосцена раннего капитализма, общества спектакля avante le lettre. Потом, это важный психогеографический путеводитель по Парижу, остающийся актуальным до сих пор.
Париж после Османовских реформ предстал в своей парадной форме: роскошные рестораны и кафе, шикарные магазины, особые повадки приказчиков-продавцов этих магазинов. Если у вас есть способность не обращать внимание на снобизм этих людей, то в таких местах интересно бывать, ведь они — своего рода музеи торговли. Я редко бываю в Париже, но мне нравится иногда пройтись по таким магазинам. Это экстравагантный опыт: причудливая публика, сценки у прилавков, примерочных кабинок — то, что любил Беньямин: теория, которая прорастает из чувственных картинок.
Конечно, чтобы издавать такую книжку как «Пассажи», надо поменять немножко концепт первого публикатора — Тидеманна, хорошо бы сделать из нее полноценный визуальный объект.
Кстати, есть попытка повторить беньяминовский опыт «Пассажей». По-моему, три года назад в Америке вышло издание, которое называется «Нью-Йорк — столица двадцатого столетия». Там тоже все разбито на какие-то архетипы, аллегории, которые переизобретены в случае Нью-Йорка. Но Беньямина с его задыхающимся стилем довольно трудно имитировать и воспроизводить.
«Пассажи» работают не как папки с категориями, но как желтенькие стикеры на холодильнике: «Не забыть это, сделать то», или кнопки с ниточками из классических детективов.
Интересно, что одна из форм адекватного поведения после курения гашиша — ходить одному по большим торговым моллам. Это никак не связано с чтением Беньямина, просто опыт, который по-своему интересен. Когда у тебя нет компании, с которой ты можешь, весело хохоча, продолжить это развлечение, и ты один, то важно не полностью замыкаться на себе, а быть хотя бы в бессловесной коммуникации с миром. Например, начать разглядывать какое-то предметное множество каких угодно объектов, которое легче всего застать в больших универмагах, мегасторах. Видишь уходящую вдаль, за горизонт бесконечную линию банок, бутылок, ботинок или рубашек, это-то и приводит в результате к гармонизации твоего состояния, приближает ощущение подъема и плавного нарастания эйфории. Думаю, что во многом Беньямин, особенно в «Пассажах», словил это удовольствие магазинного множества, разнообразия, темперирующего твое расширяющееся созерцание. Когда ты один под воздействием гашиша, важно не пренебрегать этой малой радостью, пребывать в ней, анализировать ее.
Мне прямо вспомнился фрагмент из его «Бодлера», когда он пишет, что универсальный магазин — это последнее пристанище фланера, потому что в толпе слоняться не очень хорошо, а вот в магазине…
Где тебя никто не достает. Ты глазеешь по сторонам, где-то зависаешь, не вызывая ни у кого подозрений, и бредешь себе дальше. Мы будем издавать довольно странную книжку в этом году, тоже тяжелую в переводе. Это Роберто Калассо, итальянец, не бог весть какой мыслитель, но талантливый эссеист — в классическом смысле слова. Он написал книжку, — сборник эссе, — которая называется «La folie Boudelaire» — «Безумие Бодлера» или «Безумие по имени ‘Бодлер’». Там разные герои: от Бодлера, Энгра, Дега до каких-то микротрендсеттеров XIX века, но все вертится вокруг одного сновидения Бодлера, где ему снится, что он попадает в публичный дом, а потом оказывается, что это не совсем публичный дом, а нечто среднее между публичным домом и музеем.
Этот сон является ключом к пониманию места и роли искусства в эпоху капитализма, аллегорией художника и судьбы его произведений, ассоциирующейся у Бодлера и Калассо с ролью продажной женщины, но обретающейся не на улице или в кабаке, а в музее, этом буржуазном хранилище ценностей, где есть объекты для созерцания и, одновременно, обладания, консумации, знаки культурно-социальной идентичности и сопутствующий им антураж «высокого потребления». Смесь борделя с музеем является конститутивной для понимания того, как создается, функционирует и потребляется искусство в эпоху капитализма. Автор интересно трактует это место: в пространстве борделя/музея у него появляются Дега с Энгром, какие-то художники-карикатуристы Второй империи и тому подобные персонажи эротико-музеологического театра XIX века. Такая необычная попытка думать в сторону Беньямина, по-беньяминовски: через сновидческую образность, смешанную с рефлексией культурных героев, объектов и практик.
Это нельзя назвать абсолютно беньяминовским текстом — Беньямин, наверное, написал бы его совершенно по-другому, но это попытка думать «в сторону» Беньямина, и Калассо — один из интересных примеров такой нарративной стратегии. Не знаю насколько книга станет удачной, посмотрим, как будет с переводом: его, как и Беньямина, невероятно сложно переводить, потому что у него нет линейного логического выстраивания концепта, а есть постоянные отклонения, уходы в сторону, извивы, отказ от нарративной идентичности. Это по-своему завораживает: пример письма, напоминающего беньяминовское стилистическое дыхание.
О книгоиздании
Опыт издания Беньямина, изучения и обсуждения его текстов, их цитирования, их влияние на всякие академические дисциплины, на сам стиль академического и околоакадемического письма… Не могу сказать, что это все закончилось, скорее оно становится и уже стало каноном. С наследием Беньямина теперь можно обращаться более или менее спокойно, прибегая к академическому цитированию, что, на мой взгляд, не мешает некоторому оживлению этого канона в России. По-настоящему откомментированные русские издания Беньямина еще впереди, и рецепция Беньямина будет продолжаться. Скорее всего, кто-то все-таки издаст «Пассажи». Например, эта попытка, которую сейчас сделали в V-A-C, — взять конволют и издать его отдельно, — хорошая. Но даже для отдельного конволюта нужна детальная академическая работа, и тут возникает проблема: специалистов по девятнадцатому веку (а здесь нужны специалисты именно по девятнадцатому веку) с широким кругозором не так уж и много. Во французском языке есть Вера Мильчина — прекрасный знаток «прекрасной эпохи». Мы с ней примерно раз в три года последние пятнадцать лет заводим разговор о том, чтобы она приняла участие в возможной работе над Беньямином. Но пока молодцы V-A-C-шники, что сделали конволют «Коллекционер» по-русски.
У базовых текстов Беньямина вообще какая-то непростая читательская судьба, например, у текста «О понятии истории». Более-менее понятна перспектива его интерпретации Агамбеном, но есть множество других возможностей, далеко не все из которых актуализованы. Например, левая перспектива — мысль о воспоминаниях как о территории классовой борьбы. Важный для меня тезис о том, что господство класса распространяется на содержание воспоминаний, в самом составе которых воцаряется логика победителей. Прошлое оказывается незащищенным от экспансии классового насилия, которое распространяется даже на тончайшую, едва уловимую территорию субъективного опыта переживания памяти. То, что мы имеем сейчас в виде индустрии исследований памяти, воспевания и оплакивания памяти, ее национализации или, напротив, приватизации и джентрификации, которые начинают носить прямо-таки угрожающий характер, безусловно относится к той же беньяминовской проблематике. Но это, конечно, тема для отдельного разговора.
Расшифровка: Виктория Здоровилова, НИУ ВШЭ СПб.
Полная версия материала опубликована в журнале «Нож»