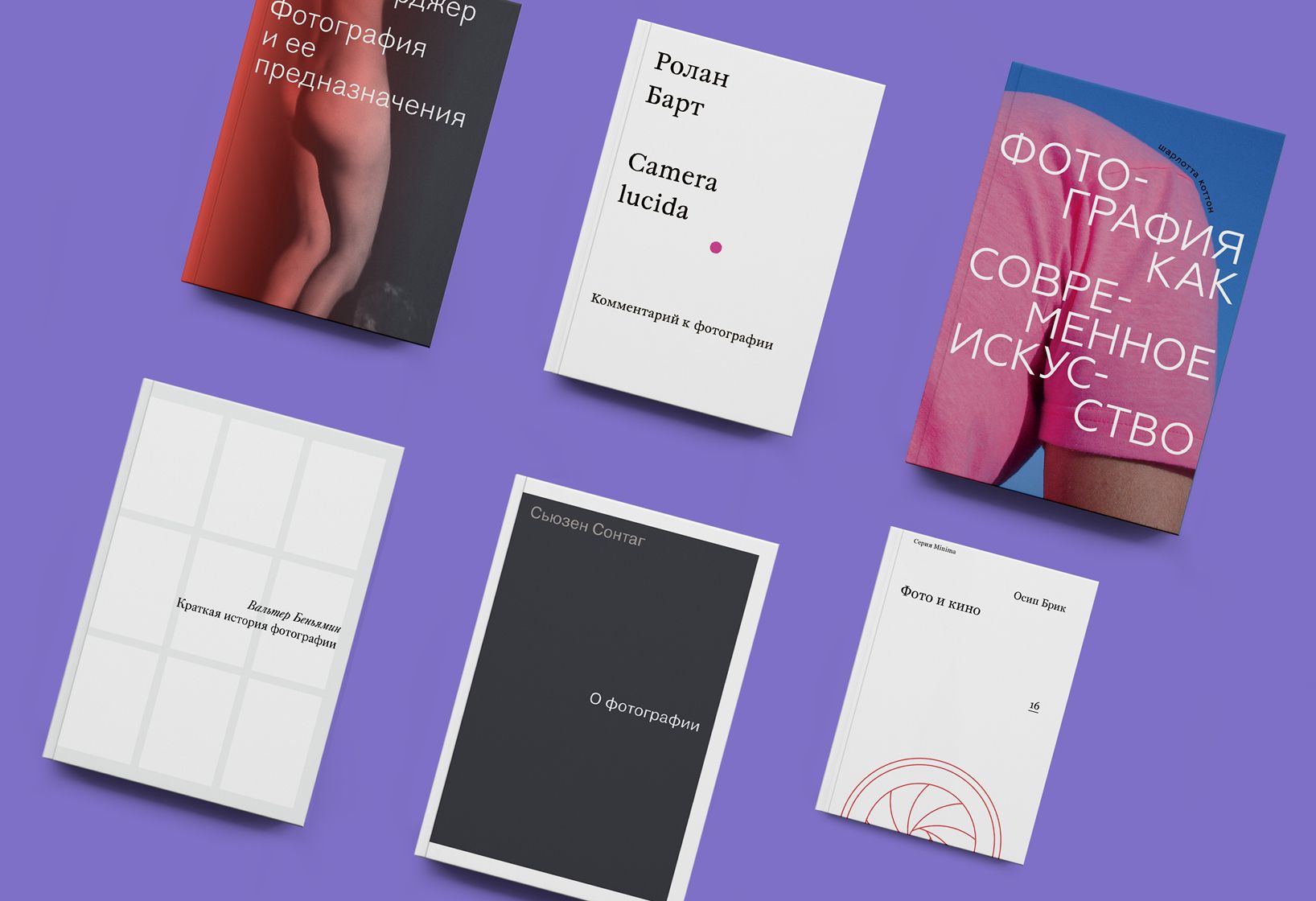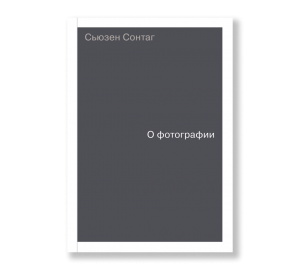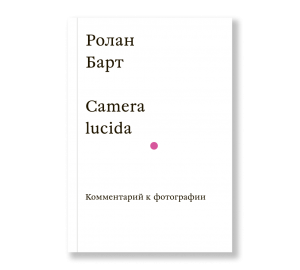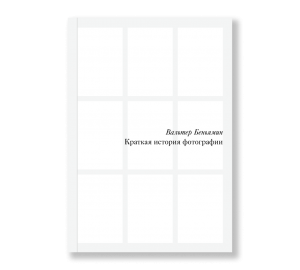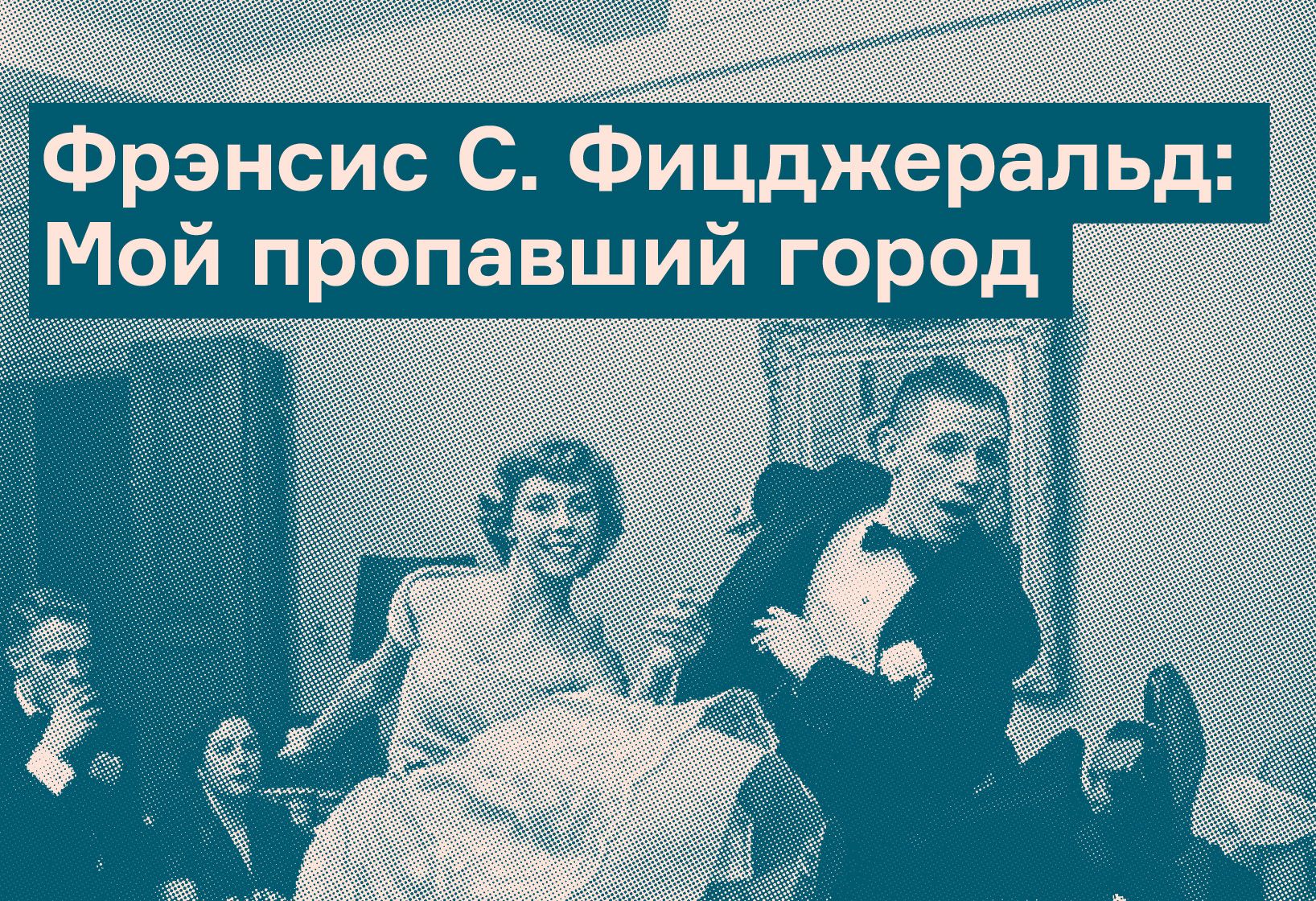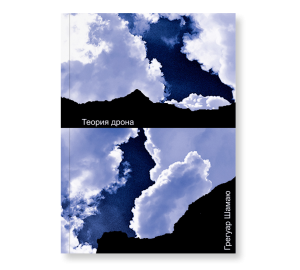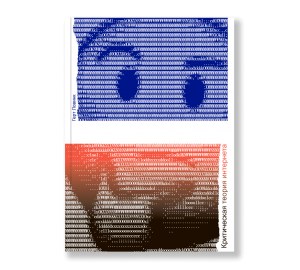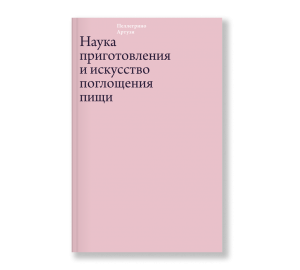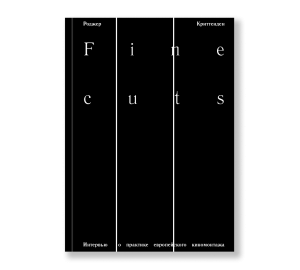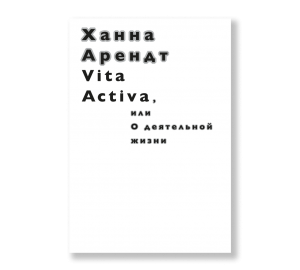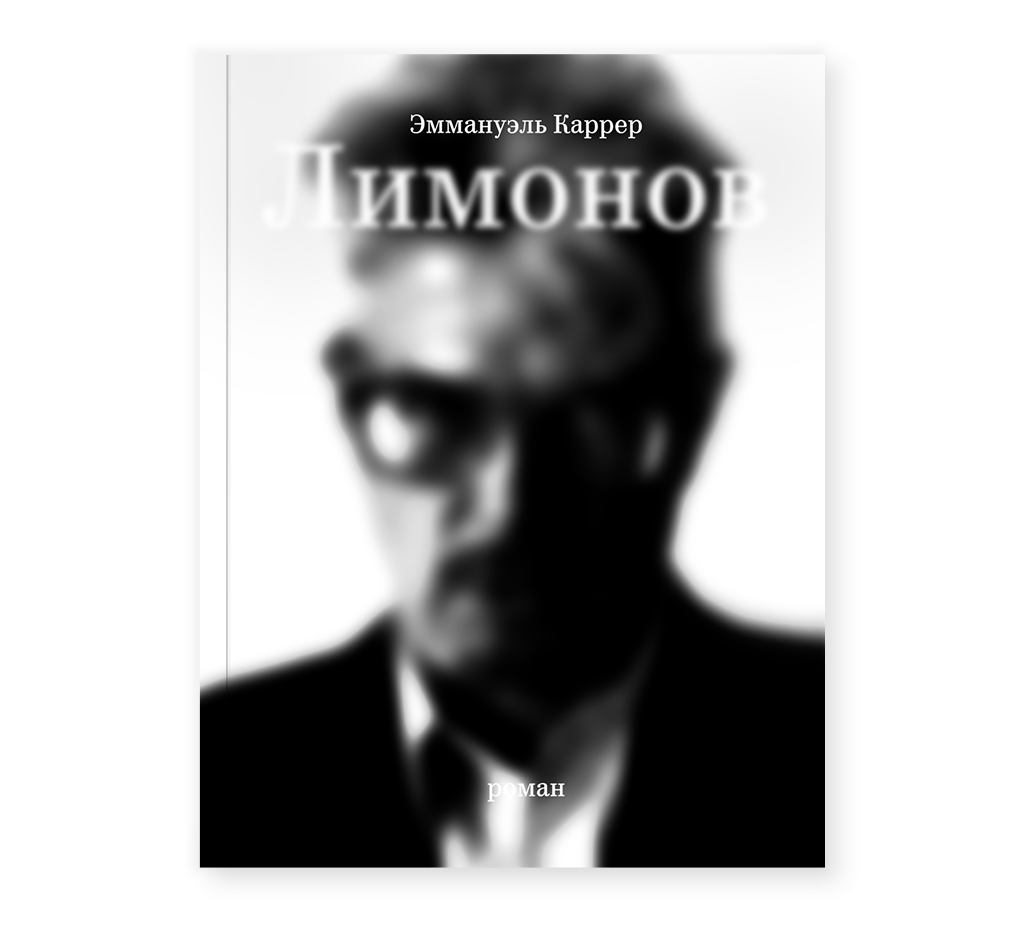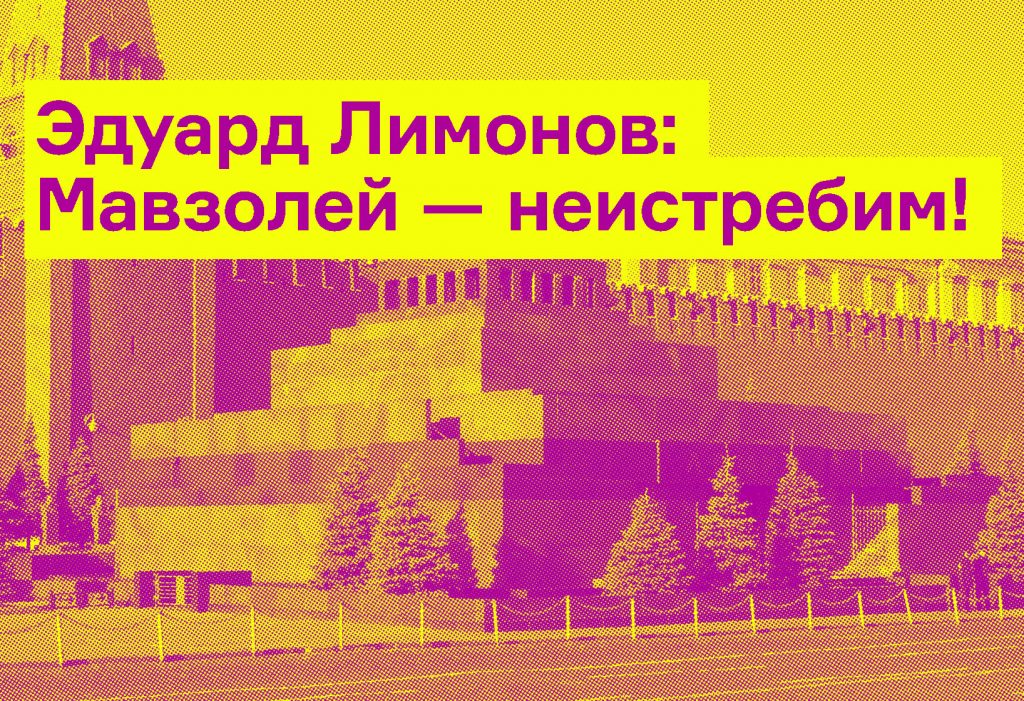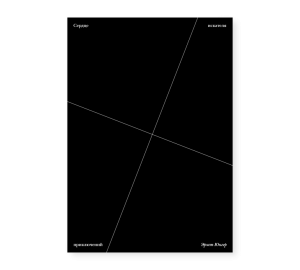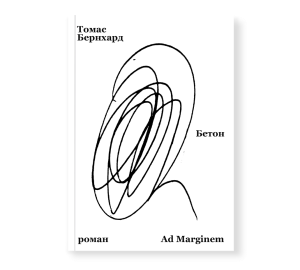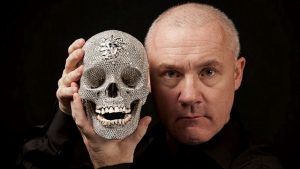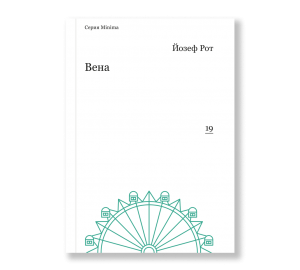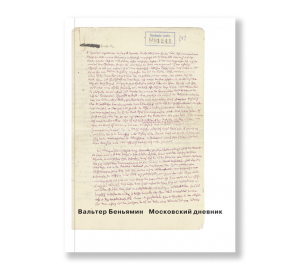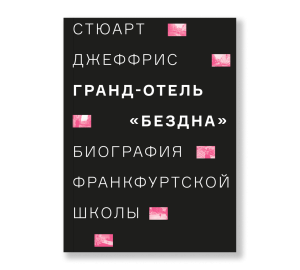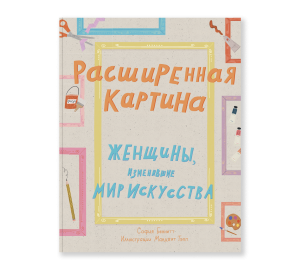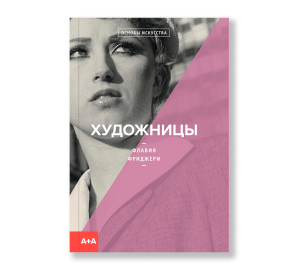Отрывки из книги Майкла Соркина «Двадцать минут на Манхэттене»

В Нью-Йорке 26 марта в возрасте 71 года от осложнений, вызванных вирусом, умер теоретик архитектуры и критик Майкл Соркин. В память о Соркине публикуем фрагменты из его книги «Двадцать минут на Манхэттене».
«Значительная часть современной истории того, как Нью-Йорк обретал свою физическую форму, — это результат споров о свете и воздухе». — М. Соркин

Путь от моей квартиры в Гринвич-Виллидж до моей студии в Трайбеке занимает около двадцати минут — в зависимости от выбранного маршрута и от того, остановлюсь ли я выпить кофе и почитать «Таймс». Но в любом случае он начинается со спуска по лестницам. Дом, в котором я живу, — это так называемый многоквартирный дом Старого закона (Old Law tenement), возведенный в 1892 году, о чем свидетельствует дата, выбитая на металлической табличке, вместе с именем дома: «Аннабель Ли». Как и в большинстве подобных домов, в нашем пять этажей (порою их бывает шесть, иногда семь), и мы с моей женой Джоан обитаем на верхнем.
Спуск необременителен, но вот путь в четыре с половиной пролета вверх, семьдесят две ступени в общей сложности, включая крыльцо, может нервировать, особенно когда ты возвращается из прачечной с тридцатью пятью фунтами свежепостиранного белья. (Нежелание тащиться с этой тяжестью лишь оттягивает поход в прачечную и тем самым увеличивает тяжесть, создавая порочный круг). Порою, вечером особенно изматывающего дня, создается впечатление, что между четвертым и пятым этажом вставили еще один дополнительный пролет. В карабкании по лестничным пролетам есть что-то гипнотическое. Я часто думаю, что нахожусь на четвертом, а в действительности нахожусь на третьем. И столь же часто происходит наоборот: я уверен, что добрался только до третьего, а я уже на четвертом.
Карабкаться по лестницам — прекрасная физкультура, если достаточно практиковаться. Я преодолеваю в среднем по двадцать пролетов — около трехсот ступенек — в день. Исходя из расчета «0,1 калории на ступеньку вверх» (и «0,05 калории на ступеньку вниз»), я способен сжигать по шоколадной плитке в неделю. Я старюсь взбираться по лестницам везде, где только можно, но в высотных домах меня часто удерживает от этого не только высота здания, но и то, что в домах с лифтом лестницы обычно размещаются «по остаточному принципу», пользоваться ими предполагается лишь в экстренных случаях. Эти изолированные лестничные шахты — неприятные места. Зачастую прямо предупреждается, что пользоваться ими допускается лишь в случае необходимости. Вспомните для сравнения легендарные парадные лестницы в классических квартирных домах XIX века Парижа и Вены, чьи широкие пролеты расходились вокруг просторных внутренних дворов. Хотя в них порой присутствуют небольшие лифты, эти открытые хитроумные приспособления не выключают тех, кто ими пользуются, из жизни лестничных пролетов, а, наоборот, объединяют их.
Те лестничные пролеты не просто добавляли квартирным домам величия, но и служили важными пространствами социализации, будучи достаточно широкими, чтобы остановиться и поболтать посередине одного из них. Находящиеся в общем пользовании по необходимости, они образуют полезный и элегантный компонент коллективной окружающей среды. Щедрость, с которой отмерялось пространство лестниц и дворов (не говоря уж об открытых клетях небольших лифтов), означала, что всякий, ступив на лестницу, присоединялся к братству хорошо видимых и слышимых вертикальных путешественников. Что развивало ощущение общности и позволяло чувствовать себя в безопасности внутри здания. Эффекта загадочных шагов и неожиданных встреч легко избежать благодаря тому, что гостей, приходящих на вечернику, видно издалека. Чтобы воссоздать атмосферу подобных мест, вспомните попытку Рипли (в «Талантливом мистере Рипли» Патриции Хайсмит) снести завернутое в ковер тело Фредди Майлза вниз по парадной лестнице квартирного дома в римском стиле. Несколько лет спустя в киноверсии ее воплотят соответственно Мэтт Дэймон и Филипп Сеймур Хоффман.
В Нью-Йорке очень мало квартирных домов, снабженных гостеприимными лестничными пролетами, подобных тем, что можно было найти в элегантных домах буржуазной Европы XIX века. Одна из причин состоит в том, что, хотя одинокие и бедные люди издавна селились в многоквартирных домах и общежитиях, респектабельные квартирные дома появились в Нью-Йорке относительно поздно: проникновение больших блоков «французских домов» (отмеченных характерным сочетанием экономичности и удобства) началось только в 1870-х годах. По причине ли первичности лифтов (изобретенных еще в 1852 году), стремлении сэкономить на расходах и выкроить побольше места, низведение (и последующая изоляция) лестничных пролетов до статуса «аварийных выходов» привело к тому, что в книге достижений нью-йоркской урбанистики сыщется не много записей, связанных с лестницами. «За два с половиной месяца я не видел в Америке ни единой лестницы, — писал Ле Корбюзье в 1937 году. — Их похоронили… спрятали за дверьми, которые вам в голову не придет открыть». Большинство величайших городских лестниц, от музея Метрополитен до Нью-Йоркской публичной библиотеки и Федералхолла, — внешние, они выражают скорее гражданские, нежели домашние добродетели. В некоторых зданиях социальное прославление лестниц происходит в лифтовом фойе. Вспомните небоскреб Вулворт или Крайслер-билдинг с их богатыми украшениями. Нечто подобное встречается во многих довоенных квартирных домах.
Лестницы в «Аннабель Ли» состоят из прямых пролетов. Они ведут с этажа на этаж без промежуточных площадок между ними. Это не обязательно самый компактный вариант для лестницы, потому что часто подразумевает, что следующий пролет начинается не сразу, а через небольшой коридорчик. Эффективность зависит от количества входных дверей на каждом этаже. В «Аннабель Ли» проект весьма экономичен. Для моих глаз (и ног) лестница, особенно входящая в единую систему лестницы и коридора, элегантнее и приятнее, когда она подводит взбирающихся по ней прямо к входным дверям. В ней меньше изгибов и поворотов, меньше отдельных пролетов — и с низу каждого пролета хорошо просматривается следующая цель.
Для меня лучшие нью-йоркские лестницы — в пяти- и шестиэтажных промышленных зданиях второй половины XIX века, нынче переделанных в лофты. Лестницы там не просто прямые, но еще и продолжающиеся. Самая высокая их концентрация в Сохо, где во множестве зданий прямые лестничные пролеты возносятся все выше, притормаживаемые только площадками на этажах, пока ограничение длины здания не вынуждает их повернуть. Хотя их вынуждает к этому первоначальное назначение здания — по просторным, непрерывным лестницам, очевидно, было легче поднимать негабаритные тяжести, — эти широкие лестницы, поднимаясь беспрепятственно на четыре, пять этажей, входят в число самых прекрасных и драматичных архитектурных пространств города. Это его крытые галереи. Наряду с чугунными фасадами, пристройками первых этажей во внутренних двориках с окнами в потолке (через которые видно небо) и металлическими тротуарами с встроенными стеклянными иллюминаторами, освещающими подвалы под ними, эти лестницы — часть тектонического «словаря» лофтов, основополагающего для архитектурного архива Нью-Йорка.
Все эти элементы можно приспособить для современного использования. Самый удачный пример длинной непрерывной лестницы — Бейкер-хаус, общежитие Массачусетского технологического института, спроектированное великим финским архитектором Алваром Аалто в конце 1940-х годов. Застекленная с одного края, немного сужающаяся по мере подъема, эта лестница представляет собой прекрасное место как для спуска-подъема, так и для общения. Сужение имеет как художественное, так и функциональное значение. С одной стороны, чем выше, тем меньше людей ею пользуется, а с другой — при взгляде снизу вверх перспектива поневоле сужается. Вариация на тему этого непрерывного подъема — пандус музея Гуггенхайма, наивысшего нью-йоркского достижения в том, что касается внутренней лестницы, хотя некоторые утверждают, что удовольствие от восхождения по спирали берет верх над логикой демонстрации проведений искусства.
Возможность включения подобных лестниц внутрь зданий зависит от их размеров. Стандартная формула расчета габаритов внутренней лестницы — подъем ступени лестницы плюс сама ступень, дающие в сумме семнадцать или семнадцать с половиной дюймов. При ступени в десять дюймов и подъеме в семь с половиной, для того чтобыдостигнуть высоты в десять футов — разумное расстояние от этажа до этажа в квартирном доме, — требуется шестнадцать ступенек (именно столько их в моем доме), а длина пролета составляет чуть больше тринадцати футов (ступенька зачастую слегка выступает над подъемом), не считая верхней и нижней площадки, увеличивающих общую длину примерно до двадцати футов. Непрерывный прямой подъем на пятый этаж потребовал бы, таким образом, около девяноста футов длины здания — и еще больше для домов с высокими этажами, каковыми являются большинство сооружений с лофтами.
Архитектура возникает на пересечении искусства и частной собственности, и это одна из причин, по которой ее плоды так хорошо различимы в истории общественной жизни. Знаменитый сеточный план Манхэттена, возникший благодаря брызжущему оптимизму городских комиссионеров в 1811 году и расширенный в 1835 году, разделил остров — от границ существовавшего тогда поселения в Гринвич-Виллидж до самого северного кончика — на двести блоков (кварталов) улицами шириной от шестисот до восьмисот футов. Эти блоки, в свою очередь, были разделены на участки (лоты) двадцать пять на сто футов, которые и стали базовым модулем как для владельцев, так и для архитекторов, определяя характер города. Типичный дом того времени занимал половину своего участка, то есть имел размеры двадцать пять на пятьдесят футов (обычно — гостиная сбоку, а лестница и комнаты обращены к переднему или заднему фасаду), а за ним располагался задний двор, примерно того же размера. В результате возникал блок из двадцати пяти — двадцати восьми домов.
Происхождение сеточного плана остается во многом загадкой, хотя сама по себе градостроительная «решетка» имеет давнюю историю, простираясь во времена вавилонян и египтян. Возможно, первым, кто определил решетку как ясное выражение разумного, общественно упорядоченного плана, был грек, Гипподам из Милета, планировщик, философ и математик V в. до н. э., о котором упоминает Аристотель. Гипподам не просто первым задумался о геометрической организации городского пространства, но также выдвинул соображения о границах соседских участков, функциональном зонировании (священное, общественное, личное) и важности центральной площади (агоры), а также об идеальном масштабе и населенности города. Ему приписывают планы Милета, Пирея, Родоса.
Согласно Фредерику Лоу Олмстеду, истоки нью-йоркской «сетки» были далеко не столь концептуальны: «Весьма достоверной представляется история о том, что система… была предложена благодаря случайности: рядом с картой местности, на которой предполагалось утвердить план, оказалось строительное сито. Его положили на карту, после чего возник вопрос: “Кто-нибудь может предложить что нибудь более подходящее?” Ответа не последовало». Критика в адрес сетки и возникающих из-за нее сложностей раздавалась с самого начала. Олмстед сам указывает на проблемы, возникающие из-за жестко фиксированного размера городского блока: невозможность выкроить место для по-настоящему большого сооружения и общественного пространства; проблема затененности; сложность выстраивания систем формальной и символической иерархии при общем стремлении к единообразию. Последнее замечание отсылает к более раним установкам архитектора Пьера Ланфана, который раскритиковал предложение
Томаса Джефферсона (ставившего во главу угла идеи Просвещения) создать новую столицу, город Вашингтон, исключительно по сетке. План 1811 года создал ряд проблем, неразрешенных и по сей день. Например, нехватка боковых дорожек между домами, подобных тем, что существуют в Лос-Анджелесе или Чикаго. Из чего следует, что сбор мусора и выгрузка доставленных товаров должны осуществляться прямо с улицы. А ориентация блоков по оси «запад-восток», вполне логичная с точки зрения создания сети более низкой плотности между загруженными авеню, ориентированными по линии «север-юг», привела к тому, что прямые солнечные лучи могут проникать лишь с узкой южной стороны каждого стоящего в ряду дома; хотя, поскольку сетка повернута на 29 градусов к северо-востоку, чтобы соответствовать наклону самого острова и идти параллельно Гудзону, рано утром солнце проникает с севера (востока). И наконец, длинные и узкие участки, вполне логичные для стоящих в ряд домиков, весьма проблематичны для квартирных домов, которым, чтобы в них разместилось по несколько квартир на каждом этаже, очевидно, следует быть существенно длиннее, чем домам на одну семью.
За сто лет, прошедшие со времени принятия плана 1811 года, население Нью-Йорка (без Бруклина, который не считался частью Нью-Йорка до 1898 года, а был отдельным миллионным городом), достигло трех миллионов. Частные дома преобразились в многоквартирные, буквально втиснутые на всю глубину каждого участка, порою прямо стена к стене с соседним строением. Самыми худшими из них стали так называемые дома-вагоны, в которых комнаты, по восемнадцать на этаж, прямо-таки нанизывались на центральную лестницу. Поскольку они представляли собой «конструкции с общей стеной» (дома одного ряда разделяли общую стену с соседом с каждой стороны) и поскольку задние дворы практически исчезли, лишь две комнаты — те, что выходили на улицу — имели доступ к солнцу и свежему воздуху. Впрочем, так называемые улучшенные дома оборудовались маленькими «воздушными колодцами» в центре здания, но их значение оставалась ничтожным.
Последствия плохого домостроительства неоднократно обсуждались на частном и общественном уровнях: законодатели штата представили доклад о неподобающих жилищных условиях еще в 1857 году, но непосредственных последствий он не возымел. В 1865 году Ассоциация граждан Нью-Йорка опубликовала огромное исследование, согласно которому почти 500 тысяч из 700 тысяч жителей города ютятся в пятнадцати тысячах многоэтажек, не отвечающих никаким стандартам. Накрывшая город в середине века волна пожаров, эпидемий и бунтов лишь подчеркнула материальную и социальную опасность плохо построенных, антисанитарных и перенаселенных трущоб, и в 1866 году был законодательно принят исчерпывающий строительный кодекс. За ним в 1867 году последовал Акт о многоквартирных домах, впервые установивший стандарты в этой области. Они предусматривали лучшую защиту от пожаров (включая пожарные лестницы) и минимальные санитарные нормы: один ватерклозет на двадцать комнат.
Закон 1867 года был пересмотрен в 1879 году. Согласно новому уточнению, здание должно занимать не больше 65 процентов участка, на котором построено, «пристройки на заднем дворе» — сооруженные зачастую в дюймах от соседних — должны получать свет и свежий воздух; возросло и количество предусматриваемых туалетов. Слабые усилия к исполнению этого закона (еще одна глава в долгой истории борьбы общественных и частных интересов, так заметно сформировавшей город) привели к появлению формального компромисса, «домов-гантелей», или «домов Старого закона», прекрасным примером которого и является наша «Аннабель Ли». «Гантель» здесь намекает на план здания, утонченного посередине, что позволяет создать с обеих сторон воздушные колодцы.
***
Символический вес лестниц заключен в их форме и их размере. Величественная лестница в течение долгого времени знаменовала собой значительность и парадность. Лестница парижской Гранд-оперa (убого передранная в насквозь китчевой Метрополитен-опере) величественна и раздвоена, так что верхнего фойе можно достичь, поднимаясь по правой или по левой стороне. Поразительная двойная спираль лестницы замка Шато де Блуа в долине Луары — вероятно, созданная по эскизу Леонардо да Винчи, — безусловно, входит в первую десятку. Разумеется, величие часто умаляется с высотой. В системах с вертикальным сообщением, основанным на мускульной силе ног, привилегированное положение закреплено за нижними этажами. В ренессансных палаццо piano nobile («господский этаж», наш второй этаж) традиционно считается наиболее престижным этажом здания, на нем размещались самые впечатляющие комнаты. Вознесенный над землей, чтобы находиться от нее на подобающем расстоянии и в то же время обеспечивать обзор уличной жизни, этот этаж имел более высокие потолки, чем нижний. «Гостиный этаж» — это буржуазная версия «господского этажа», и нью-йоркские «браунстоуны», дома из коричневого песчаника с их впечатляющими внешними лестницами, ведущими в парадные комнаты на этаже, вознесенном над улицей, служат здесь типичным образчиком.
Этот диалог запросов и требований — основной генератор архитектурных форм, и каждая формулировка закона порождала как своих поэтов, так и своих злоумышленников. В целом основополагающей задачей по умолчанию считалось добиться максимальной экономической отдачи при соблюдении требований закона. История изменений требований безопасности легко считывается в изменениях архитектурных форм. В Нью-Йорке время от времени попадается что-то вроде маленьких балкончиков, соединяющих рядом стоящие здания. Это усовершенствованная форма пожарного выхода в соответствии с пересмотренным кодексом 1960 года. Он спроектирован так, чтобы дать возможность жильцам переходить с одной стороны огнеупорной стены на другую, выполняя таким образом требование о двунаправленном аварийном выходе. Подобный же пример экономической и архитектурной изобретательности — «лестница-ножницы». Суть этого изобретения — размещать два прямых лестничных пролета в одной лестничной клетке, в виде вереницы букв X. Вход на лестницы — с противоположных сторон огнеустойчивого ограждения, а сами они разделены по всей высоте вертикальной огнеупорной стеной. Люди спускаются в противоположных направлениях, проскакивая посередине каждого пролета в считаных дюймах друг от друга — но разделенные стеной. После 11 сентября целесообразность подобной конструкции была поставлена под сомнение. В настоящее время широко распространено убеждение, что, если бы лестницы во Всемирном торговом центре были бы разнесены подальше, спаслось бы больше народу, и строительный кодекс был снова пересмотрен, чтобы отразить это убеждение. Лестницам-ножницам суждено исчезнуть.
Помимо соображений безопасности, подъем по лестницам полезен для здоровья, как и ходьба в целом — и это не шутка. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний докладывают, что эпидемии ожирения и диабета, захлестнувшие Соединенные Штаты, — это прямое следствие архитектурного и урбанистического планирования, построенного на том принципе, что каждое наше перемещение должно осуществляться с помощью какого-то технического средства — будь то автомобиль, самолет или лифт. В нашей культуре «расползания», устанавливающей к тому же историческую связь между статусом человека и его праздностью, хождение пешком считается приемлемым только в качестве развлечения. Механические, ячеистые, лишающие телесного и социального контакта средства передвижения взаимообразно участвуют в возникновении современных форм отчуждения, синдрома «боулинга в одиночку», запараллеливания жизней людей. Но для инженеров, проектирующих подобные системы, человеческое тело — это просто хрупкое устройство, зависимое от разнообразных воздействий окружающей среды: изменений температуры, влажности, шума, резкого ускорения и торможения, самого антуража. Устройство, которое нужно упаковать и переместить как можно более действенно при помощи разнообразных транспортных машин.
В течение двадцати четырех лет «Аннабель Ли» щедро предоставляет мне возможности для точных эмпирических исследований физиологического эффекта взбирания по лестнице, и я пришел к заключению, что пять этажей — это вполне приемлемый предел этажности. Во всяком случае, для нас, людей среднего возраста. С исторической точки зрения это вертикальное ограничение находит свое подтверждение в большинстве городов. Но есть и множество исключений. Йеменская Сана, итальянская Генуя — исторические центры этих городов заметно выше. Некоторые из йеменских зданий — а это настоящие глиняные небоскребы без лифтов — имеют аж десять этажей. Но несмотря на эти отклонения, города тысячелетиями процветали, развиваясь в одном высотном диапазоне, примерно от десяти довосьмидесяти футов. Это справедливо и для древне-римских инсул, и для «пуэблос» Юго-Запада США, и даже для шанхайских «лонгтангов», «домов-улиц». Все эти сооружения очень плотно заселены. Но было бы ошибкой считать, что чем выше сооружение, тем больше плотность населения. «Малый город» Соммервиля, штат Массачусетс, в течение долгого времени входил в число наиболее населенных муниципалитетов США, а Лос-Анджелес — олицетворение расползшегося города — имеет среднюю плотность населения выше, чем в Нью-Йорке.
Логика малой высотности — вопрос ограниченности человеческих сил для вертикального подъема, желания не отрываться от земли и доступности строительных технологий. Стоечно-балочная конструкция (возвести стены и наложить перекрытие), до сих пор применяемая в большинстве возводимых сооружений, ограничена прочностью, доступностью и обрабатываемостью используемых материалов. Дерево, камень, кирпич — все они накладывают те или иные строгие ограничения. Вообразите себе строительство с помощью балочно-стоечной конструкции таких величественных каменных сооружений, как Стоунхедж или Карнак. Для создания подобных структур необходим колоссальный труд — выламывать блоки в каменоломнях, обтесывать, перевозить, воздвигать. Нам до сих пор неизвестно, как египтяне возводили пирамиды — не балочно-стоечные конструкции, но огромные каменные груды. Хотя нам известно, что на строительстве каждой из них тысячи рабов были заняты в течение десятков лет, а используемое внутреннее пространство в них почти отсутствует.
«Аннабель Ли» сооружена из кирпичей и дерева. Четыре ее наружные стены — кирпичные, сплошные в местах сопряжения с соседними домами и с оконными и дверными проемами в переднем и заднем фасадах, а также в воздушных колодцах. Кирпич — это материал, который прекрасно работает по вертикали (он устойчив к сжатию), но более проблематичен по горизонтали. Для покрытия горизонтальных проемов кирпич может использоваться в виде арок или куполов, но их размах ограничен. Использовать арочный свод от стены до стены в случае «Аннабель Ли», предполагая, что свод начинается с высоты человеческого роста, — значит, что здание той же этажности окажется на 50 процентов выше, и при его возведении потребуются дополнительное время, материалы и опыт. Внутренние части здания, его полы и стены, возведены из дерева, которое, обладая преимуществами легкости, дешевизны, простоты обработки и соединения, не может, разумеется, похвастаться огнеупорностью. Так что использование дерева как структурного элемента сейчас практически сведено на Манхэттене к нулю.
Относительная однородность зданий и городской планировки в разных культурах — результат особенностей социальной организации (большие здания и замкнутые пространства возникли вследствие необходимости проводить многолюдные собрания), экономических возможностей (только очень богатая и могущественная Церковь могла возводить кафедральные соборы) и наличия доступных материалов и технологий (пустынные цивилизации оставили мало деревянных сооружений) и их образа жизни (разборные вигвамы и палатки — логичное решение, если вы осуществляете сезонные миграции). В наши дни — то же самое. Нью-Йорк строится, задействуя чрезвычайно узкий диапазон конфигураций, материалов и структур, их пределы задаются культурой, технологией и экономикой. Маленькие квартиры в многоэтажных зданиях — следствие чрезвычайно высокой цены на землю и затрат на строительство, растущего превалирования непатриархальной семьи (не живущей целым родом) и все ужесточающихся ограничений со стороны закона.
***
Вернемся к лестнице. Ограничение в пять этажей может показаться здравым только для людей с хорошим здоровьем. Такая лестница может быть утомительной для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, тяжело нагруженных или же для детей. Я сталкивался с тем, что преодоление лестницы может стать проблемой — всякий раз после хирургических операций. После первой из них я был буквально обездвижен и неспособен покинуть квартиру примерно на месяц. Живи я один, это могло стать серьезной проблемой, хотя мои соседи рассыпaлись в уверениях, что доставка — это одно из чудес Нью-Йорка: достаточно позвонить в местный китайский (или любой другой) ресторанчик, эту коммунальную кухню города, извращенную коллективистскую мечту об освобождении от кухонного рабства, чтобы посыльный взлетел по ступеням в неправдоподобно короткое время. Всего-то надо подняться и выйти в прихожую, чтобы нажать на кнопку домофона. Нет нужды даже в наличных: посыльные научились подтверждать оплату, решительно растирая бутерброд из кредитки и квитанции тупым концом ручки, пока на листке не проступят цифры нoмера кредитки. К сожалению, регулярные поломки нашей домовой телефонии частенько тормозили эту отлаженную систему.
Второй раз со мной случился множественный перелом. Мне пришлось носить огромный фибергласовый башмак и научиться разбираться в костылях. Прогулки вверх и вниз по лестнице стали занятием, которого следовало избегать елико возможно. Но примерно через неделю меня настолько обуял «синдром закрытой клетки», что я предпочел выйти на работу — для этого требовалось всего-то один раз в день спускаться по лестнице и один раз подниматься. Происходило это чрезвычайно медленно — и несколько раз чуть не оканчивалось катастрофой, когда я терял костылем ступень и был близок к кому, чтобы катиться кувырком до конца пролета. Я стал необыкновенно восприимчив к «играющим» ступенькам и перилам, к «черным пятнам» освещения, недостающим паркетинам и прочим изъянам пола, к скорости и силе удара автоматических доводчиков дверей — и к миллионам других мелочей городской жизни, проходящих обычно мимо внимания здорового человека.
Город — это затруднительная череда почти патологических «косяков» с точки зрения человека с ограниченными физическими возможностями. Даже для того, чтобы добраться до кабинета моего хирурга-ортопеда, следовало преодолеть небольшой лестничный пролет. Двери приходилось толкать изо всех сил, а развернуться в приемной и перед стойкой ассистентки было непросто даже здоровому человеку. Для посетителей же на креслах-колясках ассистентке приходилось буквально двигать мебель. Общественный транспорт — это был отдельный кошмар. Такое простое действие, как взобраться на бордюр, оборачивалось настоящим испытанием. С другой стороны, должен признать, что люди проявляли доброту и готовность помочь — хотя некоторые такси удирали, завидев мое медленное, шаткое приближение.
Под воздействием многолетних усилий групп борцов за права инвалидов, ведущихся подлозунгом «Без барьеров», ситуация понемногу улучшается, и предъявляемые законом рамочные строительные требования заметно продвинулись в этом смысле с тех пор, как в 1990 году был принят Закон об американцах с физическими ограничениями. Бордюрные камни со сточенными углами, входные пандусы, лифты в метро и разметка Брайля на полу — это и часть становящейся обязательной модернизации и часть основополагающего словаря будущего строительства. Возникает, однако, очевидное противоречие между идеей города, свободного от барьеров, и города, «заточенного» под быстрейшее перемещение человека с места на место. Последнее — предусматривающее, в частности, большое количество лестниц — делает невозможной в полной мере реализацию первого. Хотя работы над протезами-экзоскелетами и прочими устройствами, помогающими людям, испытывающим трудности при ходьбе, и наделяющими всех прочих сверхспособностями, идут полным ходом, в ближайшей перспективе их возможности весьма ограниченны. Но они поднимают приобретающий все бoльшее значение вопрос о том, когда же сможет окончательно рассосаться шов между нами и окружающей нас средой.
Город, любая точка которого равно доступна каждому горожанину, невозможен технологически, да никому и не нужен. Хотя бесчувственный утилитарный анализ расходов и доходов не подразумевает обращения к этическому императиву «общедоступности», следует ясно понимать, что посыл «преобрази мир» (make a difference) требует скорее разнообразия, нежели однородности, сколько бы мы ни говорили о «расширении возможностей». Да, каждое здание в Нью-Йорке должно быть «полностью доступным» — но на практике это часто требует совершенно исключительных мер. Если на боковой дорожке нет места для пандуса — его приходится выгрызать из пространства, занимаемогосамим зданием, возможно — сокращая полезную площадь самих квартир и загромождая вид из окна на улицу. Если в лестничной клетке недостаточно места, чтобы встроить лифт, на каждом этаже приходится уничтожать сотню квадратных футов, чтобы прорубить шахту лифта. А следует ли новый частный дом, строящийся для одной, полностью мобильной семьи, оборудовать лифтом для гипотетического инвалида?
Понятно, что дом оборудуется лифтом для обеспечения концепции «без барьеров», но проблема реализации концепции «города пешком» остается. Один путь ее решения — признать, что ни один город не в состоянии предложить «всеобщего доступа» по разным причинам, — от наличия частной собственности до ограничений прохода в опасные места, вроде тоннелей метрополитена. Так что вопрос следует переформулировать. Доступность публичных мест, начиная от дорожки перед домом и тротуара и заканчивая всеми местами, предназначенными для общественных нужд, есть основополагающее правило и должна охраняться и расширяться. Но хотя в городе не должно быть «запретных зон», равенство не подразумевает одинаковость. Это значит, что некоторые люди будут испытывать трудности в некоторых местах.
Перевод М. Визель