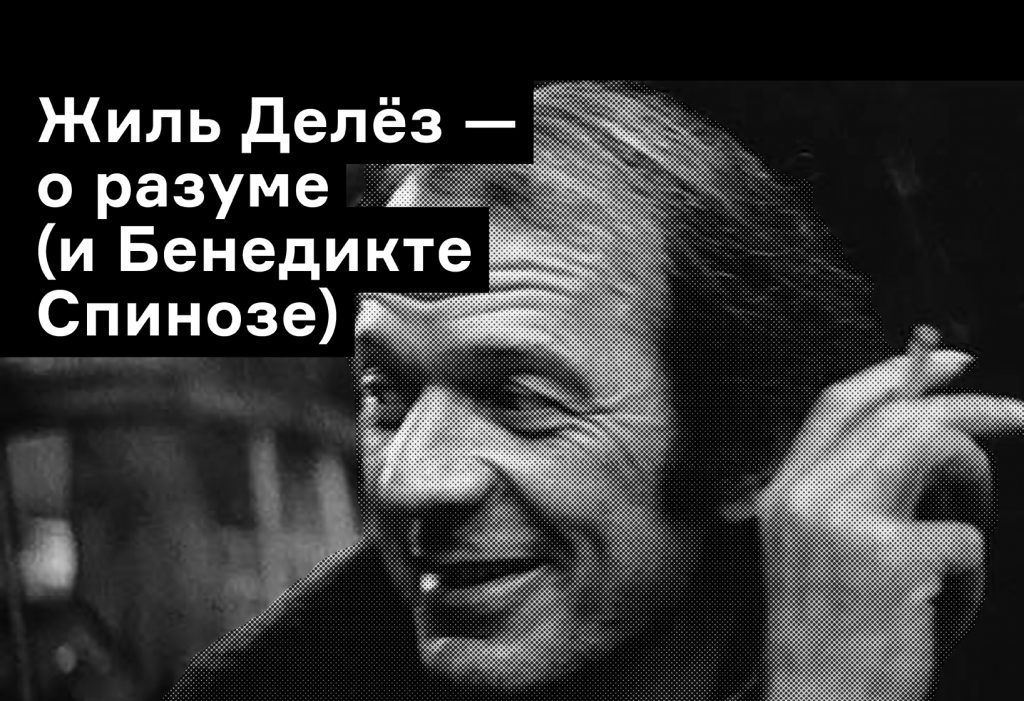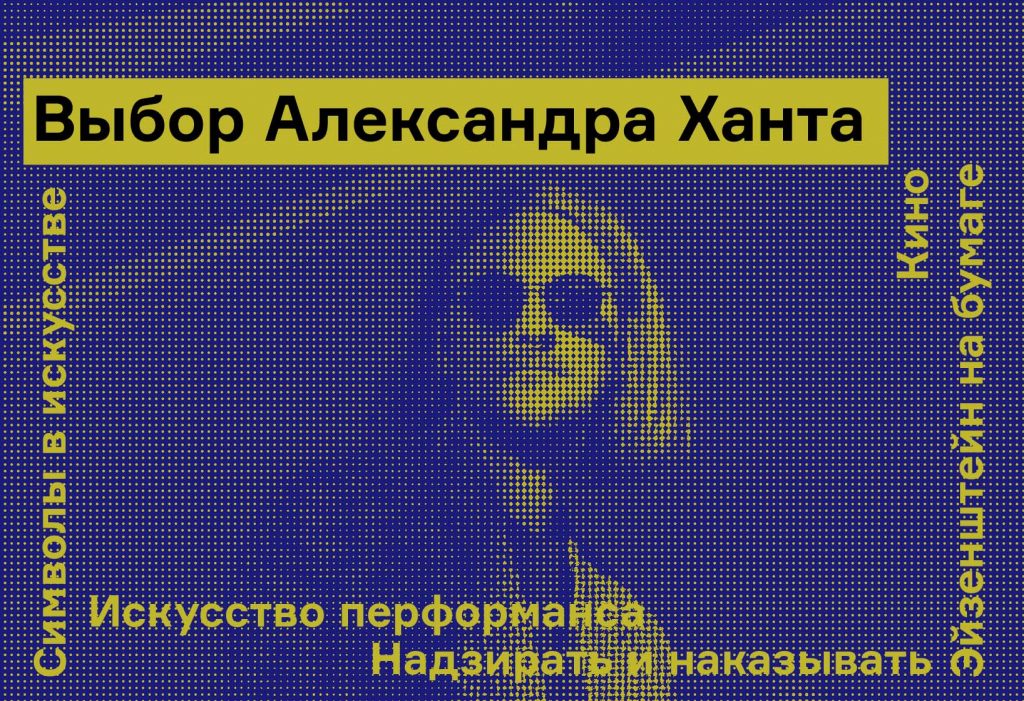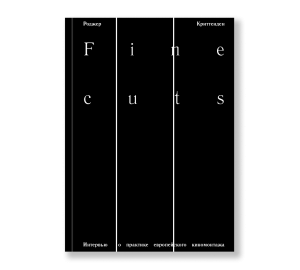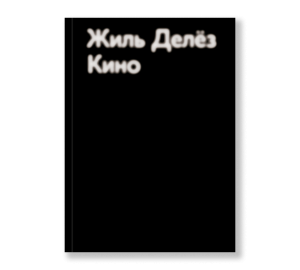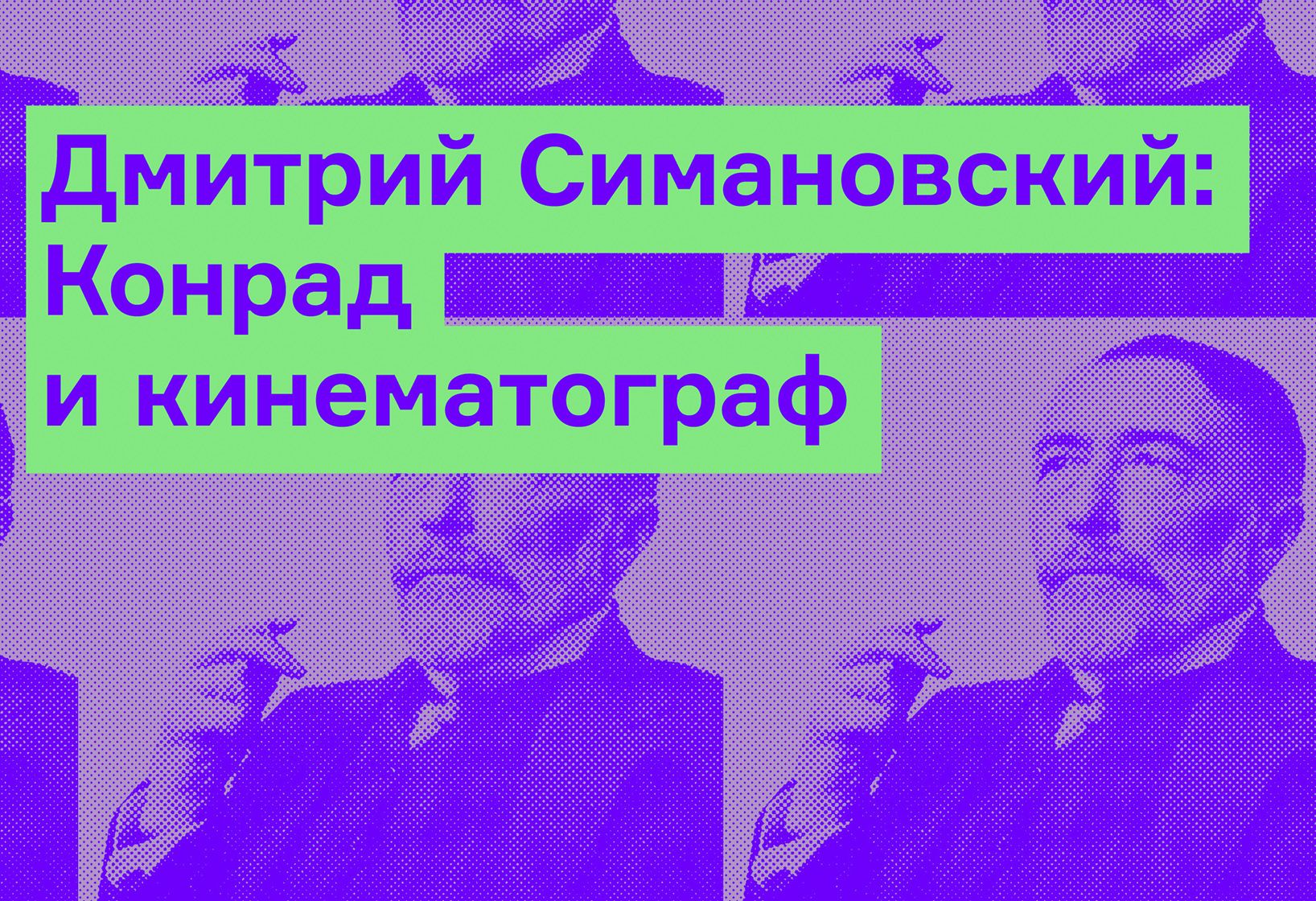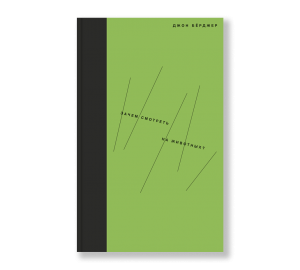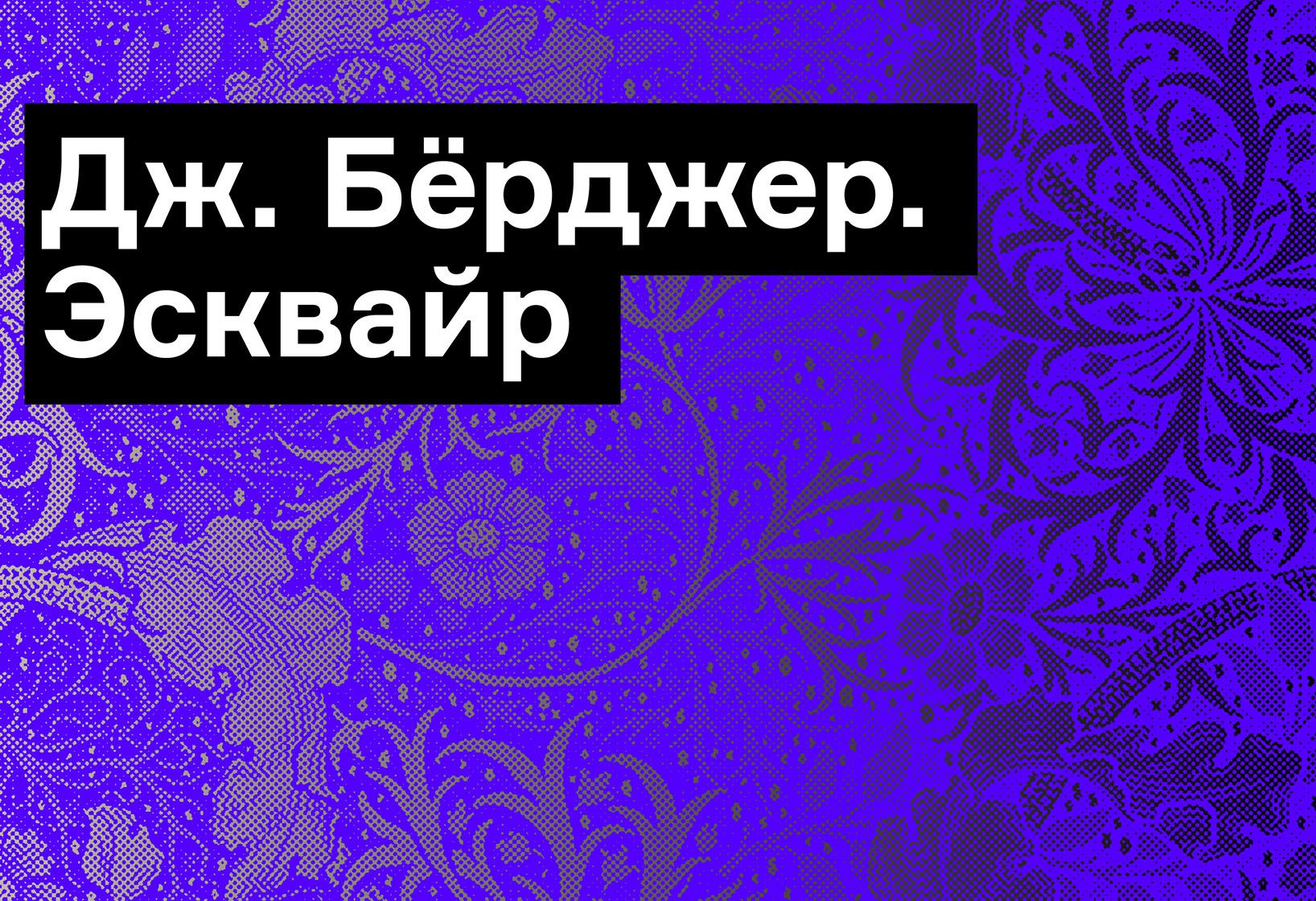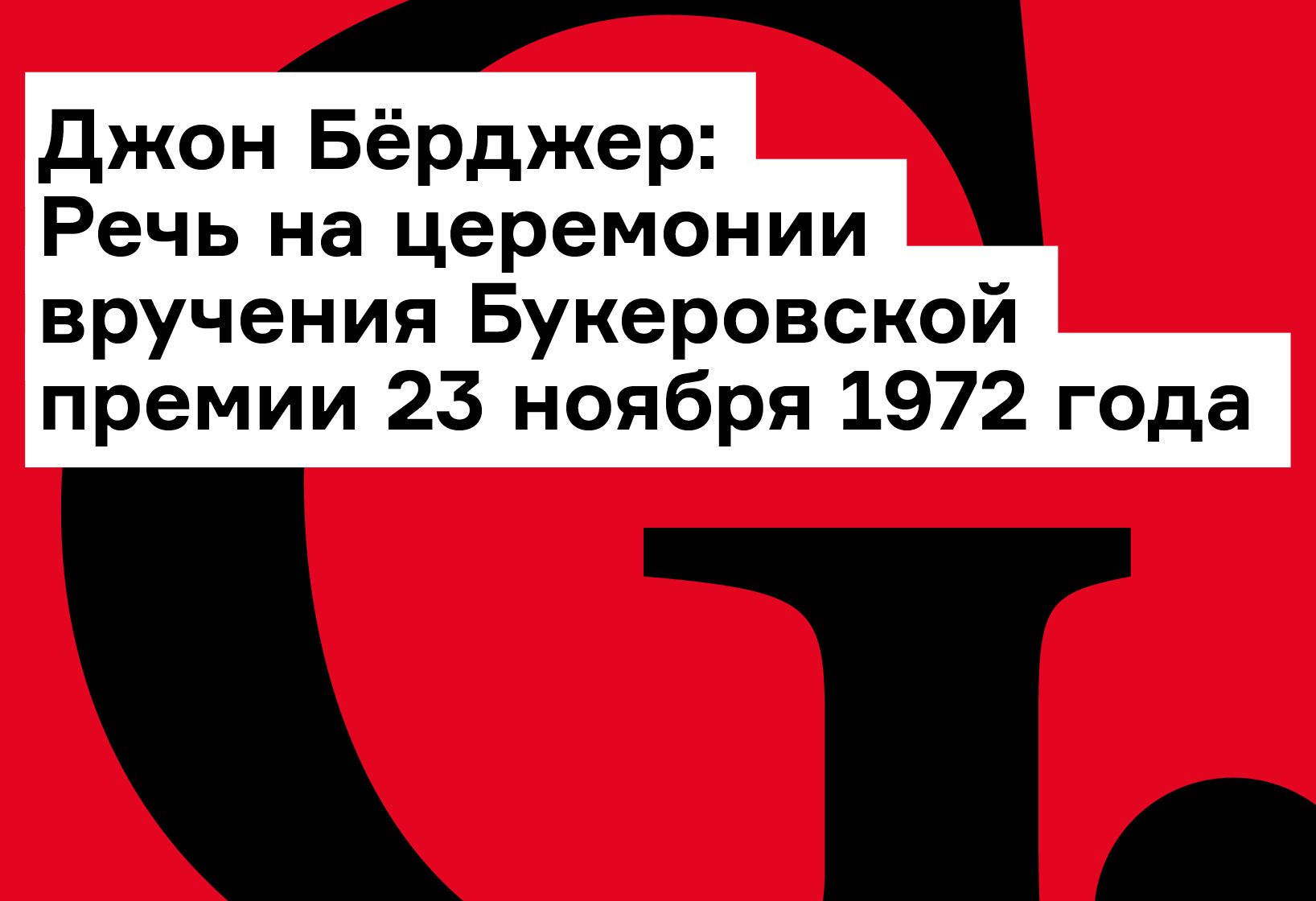Статья Дэвида Гребера, послужившая основой книги
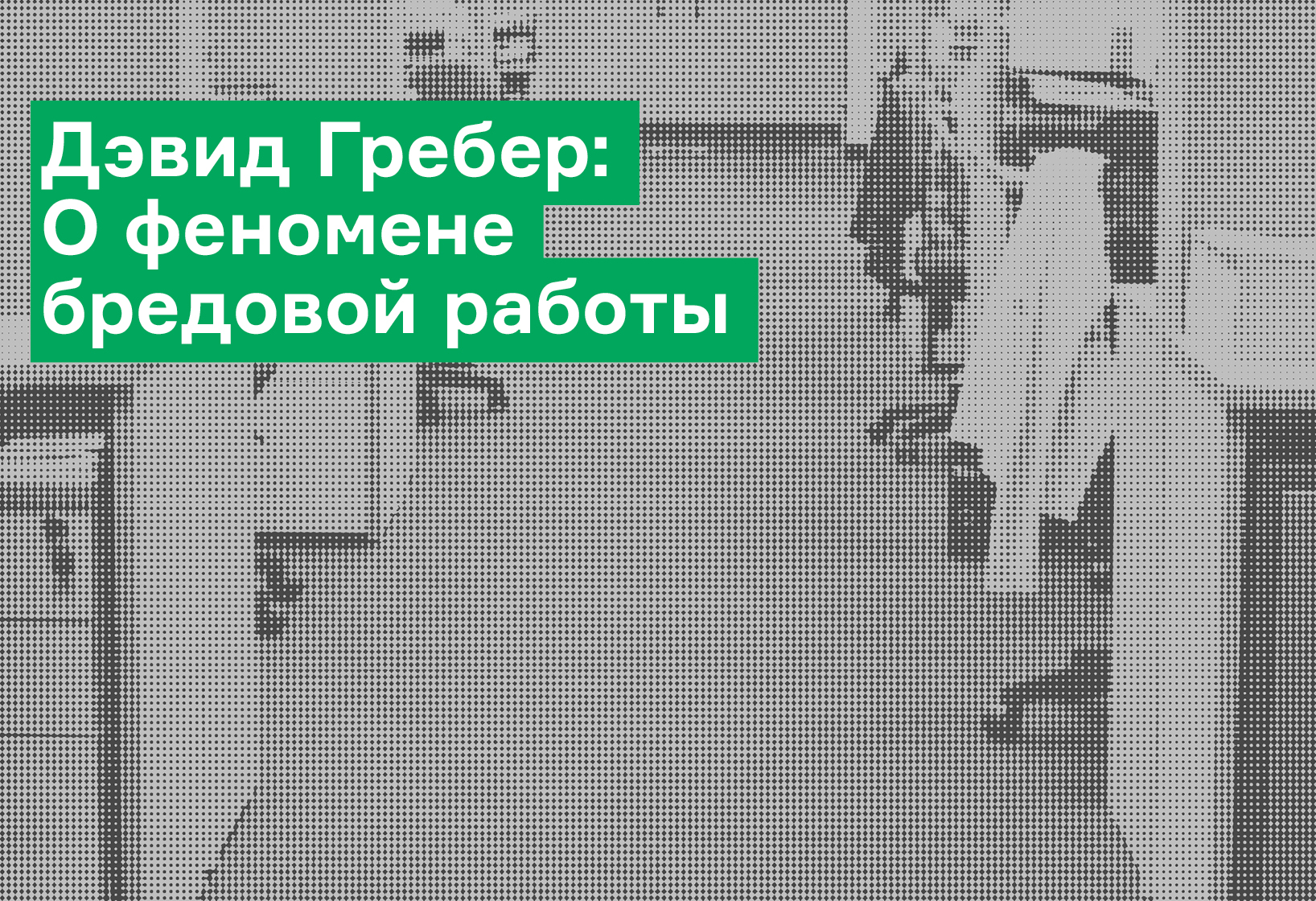
Почему все больше людей считают, что заняты бессмысленной работой? Весной 2013 года антрополог Дэвид Гребер, один из «антилидеров» движения Occupy Wall Street, задал этот вопрос в провокационном эссе под названием «О феномене бредовой работы», которое стало вирусным. Спустя семь лет люди по всему миру продолжают обсуждать ответ на этот вопрос. Публикуем знаменитую статью Гребера, которая послужила отправной точкой к написанию книги «Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда», с предисловием научного редактора русского перевода Григория Юдина (признан Минюстом иностранным агентом).
Григорий Юдин*

Предисловие научного редактора
Почему значительную часть жизни мы проводим, делая то, что нам не нравится и во что мы не верим? Почему приходится столько времени тратить на какой-то бред — на абсурдные занятия, от которых нет никакого удовольствия? Почему мы так часто не видим смысла в выполняемой работе? А если и видим, то она всё чаще сопровождается таким количеством бестолковых правил и требований, что этот смысл пропадает? Самый простой (и правильный) ответ: потому что так устроен мир. Но, собственно, почему он так устроен?
Кажется, что это самоочевидно: нам всем нужны деньги, и если их надо зарабатывать, то часто приходится делать то, чего делать не хотелось бы, ведь платят только за это. Однако это описание некоторого порядка вещей, — а в человеческих отношениях любой порядок существует потому, что имеет некое моральное основание. Иными словами, люди действуют исходя из сложившегося порядка, потому что считают его «нормальным», морально приемлемым. История и антропология учат нас, что норма человеческого взаимодействия бывает разной, — а значит, и необходимость заниматься бессмыслицей, чтобы зарабатывать деньги, должна иметь какое-то моральное объяснение.
Именно анализ морали современного общества — метод Дэвида Гребера, который позволил ему стать одним из лидеров антропологии и ведущим публичным интеллектуалом нашего времени. В своих наиболее известных исследованиях, уже знакомых российскому читателю («Долг: первые 5000 лет истории» и «Утопия правил»), Гребер берется за проблемы, которые обычно считались техническими и отводились узким специалистам: причины долговых кризисов и разрастание бюрократии. Однако технический анализ, похоже, не помогает делу, и Гребер задает моральные вопросы: почему мы вообще считаем, что долги нужно отдавать? Почему верим, что бесконечные бумаги надо заполнять? В каждом из этих случаев исследование показывает, что исторически появление этих представлений было связано с радикальным изменением общественных отношений, и в первую очередь отношений власти.
Тот же метод Гребер применяет и к бредовой работе.
Однако если у вас есть стойкое ощущение, что все рабочее время или его часть вы занимаетесь какой-то ерундой, то можете не сомневаться: наверняка так оно и есть. Ведь нет никого, кто мог бы знать это лучше вас. Такое определение позволяет Греберу выстроить книгу вокруг морального напряжения: наша жизнь устроена так, что нам самим это категорически не нравится, однако почему-то мы считаем это нормальным. О том, откуда взялась эта «нормальность», и рассказывает исследование Гребера.
Моральная организация общества определяет, в том числе, распределение финансовых ресурсов. В России многим работникам знаком распространившийся в последнее время аргумент работодателей, согласно которому настоящий профессионал не должен претендовать на прибавку к зарплате (в самом деле, ведь он работает не ради денег!), в то время как администратор этого профессионала должен получать гораздо больше (ведь он лишен удовольствия осознавать, что его труд ценят). Благодаря этой странной этике в больницах, школах, университетах и конструкторских бюро постоянно растет разрыв в оплате труда руководителей и рядовых сотрудников. Тем же профессионалам хорошо известно ощущение, что оплата их работы мало зависит от качества собственно работы и куда больше зависит от объема выполняемых бредовых заданий (заполнения бумаг, соответствия формальным показателям и так далее), так что сама работа начинает выглядеть неоплачиваемым приложением к административному бреду. Множество работников в России легко опознает моральную логику, которую вскрывает Гребер. А там, где российские реалии отклоняются от данных Гребера, его теория оказывается даже более действенной: если американские врачи с их высокой зарплатой выглядят редким исключением из тенденции бредовизации работы, то большинство докторов в России не могут похвастаться хорошей оплатой труда, зато точно знают, как бюрократия может задушить самый полезный для общества труд.
Эта книга не требует от читателя специальной подготовки в области социальных наук — она написана для всех, кому интересно, почему так много людей в последнее время ощущают, что занимаются на работе каким-то бредом. Гребер дает достаточно пространства личным историям людей с бредовой работой. Ни одна из них не может ничего доказать сама по себе, но их внимательный анализ позволяет уловить те странные и противоречивые чувства, которые мы поневоле испытываем, когда заняты бессмысленной деятельностью.
В то же время эта книга занимает важное место в современных исследованиях труда. Вопреки ожиданиям, что технологический прогресс уничтожит множество трудовых мест, Гребер показывает, что трудовые места возникают не столько из-за производственной необходимости, сколько из-за отношений власти. А значит, развитие технологий будет может приводить не к высвобождению досуга, а к увеличению объема бредовой работы — работы, в которой сами работники не видят смысла. Чтобы подступиться к этой проблеме, недостаточно технических знаний об устройстве рыночной экономики и информации о научно-технологическом прогрессе. Это моральная проблема, и ее решение зависит от понимания устройства глубинной человеческой мотивации к труду, отношений власти в современных корпорациях, а также понимания ценности труда в современном обществе. Именно этому посвящена книга Гребера.
Три переводческих решения требуют комментария. Английское слово bullshit соединяет в себе целую гамму значений, и прямого эквивалента в русском языке, с его более тонкой обсценной лексикой, не существует. Главное значение, вокруг которого строится эта книга, — «бред», «ерунда», «бессмыслица», «абсурд». Впрочем, любители метафоры дерьма тоже легко найдут ее на страницах этой книги.
Термин moral традиционно непросто переводится на русский язык. В этой книге обычно выбирается вариант «нравственный», когда речь идет об устройстве конкретного общества, а слово «моральный» используется при обсуждении универсальных моральных проблем.
Одна из ключевых оппозиций книги — value/values — на русский традиционно переводится двумя разными словами. В экономической науке говорят о «стоимости», а в культурологии — о «ценностях». В данном случае выбран перевод «ценность»/«ценности», за исключением случая устоявшегося употребления («трудовая теория стоимости»).

Предисловие
Весной 2013 года я без всякого умысла стал автором небольшой международной сенсации.
Все началось с того, что меня попросили написать эссе для нового радикального журнала под названием Strike!. Редактор журнала спросил, есть ли у меня что-нибудь провокационное, что никто другой не согласился бы опубликовать. У меня обычно имеется парочка идей для эссе как раз такого рода, так что я быстро положил одну из них на бумагу и отправил ему короткий текст под названием «О феномене бредовой работы».
Это эссе основывалось на одной догадке. Всем знакомы должности, на которых, если посмотреть со стороны, люди ничего особо не делают: HR-консультанты, координаторы коммуникаций, сотрудники PR-отделов, финансовые стратеги, корпоративные юристы или люди, которые проводят долгие часы на заседаниях комитетов, обсуждая проблему ненужных комитетов (таких очень много в академической сфере). Этот список выглядел бесконечным.
Наверняка каждый время от времени встречает людей, которые считают свою работу бессмысленной и ненужной. Что может быть более удручающим, чем необходимость вставать по утрам пять дней в неделю всю свою взрослую жизнь, чтобы выполнять задачи, которые, как ты втайне уверен, выполнять не нужно, потому что это просто трата времени и ресурсов, а может быть, они даже делают мир хуже? Разве это не наносит чудовищный моральный урон всему обществу? Однако об этом, кажется, никто не говорит. Существует множество опросов, посвященных исследованию того, счастливы ли люди на работе. Но я не слышал об опросах, в которых людей спрашивали бы, считают ли они, что существование их работы вообще хоть чем-то оправдано.
Сама возможность того, что наше общество наполнено бесполезной работой, о которой никто не хочет говорить, не выглядела совсем уж невероятной. Тема работы окружена множеством табу.
Даже тот факт, что большинство людей не любят свою работу и были бы рады любому поводу на нее не пойти, считается чем-то, о чем нельзя говорить по телевидению (во всяком случае, не в теленовостях, — пожалуй, иногда это может всплывать в документальных фильмах или в стендап-шоу).
Я испытал эти табу на себе: однажды я выступал в медиа от лица группы активистов, которая, по слухам, планировала кампанию гражданского неповиновения с целью остановить транспортную систему в Вашингтоне в рамках протеста против глобального экономического саммита. В течение нескольких дней перед этим происходило следующее: если ты выглядел как анархист, то к тебе обязательно подходил довольный госслужащий с вопросом, действительно ли ему или ей не придется в понедельник идти на работу. При этом в то же самое время бригады телевизионщиков старательно опрашивали городских служащих, которые рассказывали, какой трагедией будет, если они не смогут добраться до работы. Я не удивлюсь, если некоторые из этих чиновников были одними и теми же людьми. Они делали это, потому что знали, что нужно сказать, чтобы тебя показали по телевизору. Похоже, никто не чувствует, что может говорить то, что на самом деле думает о таких вещах, — по крайней мере, на публике.
Существовала вероятность, что моя гипотеза верна, но я не знал, так ли оно было на самом деле. Можно сказать, я написал статью в качестве своеобразного эксперимента. Мне было интересно, какой отклик она вызовет.
Вот что я написал для выпуска журнала в августе 2013 года:
О феномене бредовой работы
В 1930 году Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к концу века уровень развития технологий будет достаточным, чтобы в таких странах, как Великобритания и Соединенные Штаты Америки, установилась пятнадцатичасовая рабочая неделя. У нас есть все причины полагать, что он был прав. В технологическом плане мы вполне на это способны. И все же этого не произошло. Вместо этого технологии используются прежде всего для того, чтобы найти способы заставить нас работать еще больше. Для этого потребовалось создавать должности, которые по своей сути бессмысленны.
Огромные массы людей, особенно в Европе и Северной Америке, тратят всю свою рабочую жизнь, выполняя задачи, которые, как они втайне думают, вообще не нужно выполнять. Эта ситуация наносит глубокий нравственный вред. Это рана на нашей общей душе. И тем не менее почти никто об этом не говорит.
Почему обещанная Кейнсом утопия, наступления которой ждали еще в шестидесятых, так никогда и не осуществилась? Стандартное объяснение заключается в том, что он не смог предсказать мощный бум потребления. Выбирая между меньшим количеством рабочих часов и бóльшим количеством игрушек и развлечений, мы все выбрали последнее. Это звучит как неплохой нравственный урок, но если хотя бы на мгновение задуматься, то становится понятно, что это не может быть правдой. Да, с 1920-х годов мы наблюдаем появление множества разных новых должностей и отраслей, но лишь немногие из них связаны с изготовлением и распространением суши, айфонов и модных кроссовок.
Так что это тогда за новые должности? Недавний отчет, который описывает изменения в структуре занятости в США между 1910 и 2000 годами, дает довольно ясную картину происходящего (отмечу, что это очень похоже и на ситуацию в Великобритании). На протяжении последнего века резко снизилось число работников, занятых в качестве домашней прислуги, в промышленном производстве и в сельскохозяйственном секторе. В то же время количество «профессиональных работников, менеджеров, офисных служащих, продажников и занятых в сфере услуг» увеличилось втрое: «с одной четверти до трех четвертей общего числа занятых». Иными словами, производительный труд, как и было предсказано, в значительной степени оказался автоматизирован. (Даже если посчитать промышленных рабочих во всем мире, включая массы трудящихся в Индии и Китае, всё равно их доля в населении Земли далеко не так высока, как была раньше.)
Но вместо массового сокращения рабочих часов, которое позволило бы освободить людей на всей планете и дать им возможность посвятить себя собственным проектам, получать удовольствие от жизни, воплощать в жизнь свои мечты и идеи, мы видим раздувание не столько «сферы услуг», сколько административного сектора — вплоть до создания целых отраслей, вроде финансовых услуг или телефонного маркетинга, а также небывалое расширение секторов вроде корпоративного права, управления наукой и здравоохранением, HR и связей с общественностью. И в этих цифрах еще не учитываются те, чья работа заключается в административной и технической поддержке, в охране всех этих отраслей. А вдобавок еще и все те, кто занят во вспомогательных отраслях (мойщики собак, ночные доставщики пиццы), которые существуют только потому, что все остальные тратят на всю эту работу так много своего времени.
Складывается ощущение, будто кто-то придумывает всю эту бессмысленную работу, просто чтобы чем-то всех нас занять. И в этом-то и состоит загадка. Потому что вроде бы этого как раз не должно происходить при капитализме. Конечно, в старых неэффективных социалистических государствах вроде Советского Союза, где труд считался одновременно правом и священным долгом, государство придумывало столько рабочих мест, сколько было нужно. (Поэтому в советском универсаме требовалось три продавца, чтобы продать один кусок мяса.) Но, разумеется, как раз эти проблемы должна решить рыночная конкуренция. По крайней мере, согласно экономической теории, последнее, что будет делать фирма, стремящаяся к прибыли – это раздавать деньги работникам, которые ей не нужны. И все же именно это и происходит.
Корпорации проводят безжалостные сокращения, но оптимизация и повышение норм выработки неизменно приходятся на тех людей, которые действительно что-то делают, перемещают, чинят или поддерживают в порядке. Благодаря какой-то странной алхимии, которую никто не может объяснить, количество профессиональных бумагомарак продолжает непреклонно расти. При этом всё больше и больше работников выясняют (и тут не так много отличий от их советских коллег), что они работают сорок или даже пятьдесят часов в неделю на бумаге, но фактическим трудом заняты лишь пятнадцать часов, как и предсказывал Кейнс. Оставшееся время тратится на организацию или посещение мотивационных семинаров, обновление аккаунтов на Facebook или скачивание сериалов.
Ответ определенно не является экономическим — он носит моральный и политический характер. Правящий класс пришел к выводу, что счастливое и продуктивное население с обилием свободного времени представляет смертельную опасность. (Вспомните, что начало происходить в шестидесятые годы, когда только начали приближаться к такому положению дел.) С другой стороны, им невероятно удобно представление, согласно которому работа обладает моральной ценностью сама по себе, и каждый, кто не согласен подчинить строгой рабочей дисциплине бóльшую часть своего активного времени, ничего не заслуживает в жизни.
Однажды я размышлял о том, как бесконечно разрастаются административные обязанности в британских университетах, и придумал, как может выглядеть ад.
Скажем, их наняли, потому что они были отличными столярами, а затем они выяснили, что им придется тратить основную часть своего времени на жарку рыбы. Кроме того, эти задачи, по сути, даже не нуждаются в выполнении — ведь рыбы нужно жарить совсем немного. Несмотря на это, все они почему-то начинают негодовать, если кто-то из их коллег вдруг находит возможность проводить больше времени за изготовлением мебели и пренебрегает причитающейся ему частью ответственности по приготовлению рыбы. В итоге накапливается огромная куча бесполезной, плохо приготовленной рыбы, которая валяется по всей мастерской, и это единственное, чем все заняты.
Я думаю, на самом деле это довольно точное описание того, куда с моральной точки зрения движется наша экономика. Да, я понимаю, что любой подобный аргумент немедленно наталкивается на возражения: «Кто ты такой, чтобы решать, какая работа на самом деле „нужна“? Что вообще значит „нужна“? Ты профессор антропологии — зачем это „нужно“?» (и разумеется, для многих читателей таблоидов само существование моей профессии — идеальный пример бесполезных общественных расходов.) И в определенном отношении это несомненно так. Не может быть объективных критериев общественной ценности.
Не так давно я встретился со старым школьным другом, с которым не виделся с пятнадцати лет. Я был удивлен, когда обнаружил, что за это время он сначала побывал поэтом, а потом фронтменом в инди-группе. Я слышал некоторые его песни по радио, не имея представления, что это мой знакомый. Он явно был замечательным, очень оригинальным человеком, а его работа, несомненно, сделала жизнь многих людей по всему миру лучше и ярче. Но после пары неудачных альбомов он потерял контракт с лейблом, оставшись с долгами и новорожденной дочерью на руках. В конце концов, он, по его собственному выражению, «сделал стандартный выбор потерявшегося человека: юридический факультет». Теперь он корпоративный юрист в известной фирме в Нью-Йорке. Он сам первым признал, что его работа абсолютно бессмысленна и ничего не дает миру, а также, по его собственным словам, на самом деле не должна существовать.
Здесь можно задать много вопросов. Начнем с такого: что говорит о нашем обществе тот факт, что оно генерирует очень ограниченный спрос на талантливых поэтов-музыкантов, но, кажется, бесконечный спрос на специалистов в области корпоративного права? (Ответ: если один процент населения контролирует бóльшую часть доступного богатства, тогда то, что мы называем рынком, отражает то, что считают полезным и важным именно они, а не кто-либо еще). Но более того: эта история показывает, что большинство людей, занятых бессмысленной работой, в конечном счете сами это осознают. На самом деле я думаю, что никогда не встречал корпоративного юриста, который не считал бы свою работу бредовой. То же самое касается почти всех указанных выше новых отраслей. Существует целый класс хорошо оплачиваемых профессионалов, которые, если ты встретишь их на вечеринке и расскажешь, что сам занимаешься чем-то интересным (например, антропологией), не станут обсуждать с тобой свою работу даже в самых общих словах. После нескольких бокалов эти люди разразятся тирадами о том, какой бессмысленной и тупой работой они на самом деле заняты. Здесь имеет место глубоко укоренившееся психологическое насилие.
Однако наше общество по-своему гениально: те, кто им управляет, придумали способ сделать так, чтобы ярость была направлена как раз на тех, кому удается найти себе осмысленное занятие — как в моем примере с жаркой рыбы. Например, в нашем обществе существует общее правило, что чем больше очевидной пользы работа приносит другим людям, тем меньше денег платится за ее выполнение. Опять же, объективный критерий найти довольно сложно, но есть простой способ почувствовать это — достаточно задать вопрос: что произойдет, если вся эта категория людей просто исчезнет? Вы можете говорить что угодно о медсестрах, мусорщиках или механиках , но очевидно, что если они растворятся в облаке дыма, последствия будут немедленными и катастрофическими. Мир без учителей или докеров быстро столкнется с неприятностями, и даже мир без научных фантастов или ска-музыкантов будет намного беднее. Не совсем понятно, насколько человечество пострадает от аналогичного исчезновения всяческих гендиректоров инвестиционных компаний, лоббистов, пиар-исследователей, специалистов по страховым расчетам, агентов по телефонным продажам, судебных приставов или юридических консультантов. (Многие подозревают, что он заметно улучшится.) И всё же это правило на удивление хорошо действует, если не считать нескольких хорошо известных исключений (вроде врачей).
Однако еще более противоестественно другое: обычно считается, что так оно и должно быть. В этом состоит один из секретов правого популизма. Например, это можно заметить, когда таблоиды негодуют на работников подземки за то, что те парализовали Лондон во время переговоров об условиях найма. Уже одно то, что работники подземки способны парализовать Лондон, показывает, что их работа на самом деле необходима, — но, похоже, именно это и раздражает людей. Это еще более заметно в Соединенных Штатах, где республиканцы достигли заметных успехов, разжигая ненависть к школьным учителям и рабочим автозаводов (а вовсе не к администраторам школ или управленцам автопрома, которые на самом деле и создают проблемы) за их якобы раздутые зарплаты и льготы. Как если бы они говорили: «Но вы можете учить детей! Или собирать машины! Вам досталась настоящая работа! И у вас еще хватает наглости рассчитывать вдобавок на пенсию и здравоохранение как у среднего класса?»
Если бы потребовалось разработать режим работы, идеально подходящий для поддержания власти финансового капитала, трудно представить себе, как можно было бы сделать это еще лучше. Работники, занятые настоящим производительным трудом, подвергаются беспощадному давлению и эксплуатации. Остальные делятся на запуганную страту всеми осуждаемых безработных и более крупную страту, которой, по сути, платят за то, что они ничего не делают. Эти последние занимают должности (менеджеров, администраторов и т.д.), заставляющие их отождествлять себя с точкой зрения и ощущениями правящего класса — в особенности с его финансовыми представителями – и одновременно кипеть негодованием в отношении тех, чья работа имеет очевидную и безусловную общественную ценность. Понятное дело, никто специально не создавал эту систему именно так. Она формировалась почти сто лет методом проб и ошибок. Но это единственное объяснение, почему, несмотря на имеющиеся технологические возможности, мы все не работаем по три-четыре часа в день.
Самое смешное, что две недели после публикации статьи мы с подругой провели наедине с кучей книг и друг с другом в хижине в квебекской деревне. Мы специально нашли место, где не было беспроводного интернета. Я оказался в странном положении, потому что последствия публикации мог наблюдать только на экране мобильного телефона. Практически сразу эссе стало распространяться со скоростью вируса. За несколько недель оно было переведено не меньше чем на дюжину языков, включая немецкий, норвежский, шведский, французский, чешский, румынский, русский, турецкий, латышский, польский, греческий, эстонский, каталонский и корейский. Оно также было перепечатано в газетах от Швейцарии до Австралии. Сама страничка журнала Strike! получила более миллиона просмотров и несколько раз падала от слишком большого трафика. Пошло обсуждение в блогах. Разделы с комментариями заполнялись признаниями от белых воротничков; люди писали мне и просили совета или рассказывали, что я вдохновил их бросить свою работу, чтобы найти что-то более осмысленное. Вот один из восторженных ответов (у меня их собраны сотни) из раздела комментариев на сайте австралийской газеты Canberra Times:
Вау! Прямо в точку! Я корпоративный юрист (точнее, адвокат по налоговым спорам). Я ничего не привношу в этот мир и всё время чувствую полное отчаяние. Мне не нравится, что у людей есть наглость заявлять: «А зачем ты тогда этим занимаешься?» — потому что очевидно, что всё не так просто. Так случилось, что прямо сейчас это единственный способ услужить одному проценту, чтобы в качестве вознаграждения получить дом в Сиднее, где я смогу растить своих будущих детей… Благодаря технологиям мы, вероятно, производим сейчас за два дня столько же, сколько раньше производили за пять. Но из-за жадности, из-за того, что мы всё время, как пчелы, что-то производим, мы до сих пор должны пахать как рабы и ставить чужую прибыль впереди собственных нереализованных надежд. Можно верить в божественный промысел или в теорию эволюции, но в любом случае люди не были созданы для работы, — по мне, так это просто жадность, которую разгоняют завышенные цены на предметы первой необходимости.
В какой-то момент я получил сообщение от анонимного фаната, который сообщил, что он вместе со спонтанно возникшей группой рассылает мой текст работникам сферы финансовых услуг. Только за один тот день он получил пять писем с этим эссе (несомненное свидетельство того, что в финансовом секторе многим нечем заняться). Всё это не позволяло ответить на вопрос, сколько людей на самом деле думают о своей работе подобным образом. Ведь люди могли делиться текстом, просто чтобы сделать вежливый намек другим. Но спустя небольшое время всё же появилась соответствующая статистика.
Пятого января 2015 года, через год с небольшим после выхода статьи, в первый понедельник нового года — то есть в тот день, когда большинство жителей Лондона возвращались на работу после зимних каникул, — кто-то содрал сотни рекламных объявлений в лондонском метрополитене и заменил их серией партизанских плакатов с цитатами из того самого эссе. Вот цитаты, которые они выбрали:
Складывается ощущение, будто кто-то придумывает всю эту бессмысленную работу, просто чтобы чем-то всех нас занять.
Эта ситуация наносит глубокий нравственный вред. Это рана на нашей общей душе. И тем не менее почти никто об этом не говорит.
Как вообще можно говорить о достойном труде, если мы втайне чувствуем, что наша работа не должна существовать?
Ответом на серию постеров стала еще одна вспышка дискуссий в медиа (я ненадолго появился на Russia Today), по итогам которых опросное агентство YouGov взялось проверить гипотезу и провело опрос среди британцев, используя фразы, напрямую позаимствованные из эссе, например: «Приносит ли ваша работа какую-нибудь пользу миру?» Неожиданно более трети респондентов — тридцать семь процентов — ответили «нет» (пятьдесят процентов сказали «да», а тринадцать затруднились с ответом).
Это было почти вдвое больше, чем я ожидал: я думал, что доля бредовой работы составляет около двадцати процентов. Более того, чуть позже опрос в Голландии дал почти такие же результаты (на самом деле даже чуть выше): сорок процентов работников заявили, что существование их работы ничем не оправдано.
То есть гипотеза не просто подтвердилась реакцией публики — она также получила исчерпывающее статистическое подтверждение.
***
В таком случае понятно, что мы имеем дело с важным социальным феноменом, который практически не получил комплексного освещения. Одна только возможность поговорить об этом стала для многих большим облегчением. Было очевидно, что требуется более глубокое исследование.
Эта книга более систематична, чем исходное эссе. Статья 2013 года предназначалась для журнала о революционной политике, и там я сделал акцент на политической стороне проблемы. В принципе, очерк был только одним из аргументов, над которыми я в то время работал. Мой тезис заключается в том, что неолиберальная идеология (идеология «свободного рынка»), которая доминировала на планете со времен Тэтчер и Рейгана, на самом деле была полной противоположностью тому, что она сама о себе заявляла. В действительности это был политический проект под экономической маской.
Я пришел к этому заключению, потому что оно казалось единственным способом объяснить, как на самом деле ведут себя власть имущие. В то время как неолиберальная риторика всегда подчеркивала, что необходимо высвободить волшебные силы рынка, а экономическая эффективность должна быть превыше всех прочих ценностей, общие последствия политики свободного рынка заключались в том, что темпы экономического роста снизились практически везде, кроме Индии и Китая, остановилось научное и технологическое развитие, а в самых богатых странах молодое поколение впервые за несколько столетий ожидает, что его жизнь будет менее благополучной, чем у поколения родителей. Но на эти последствия сторонники рыночной идеологии всегда отвечают призывами дать еще более сильную дозу того же лекарства, а политики послушно следуют этим требованиям. Это меня всегда поражало. Если бы частная компания наняла консультанта для разработки бизнес-плана и план привел к резкому падению прибыли, то консультанта бы уволили. Ну или, по меньшей мере, его попросили бы придумать другой план. Похоже, с рыночными реформами этого никогда не происходило. Чем более провальными они были, тем сильнее их продвигали. Единственный логичный вывод — за этим проектом на самом деле стояли не экономические соображения.
Но что же тогда? Мне казалось, что ответ следует искать в том, как мыслит политический класс. Почти все, кто принимает ключевые решения, посещали колледж в шестидесятые, когда кампусы находились в центре политического брожения. Эти люди очень сильно хотели, чтобы такого больше никогда не произошло. В результате, хотя их и может беспокоить падение экономических показателей, они вполне довольны тем, что сочетание ряда факторов, таких как глобализация, уничтожение профсоюзов, создание уязвимой и перегруженной рабочей силы, — одновременно с агрессивным заигрыванием с шестидесятническими призывами к гедонистическому освобождению личности (то, что стали называть «либерализм как стиль жизни и консерватизм как налоговая политика») — привело к концентрации всё большего богатства и власти в руках богатых и практически полностью уничтожило основу для организованного противостояния их власти. Это, возможно, не очень хорошо сработало с экономической точки зрения, но в политическом плане это сработало просто идеально. По крайней мере, у них нет никаких причин отказываться от такой политики. В том очерке я всего лишь развил эту идею: когда мы обнаруживаем, что какие-то действия совершаются во имя экономической эффективности, но при этом выглядят абсолютно нерациональными с экономической точки зрения (например, если кто-то платит людям приличные деньги за то, что они ничего не делают), то нужно начать задавать вопрос, который задавали древние римляне: Qui bono? — «Кому это выгодно?» — и почему.
Это не конспирологический подход, а наоборот — антиконспирологический. Я задавался вопросом о том, почему ничего не предпринимается. Экономические тенденции могут иметь разные причины, но если они приводят к проблемам для людей с властью и деньгами, то эти люди станут давить на институты с требованием вмешаться и что-то с этим сделать. Именно поэтому после финансового кризиса 2008–2009 годов крупные инвестиционные банки были спасены, в отличие от простых граждан с ипотекой.
***
В этой книге я хочу сделать намного больше. Я считаю, что феномен бредовой занятости может пролить свет на более глубокие социальные проблемы. Нам нужно спросить себя не просто о том, как получилось, что такая значительная часть нашей рабочей силы оказывается занята задачами, которые работники сами признают бессмысленными, но также о том, почему такое большое количество людей верит, что это состояние вещей является нормальным, неизбежным или даже желательным. И вот что еще более странно. Эти люди придерживаются подобных мнений на абстрактном уровне и даже считают абсолютно нормальным, что те, кто занимается бессмысленной работой, должны получать больше денег, уважения и признания, чем те, кто делает что-то, что сами они считают полезным. Не впадают ли они тогда сами в депрессию и отчаяние, если занимают должности, где им платят за то, что они ничего не делают или не делают ничего, что считали бы полезным для других людей? Здесь явно переплетены взаимно противоречащие идеи и мотивы. Одна из задач этой книги — начать с ними разбираться. Для этого нужно задать конкретные вопросы, например: «Откуда на самом деле берется бредовая работа?» Но также придется задаться и более глубокими историческими вопросами, к примеру: «Когда и как мы стали верить, что творчество должно приносить страдание?» Или «Как мы пришли к идее, что можно продавать свое время?» И наконец, нужно будет задаться фундаментальными вопросами о природе человека.
Эта книга также преследует политическую цель.
Я бы хотел, чтобы эта книга стала стрелой, нацеленной в самое сердце нашей цивилизации. Есть что-то глубоко неправильное в том, что мы с собой сделали. Мы стали цивилизацией, основанной на работе, — даже не на «производительной работе», а просто на работе, смысл и цель которой заключаются в ней самой.
Мы стали полагать, что мужчины и женщины, которые не работают больше, чем хотят, на работе, которая им не особенно нравится, — это плохие люди, недостойные любви, заботы и поддержки со стороны сообщества. Мы как будто дали коллективное согласие на свое собственное порабощение. Когда мы осознаём, что половину времени занимаемся абсолютно бессмысленной или даже контрпродуктивной деятельностью (причем обычно по приказу людей, которые нам не нравятся), то наша основная политическая реакция состоит в том, что нас начинает терзать злоба из-за того, что кто-то, возможно, избежал этой ловушки. В результате ненависть, обида и подозрение стали тем клеем, на котором держится общество. Это катастрофическое положение дел. Я хочу, чтобы это закончилось.
* Григорий Юдин признан Минюстом иностранным агентом.