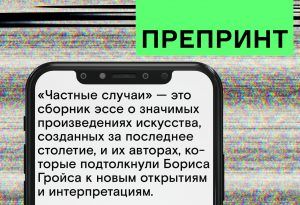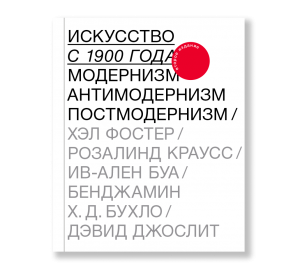Наталия Мазур — о творческой судьбе Лео Стайнберга

В нашем издательстве вышла книга «Другие критерии. Лицом к лицу с искусством ХХ века», написанная одним из самых значительных искусствоведов второй половины ХХ века Лео Стайнбергом. Публикуем вступительную статью Наталии Мазур, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, — о том, как сложилась творческая судьба Лео Стайнберга.
Когда в январе 1945 года Лео Стайнберг впервые ступил на американскую землю, во временном удостоверении личности, выданном ему британскими властями, было написано «русский». Для семьи Стайнбергов, а вернее, Штейнбергов, США стали четвертой страной, в которую им пришлось перебраться за четверть века, и первой, согласившейся дать им гражданство. Полноценный паспорт, позволявший свободно перемещаться по миру, Лео Стайнберг получил в тридцать лет, став в 1950 году гражданином США.
Он родился в Москве 9 июля 1920 года и был назван Львом Соломоном. Его отец Исаак Нахман Штейнберг (1888–1957) и мать Анна Эссельсон (1890–1954) принадлежали к тому же необычному поколению русских евреев, что и Мандельштам, описавший его в Шуме времени. Воспитанные в почтении к иудаизму, получившие хорошее европейское образование, они всей душой приняли русскую культуру. Стайнберг с мягкой иронией говорил о свойственном его семье «типично русском отношении» к мировой литературе: «они признавали, что Гомер, Данте и Шекспир были людьми небесталанными, но не соглашались ставить их в один ряд с Пушкиным, Гоголем, Толстым и Достоевским». Даже в эмиграции в Германии старшие Штейнберги продолжали говорить между собой по-русски и только с детьми переходили на прекрасно известный им немецкий.
В русской культуре это поколение выделило и впитало нравственный императив, особенно ярко проявившийся в народничестве и толстовстве. Исаак Штейнберг был родом из Двинска (Динабурга, Даугавпилса или «Города Эн» Леонида Добычина). Благодаря блестящим способностям и гимназической золотой медали он попал в небольшое число евреев, допущенных к обучению в Московском университете, поступил на юридический факультет и увлекся идеями социалистов-революционеров. Его политическая активность быстро
закончилась арестом и приговором к трехлетней ссылке в Сибирь. Родственникам удалось выхлопотать взамен высылку на четыре года за границу. Исаак вместе с младшим братом Ароном, будущим философом, отправился учиться в Гейдельберг. Вернувшись в Россию доктором права, он был избран в Государственную думу, спасал от голода и тифа евреев, безжалостно выселенных из прифронтовых районов в начале Первой мировой войны (помогавшая ему молодая жена сама чуть не умерла от тифа). После Октябрьской революции во время недолгого союза между большевиками и левыми эсерами Исаак Штейнберг полгода занимал пост наркома юстиции. Ему чудом удалось избежать репрессий, настигших других лидеров левых эсеров, и в 1923 году вместе с семьей уехать в Германию. Десять лет спустя, спасаясь теперь уже от нацистов, Штейнберги перебрались в Англию. К тому времени Исаак и Арон стали активными участниками еврейского движения. Стайнберг считал, что его отец был неисправимым идеалистом во всех своих начинаниях, ни одно из которых не увенчалось успехом — будь то борьба с тюремной системой в большевистской России или попытка основать еврейские поселения в Австралии, где он застрял на всю Вторую мировую войну, оставив семью в Лондоне.
Стайнберг вспоминал об отце с иронией, которая подпитывалась неизбытой юношеской обидой на то, что тот не понимал его любви к искусству, считая ее непозволительной роскошью в мире, где так много социальной несправедливости. Впрочем, несмотря на все разногласия с отцом, Стайнберг признавал, что тот оказал определяющее влияние на его отношение к искусству:
Прежде чем заняться художественной критикой, Стайнберг попробовал себя в других профессиях (эти попытки он называл «фальстартами»). В юности он хотел стать художником и в 1936 году поступил в Школу искусств Слейда при университете Лондона (Slade School of Art). Он вспоминал, что «в 1930-х годах эта школа была провинциальным болотом. Мы все (или по крайней мере я) пытались рисовать, как Энгр, как если бы Энгр был последним словом в живописи. Я восхищался Дега, но это был уже модернизм. Я очень рано увлекся Пикассо, но Пикассо, Матисс, кубизм — тогда всё это считалось политикой». Возможностей для знакомства с современным искусством в Англии 1930–1940-х годов было немного; в Германии двенадцатилетним мальчиком Стайнберг знал имена главных немецких художников-экспрессионистов, написал свою первую критическую статью в детскую стенгазету о творчестве Кете Кольвиц и даже вручил ее самой художнице, знакомой с его родителями по социалистическому движению. После отъезда из Германии Стайнберг вновь увидел работы
немецких экспрессионистов только в Нью-Йорке в 1945 году. В лондонской Галерее Тейт, главном английском музее современного искусства, в 1930–1940-х годах покупали и выставляли поздних английских импрессионистов, тогда как Пикассо, Матисс, Бранкузи и Мондриан считались «слишком легковесными». В итоге, приехав в Америку, Стайнберг понял, что только что полученное им художественное образование безнадежно устарело, и отказался от планов стать художником. Однако его навык рисовальщика был так хорош, что в 1960-х он преподавал параллельно с историей искусства рисунок с натуры. А для его искусствоведческих работ взгляд профессионального художника оказался ценным подспорьем: Стайнберг рассказывал, что, изучая Тайную вечерю Леонардо и Страшный суд Микеланджело, он зарисовывал по многу раз каждую фигуру, чтобы лучше понять замысел художника. Профессиональное
владение теорией и практикой рисунка отразилось во многих статьях, вошедших в «Другие критерии».

Следующим «фальстартом» стали надежды на литературную карьеру. Литература была семейной страстью Штейнбергов: отец считал, что Этика Спинозы прекраснее любой оперы, дядя посвятил свою жизнь изучению Достоевского, а тетушка Эстер (сестра матери) во всех скитаниях сберегла томики Бодлера и Верлена, купленные в юности в Париже (после ее смерти их бережно хранил сам Лео). Первым литературным языком Стайнберга был немецкий; он предпочитал читать на нем и в Англии, язык и культура которой вначале казались
ему глубоко чуждыми. Его отношение к Англии переменилось после того, как однажды, возвращаясь из библиотеки на велосипеде с ранцем, полным немецких переводов Диккенса, он рассыпал книги по мостовой — под колеса ехавшего следом автобуса. Мальчик был потрясен, увидев, как автобус бережно объехал книги, не повредив ни одной, и решил, что страна, в которой так обращаются с книгами, заслуживает уважения (эту историю в его воспоминаниях оттеняет рассказ о том, как 10 мая 1933 года дядя Арон повел его смотреть на нацистские костры из книг). Стайнберг влюбился в английскую литературу, забросив ради нее остальные языки (кроме русского и немецкого он к тому времени знал иврит и идиш). Он заучивал наизусть десятки сонетов Шекспира, первые песни Потерянного рая Мильтона и целые страницы прозы Стерна и Де Квинси, а потом по совету дяди Арона прочел Улисса и Поминки по Финнегану Джойса и решил, что так и только так нужно писать по-английски. Он оттачивал свой стиль, добиваясь совершенства интонации в прозе, как если бы это были стихи.
Читателей «Других критериев» ждет не только интеллектуальное, но и литературное удовольствие, нисколько не ослабевшее в русском переводе. Но даже блестящее знание английского языка и литературы не помогло Стайнбергу прижиться в Англии, где он продолжал ощущать себя чужаком. В Америке таких проблем у него не было, и хотя первые годы он жил в бедности, перебиваясь литературной поденщиной и переводами с идиша, он немедленно начал ходить в музеи — Метрополитен, МoМА — и постепенно окунулся в художественную жизнь Нью-Йорка, интернациональную и открытую как никогда. Многие из работавших тогда в Нью-Йорке художников были эмигрантами из Европы, знавшими, как и Стайнберг, вкус дантовского «хлеба изгнанья», а у некоторых американцев был за плечами военный опыт. Стайнберг подружился с художником Полом Браком, который познакомил его с Францем Клайном и Марком Ротко.
Судьба Ротко была похожа на судьбу Исаака Штейнберга: сын ортодоксального еврея-марксиста из Двинска и сам убежденный «левак», говоривший на идише и на русском, Ротко был носителем близкого Стайнбергу представления о социальной роли искусства; Лео с восхищением вспоминал, как Ротко отказался от очень выгодного заказа для дорогого ресторана в гостинице «Four Seasons», решив, что это неподходящее место для его картин.
Американское послевоенное искусство было насыщено социальным напряжением и стремлением изменить мир к лучшему, понятными и близкими Стайнбергу. Трудность, однако, заключалась в том, что в 1940–1950-х годах в американской системе ценностей искусство всё еще стояло очень невысоко. Пуританская мораль и рационалистическое мышление, лежащие в основе американского этоса, запрещали наслаждаться искусством и мешали воспринимать его всерьез. В статье «Другие критерии» Стайнберг цитирует заметки об искусстве, напечатанные в экономическом журнале Fortune в 1946 и 1955 годах.
В первой из них 57-я улица Нью-Йорка названа «одним из самых жуликоватых и коварных базаров в мире». Во второй мир искусства
описан как рынок инвестиций, аналогичный фондовой бирже. Движение от экзотического базара к фондовому рынку указывало на постепенное принятие искусства, возможное при одном условии: искусство должно подчиниться американской системе ценностей, а не наоборот.
Из этого же глубинного недоверия к «просто искусству» исходили и сами американские художники. По словам Стайнберга,
искусства. <…> „Выход за рамки искусства“ не только убеждает отдельных художников в том, что их работа чего-то стоит, но и является условием существенной новизны.
«Не искусство, а действие», «не искусство, а работа», «не искусство, а хеппенинг»… — новаторская природа очередного художественного
движения доказывалась все новыми оправданиями для существования искусства, неизменно лежащими за пределами эстетики. Самый влиятельный американский критик середины ХХ века Клемент Гринберг не хотел принимать в расчет эту специфическую черту американского этоса, считая достаточным оправданием для искусства авангарда его разрыв с буржуазной моралью. Он настаивал на том, что лучшее современное искусство — это абстрактное искусство, и чем меньше в нем содержания, тем в большей степени оно является искусством. Такая позиция не помогала американским художникам преодолеть разрыв с обществом. Возможно, понимание этой опасности
и подтолкнуло Стайнберга выступить с двумя критическими статьями, в которых он защищал право искусства на содержание. Первую из них — «Два острия художественной критики» (1952) — он впоследствии считал невыносимо претенциозной и даже отказывался включать ее в список своих опубликованных работ. Но если не раздражаться на безапелляционность, простительную дебютанту, то мы заметим, что в этой статье постулирован тот подход к совокупному анализу формы и содержания произведения искусства, которому Стайнберг будет
следовать и в критике, и в науке. Он описал его при помощи диаграммы: «Обозначим как круг те силы, которые мы принимаем за чистую жизнеспособную форму. Представим себе теснящиеся вокруг него и стремящиеся пересечься с ним круги. Пусть эти пересекающиеся друг с другом круги одновременно обозначают религиозные убеждения, пропаганду, визуальный и вербальный репортаж, проекцию символов, изгнание бесов, исповедь, желание показать себя и прочие внеэстетические импульсы, которыми питается любое художественное начинание». Ошибка формалистской критики, по мнению Стайнберга, заключалась в том, что она оставалась в пределах
внутреннего круга, в то время как задачей интерпретатора искусства является поиск связей между художественной формой, рожденной творческой силой, и питающими ее импульсами.
Второй статьи под названием «Глаз как часть разума» (1952)
Стайнберг тоже немного стеснялся, но всё же включил ее в «Другие критерии», «засунув поглубже, чтобы не привлекала внимания». Много лет спустя он лаконично заметил, что в этой статье хотел доказать, что «абстрактное искусство не так абстрактно, как принято думать, а классическое искусство намного более абстрактно, чем мог бы подумать Клемент Гринберг». Хотя имя Гринберга в ранних статьях Стайнберга упомянуто не было, тот понял, что на его авторитет покушаются, и в статье «Абстракция и репрезентация» (1954) объявил Стайнбергу и другим молодым критикам, что его интересует исключительно вопрос о том, хорошо или плохо рассматриваемое им искусство, а «так уж получилось, что в наши дни лучшее искусство всё больше и больше тяготеет к абстракции».
Стайнберг ответил на это самоуверенное заявление без малого двадцать лет спустя — в статье о Родене в «Других критериях»: «Мне представляется, что формализм редко может служить мерилом качества, если вообще может. По крайней мере, в исторической перспективе он был не столько средством обособления эстетического фактора от всех стилей и проявлений искусства, сколько вкусовым предпочтением одних стилей другим. Формалистская критика почти всегда увлеченно и страстно отстаивает конкретную группу работ». В середине 1950-х Стайнбергу не хватало авторитета для такого ответа
тогдашнему законодателю американской критики (а заодно и арт-рынка). Он перешел от спора об общих принципах к полемике о конкретных художниках, благо для этого у него появилась постоянная площадка — журнал Arts Magazine, главный редактор которого Хилтон Креймер предложил ему писать ежемесячные обзоры самых ярких выставок Нью-Йорка. Стайнберг с блеском применил свой метод в первой статье о «Женщинах» де Кунинга, опубликованной в ноябре 1955 года. Ему удалось объяснить возмущенной или обескураженной публике смысл этих картин — задача, которой пренебрегли критики формальной школы, предпочитавшие рассуждать о том, как в картинах де Кунинга движение к абстракции примиряется с остатками фигуративности. Стайнберг увидел в этих огромных и, на первый взгляд, безобразно-нелепых фигурах аналог «Венер» палеолита — «первое появление женщины, не окутанное сетями страха и желания <…> Как Виллендорфская или Ментонская Венера, она [Женщина де Кунинга] вся состоит из примитивного тепла и изобилия; как и они, она стоит огромная, нелепая и готовая к совокуплению <…> Она — текучая среда, осязательный образ, данный новорожденному, память о податливой плоти любовницы, суккуб, тяготящий блуждающее сознание сна <…> она — сила, слишком всеобъемлющая и непосредственная, чтобы ее можно было наблюдать и отображать
посредством контролируемого навыка». В полуабстрактных формах де Кунинга Стайнберг распознал множество импульсов (на диаграмме это были бы круги, пересекающиеся друг с другом и с центральным кругом формы), выразителем, а не исключительным носителем которых стал художник. Стайнберг упомянул только одну деталь биографии де Кунинга — его голландское происхождение, но она позволила вписать художника в традицию североевропейской живописи, не боявшейся
изображать человеческое тело таким, какое оно есть.
Однако применить этот метод к герою его следующей статьи оказалось не так уж просто. Во-первых, картины Джексона Поллока были чистой абстракцией (не зря же Гринберг считал его самым значительным художником своего поколения), а, во-вторых, ценители его таланта слишком уж настаивали на том, что личное знакомство с Поллоком является необходимым условием понимания его творчества. Иными
словами, главный смысл картинам Поллока придавала его личность. Для Стайнберга это был крайне тревожный симптом. Выдающийся художник (а творческая мощь Поллока поразила Стайнберга) не стремился выразить страхи и чаяния своего времени и не рассчитывал на понимание публики; он писал для других художников и узкой кучки ценителей. Стайнберг скрыл свои опасения за остроумным сравнением современного художника со средневековым алхимиком, о котором даже его покровители не могли толком сказать, чем он занят. Но за этой шуткой стояла нешуточная тревога о судьбе современного искусства и его зрителей.
В следующих статьях Стайнберг отступил на шаг назад, словно для того, чтобы еще раз проверить границы применимости метода на более благодарном материале, и написал несколько статей о европейском искусстве модернизма, которое покупали и выставляли МоМА и галереи Нью-Йорка. Он уточнил свое отношение к биографическому подходу в статье о выставке Жюля Паскина (декабрь 1955), который перенес модель романтического жизнестроительства в эпоху декаданса. На примере Паскина было особенно хорошо заметно, как
знание биографии художника (а не личное знакомство с ним)
помогает анализу формы.
В статье о «Кувшинках» Клода Моне (февраль 1956) Стайнберг размышлял о том, как художник, чье имя прочнее всего ассоциировалось с рождением импрессионизма, в начале ХХ века предвосхитил идеи абстрактного искусства, создавая пространственные иллюзии, которые заставляют зрителя позабыть о силе тяжести и свободно парить в пространстве. Из размышлений о «Кувшинках», по-видимому, родилась его концепция «планшетной живописи» Роберта Раушенберга и других художников-абстракционистов 1950-х годов, отказавшихся от традиционного соотношения между предполагаемым положением зрителя, плоскости картины и тем, что она репрезентирует, будь то кровать или кусок дерна.
Стайнберг отстаивал преемственность между модернистским искусством начала ХХ века и абстрактным искусством. Он находил элементы абстракции в картинах Моне и скульптурах Родена, с одной стороны, и признаки антропоморфной формы и гуманистического содержания в абстракционизме — с другой. В нефигуративных скульптурах каталонца Хулио Гонсалеса (март 1956 года) он увидел выражение красоты человеческого движения, а в геометрических
абстракциях Фрица Гларнера (июнь 1956) — «кинестетическое
восприятие городской жизни, двигательный образ суеты в час пик». Он использовал все свое литературное мастерство, чтобы описать ощущения от работы с цветом в абстрактных картинах Филипа Гастона (июнь 1956). Он снова и снова задавался вопросом, который, как он считал, «следует адресовать любой абстрактной картине: о чем она?».
Лучше всего ему удалось ответить на этот вопрос применительно к творчеству Джаспера Джонса. Этот художник работал в основном с предметами, то есть ушел еще дальше от классической живописи, чем Поллок. После посещения его первой персональной выставки в 1958 году Стайнберг испытал ощущение потери или нехватки чего-то, и этим чем-то была вся предшествующая традиция живописи, построенная на создании иллюзии. Однако, порвав с иллюзионистской составляющей традиции, Джонс не отказался от другого ее элемента, столь важного для Стайнберга, — от гуманистического содержания.
Его картины напомнили Стайнбергу об «отсутствии человека в созданной им самим среде. <…> картины Джаспера Джонса производят такое же впечатление, какое производит до боли знакомый мертвый город. Остались только вещи, созданные человеком знаки, которые в его отсутствие стали просто объектами». Стайнберг вновь упомянул только одну деталь из биографии художника — его демобилизацию из армии в 1952 году, но она позволяла понять, что за плечами Джонса война в Корее, и придавала новый смысловой оттенок его Мишени и Флагу.
Сходный социальный заряд привлекал Стайнберга и в других художниках послевоенного поколения:
Ежемесячные обзоры Стайнберга пользовались большим успехом: в 1956 году он получил за них награду от College Art Association. И тем не менее он ушел из Arts Magazine, не проработав там и года. Объясняя интервьюерам спустя много лет, почему он оставил профессию художественного критика, Стайнберг приводил разные причины. Он говорил о невозможности оценить за один день или даже месяц картины, на создание которых ушел не один год. Он жаловался на то, что статус профессионального критика мешал ему дружить с художниками и чувствовать себя своим в их мире. Он ссылался на то, что работа над диссертацией требовала много времени и сил. Заметим, однако, что такие важные статьи, как «Современное искусство
и затруднительное положение его зрителей и Джаспер Джонс: первые
семь лет его искусства», он написал в начале 1960-х годов, а статья «Другие критерии» основана на лекции, прочитанной в МоМА в марте 1968-го. Статьи о Джаспере Джонсе, Пикассо и Родене написаны в той же узнаваемой манере, что и академические работы Стайнберга: скрупулезный анализ формы сочетается здесь с оригинальными и проницательными наблюдениями о ее связи с содержанием и с точечными, но всегда значимыми отсылками к биографии художника. В 1960-х годах Стайнберг обладал достаточным авторитетом, чтобы не ограничивать себя в объеме статей и не торопиться с их публикацией.
Главную причину его ухода из художественной критики, скорее всего, нужно искать в его отношении к поп-арту, пришедшему на смену абстрактному экспрессионизму. Стайнберг говорил: «что-то в том влиянии, которое творчество Уорхола оказывало на культуру, было мне неприятно, и я так и не смог преодолеть это чувство. Уорхол — не тот художник, чьим твор- чеством я готов восхищаться. Я знаю немало умных людей, которые говорят, что Энди Уорхол и Йозеф Бойс, возможно, самые значительные художники конца ХХ века. Но тут я выхожу из игры. Я перестаю понимать внутренние мотивы этого искусства, я не сочувствую им и не отождествляю себя с ними». В финале статьи «Другие критерии» говорится:
Стайнберг предпочел остаться в сфере, тем более что выработанные им критерии анализа отлично работали применительно к искусству старых мастеров и модернизма.
Более того, оказалось, что в американской истории искусства сложилась ситуация, очень похожая на положение дел в критике. Об этом Стайнберг писал летом 1969 года в статье «Объективность и сужающееся „я“» — единственном включенном в «Другие критерии» тексте, который не имеет отношения к искусству ХХ века. Если в американской художественной критике ему пришлось бороться с формалистами, игнорировавшими содержание произведения искусства и личность его создателя, то в искусствознании он отстаивал субъективность интерпретации, без которой наука об искусстве рискует превратиться в навык каталогизации музейных экспонатов.
Субъективность в понимании Стайнберга означала не только право на интерпретацию содержания произведения искусства, но и внимание к создавшему его субъекту, а также вопрос о том, как художник учитывал субъективность зрителя. Последний феномен Стайнберг открыл для себя в 1957 году в Риме, где, стоя перед созданиями Караваджо и Бернини, он понял, что они учитывали реальное положение зрителя в пространстве и исходя из этого положения конструировали его визуальный и эмоциональный опыт — так же, как это делали Моне и Роден. Чуть позже он обнаружил, что Рафаэль в Лоджиях Ватикана работал с точкой зрения зрителя, как современный кинооператор, а Леонардо в «Тайной вечере» сумел придать пространственному изображению временную протяженность. Искусство старых мастеров снова оказалось гораздо ближе к современности, чем полагал Клемент Гринберг. Во время очередной поездки в Европу в 1968 году Лео встретился в Лондоне с дядей Ароном, который, услыхав, что племяннику без малого пятьдесят, грустно покачал головой и сказал: «Если ты ничего не добьешься, пока тебе нет пятидесяти, считай, что этот поезд ты упустил навсегда». После этого
разговора Стайнберг круто изменил свою жизнь: разделался с неудачным браком, снял на Манхэттене маленькую квартиру почти без мебели, которую назвал «белой кельей», и погрузился в работу. В его жизни появилась чудесная помощница — Шейла Шварц: она начала с ним работать еще студенткой в качестве литературного секретаря, а в конце концов стала главной хранительницей его наследия. Спустя четыре года вышли работы, подводившие итог одному этапу в жизни Стайнберга и открывавшие другой: сборник «Другие критерии», монографическое исследование «Авиньонских девиц» Пикассо и первый вариант книги о «Тайной вечере» Леонардо.
А впереди его ждало еще сорок лет увлекательных исследований истории искусства и замечательных открытий.