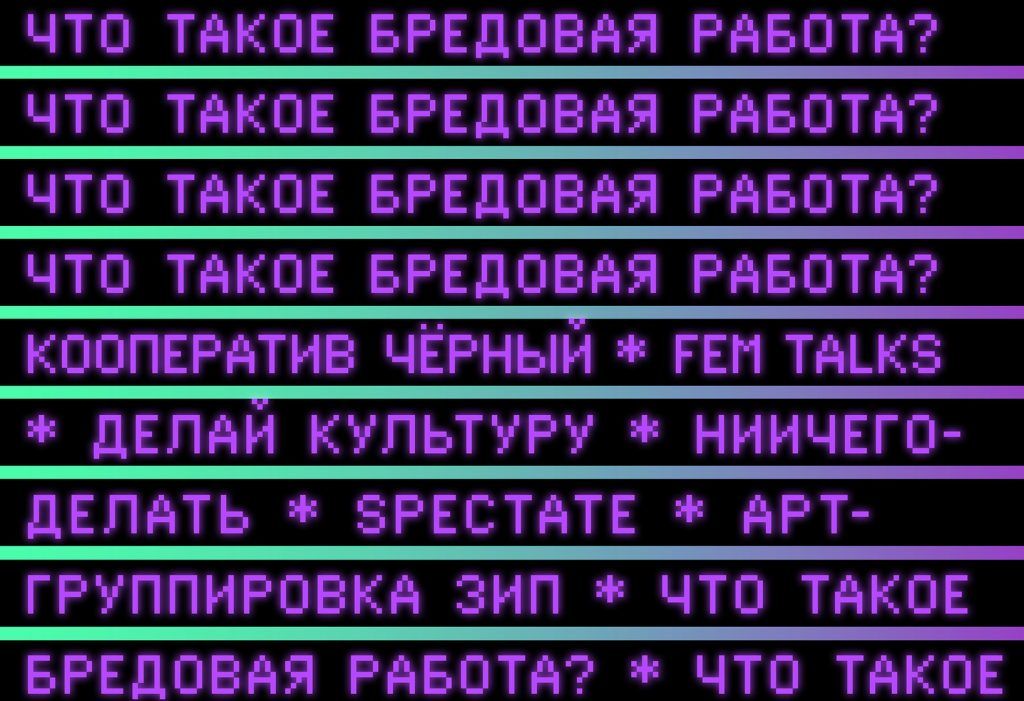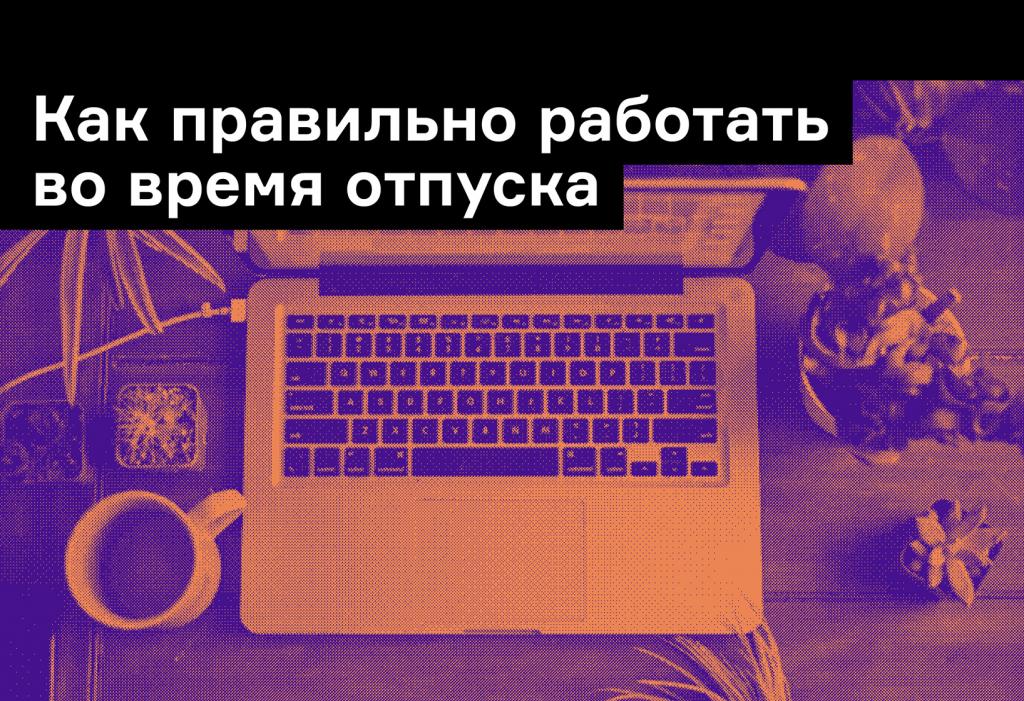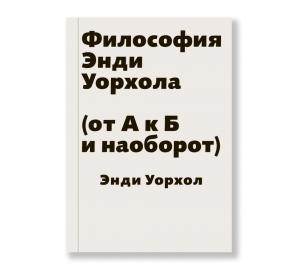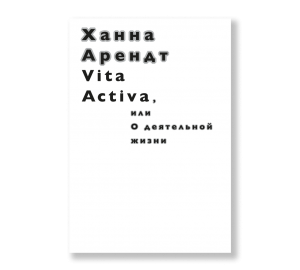Почему нам нужно остановиться

«Что, если не работа, делает нашу жизнь достойной того, чтобы жить? Что мы за существа, если не существа работающие?». В книге «Неработа», которая готовится к выходу в Ad Marginem, психоаналитик Джош Коэн пытается понять, как отношения современного человека и его работы стали такими токсичными. Он рассматривает эту проблему с точки зрения психоанализа, приводя истории клиентов, оказавшихся в заложниках у своего трудоголизма, общества, говоря о социальных выплатах и как изменилось отношение правительств к ним, и с точки зрения искусства. На примере Энди Уорхола, Орсона Уэллса, Эмили Дикинсон и Дэвида Фостера Уоллеса, он рассматривает разные модели отношения человека к труду.
Публикуем фрагмент введения книги «Неработа».
Уже более десяти лет я практикующий психоаналитик. Мой прием начинается раньше и заканчивается позже стандартного рабочего дня, то есть в те часы, когда большинство либо еще не работает, либо уже не работает. Поэтому утром я нередко погружаюсь в чьи-то ночные кошмары, а вечером слушаю сетования клиентов на то, до какой степени им всё обрыдло. Днем приходят ненадолго отпросившиеся из офиса, оторвавшиеся от фриланса или ухода за детьми.
Неизменным фоном моей практики служит недовольство людей работой, будь то нескончаемые жалобы на тяготы трудовых будней или — не столь прямолинейно — назойливое жужжание смартфонов, переведенных в режим вибрации («Извините, это, должно быть, по работе»), так что порой кажется, что клиенты вольно или невольно посвящают меня во все свои проблемы, от которых их не спасают даже стены кабинета психоаналитика.
Конечно, мне трудно составить правдивую картину современной трудовой жизни, ведь ко мне приходят люди, страдающие от чувства нереализованности, хронического стресса, переутомления и расстройств, во многом обусловленных однообразием требовательной, но пустой работы, цель которой порой сводится просто к ее выполнению.
Кабинет психоаналитика — лишь один из пунктов наблюдения, позволяющих взглянуть на проблему, масштабы которой вселяют ужас. Судя по обилию книг и статей на эту тему, мы живем в эпоху социального, экономического и политического кризиса в сфере труда. Самые яркие его симптомы — перегруженность работой и в то же время недостаток рабочих мест. Автоматизация уже охватила или вот-вот охватит промышленность (сборкой автомобилей и компьютеров занимаются роботы), розничную торговлю (едва ли не все магазины компьютеризированы), транспорт (всё шире распространяются беспилотные автомобили и поезда). От нее не застрахован и умственный труд. Искусственный интеллект грозит захватить многие области, которые еще недавно казались прерогативой человека: маркетинг, инвестиционный бизнес, юридический консалтинг или даже преподавание математики.

Сужение рынка труда влияет как на тех, у кого нет работы, так и на тех, у кого она есть. Конкуренция за рабочие места способствует снижению заработной платы и в то же время требует от работников всё большей эффективности и самоотдачи. Армия соискателей ждет не дождется повода занять должность любого из нас, стоит ему замешкаться или оступиться, и это оправдывает перегрузки, не позволяя ослабить трудовой темп. Мы покорно продолжаем гонку и очень скоро отчаиваемся, начинаем чувствовать себя загнанными в угол. Сколь многие из нас, поглощенные борьбой за поддержание достойного уровня жизни или просто за выживание, смиренно выполняют или мечтают получить порождающую стресс, но не приносящую удовлетворения работу…
Описанный кризис породил целую сеть теоретиков посттруда, намечающих экономические, социальные и политические контуры грядущего общества, в котором работа уже не будет необходимостью. Идея безусловного базового дохода (ББД), то есть приемлемого жизненного обеспечения, доступного всем, а не только «нуждающимся», популярна как в радикальных политических кругах, так и в мейнстриме: сегодня она является краеугольным камнем дискуссии о посттрудовом мире.
Впрочем, посттрудовое будущее ставит перед нами, как не раз подчеркивалось, не только политическую или прагматическую, но и экзистенциальную проблему. Если труд теряет решающую роль в мире, приходится вновь задуматься о смысле существования.
Моя книга — плод многолетнего поиска ответов на эти вопросы. Представление о работе как основной ценности человеческой жизни вызывало у меня подозрение еще в детстве. Я рано понял, что карьера юриста, бухгалтера, финансиста, менеджера, чиновника или любое другое занятие, достойное представителя среднего класса, не для меня. Не то чтобы я сомневался в своих способностях — скорее, мне всюду мерещился принцип самоценности труда. Профессиональная жизнь казалась полной обязательств, которые необходимо выполнять не потому, что это приносит удовольствие и воодушевление, а потому, что так надо. Настоящий труд требует самоотверженности, думал я — и именно поэтому хотел его избежать.
Герои мультфильмов моего детства и отрочества — Снупи, Бэгпусс, Гарфилд, Гомер Симпсон, а вслед за ними и их кинематографический преемник Лебовски, были в моем представлении борцами с императивами продуктивности и целеустремленности, которые мне ежедневно вбивали в голову в школе и дома. Их образы укрепляли меня во мнении, что смотреть в окно куда интереснее, чем на школьную доску, и что редкий урок может соперничать в увлекательности с моими собственными фантазиями.
Годы спустя, когда я зажил самостоятельно, моя извечная мечтательность вступила в конфликт с законами необходимости. Примирить одно с другим помогли мне — я расскажу об этом в книге — литература и, позднее, психоаналитическая практика. Эти занятия оказались вполне совместимыми с моей неприязнью к продуктивной деятельности: они обеспечили меня заработком, не требуя взамен подчинения правилам окружающего мира.
Искусство и психоанализ не только дали мне работу, которую я могу вытерпеть и даже полюбить; они побудили меня усомниться в ценности деятельности и успеха, которую навязывает нам культура. Книга стала результатом этих размышлений. Как жить без работы? За этим вопросом, всё более насущным для современного общества, открывается другой, подвергающий сомнению преобразующую силу труда и стремления к нему в мировой истории. Исчерпывается ли смысл нашего существования тем, что мы что-то делаем и производим? Рабочий день современного человека часто служит растянувшимся свидетельством нежелания работать. Даже занимаясь самым интересным для нас трудом, мы часто предаемся мыслям о перерыве, тратим бесценное время на суетливое ерзание на стуле, рассеянные взоры в окно, в компьютерный монитор или просто «в никуда». Чаще всего эти попытки отвлечься маскируют скрытую летаргию: так мы лишаем деятельность всякого содержания, устраиваем себе перерыв прямо во время работы. Иными словами, рассеянная работа — это неработа, ведущая скорее к нервному истощению, чем к восполнению сил.
Нам часто кажется, что нежелание работать — недоразумение, бессмысленный сбой в системе. Мое существование значимо, если я стремлюсь к определенному, объективно значимому свершению, а не рисую каракули или выдумываю бессмысленные рифмы. Но что, если всё совсем не так? Я считаю, что для понимания того, кто мы и что собой представляем, неработа важна не меньше работы.
Важнейший довод в пользу такого утверждения содержится в самой ткани физической реальности. Согласно Первому закону Ньютона, также известному как закон инерции, всякое тело находится в движении до тех пор, пока не подвергается воздействию неуравновешенной силы. Поиск вечного двигателя, так занимавший ученых со времен Средних веков, во многом был движим стремлением преодолеть этот закон, то есть мечтой о непрерывном движении.
Закон инерции — жестокий повелитель. Брошенный мяч ударится о стену, часовой механизм замрет, наши ноги перестанут танцевать; любое движущееся тело, будь оно одушевленным или неодушевленным, бесконечно малым или космически большим, рано или поздно натолкнется на препятствие в виде какой-нибудь «неуравновешенной силы».
Это объясняет детский восторг перед невесомостью. Дети обожают мыльные пузыри и воздушные шары, им нравится качаться на качелях, представляя, что они парят над землей. Но они чувствуют, что это лишь мечты, неосуществимые из-за силы притяжения. Гравитация приковывает нас к земле: чтобы двигаться, нам приходится преодолевать сопротивление невидимой силы, которая затрудняет ходьбу, бег, плавание и не позволяет взлететь.
С возрастом мы становимся не так легки на подъем и смиряемся с неизбежностью —отказываемся от свободного парения, сперва как от физической возможности, а затем и как от состояния души. «Витать в облаках» — так мы называем инфантильное уклонение от действительности и ее требований. Ни при сдаче экзаменов, ни в поиске высокооплачиваемой работы облака не помогут.
Приняв закон гравитации, мы принимаем и ограничения, накладываемые им на наше тело и сознание. Но мы продолжаем восхищаться птицами, которые кажутся нам неутомимыми. Завершив долгий полет, они не падают в изнеможении, хотя устают не меньше других животных.
С момента зачатия и примерно до полугодового возраста человек находится в «невесомости». Словно монарх в паланкине, он избавлен от унизительной необходимости нести себя самостоятельно. Ребенок осознаёт свой вес, учась ползать, но поначалу ограничение компенсируется захватывающей новизной самостоятельного движения. Вес становится источником горького разочарования только тогда, когда ребенок понимает, что это навсегда. Когда, гуляя с дочерью в парке, вы уговариваете ее «пройтись ножками», она в ответ упрашивает вас взять на себя тяжесть ее неловкого тела, что выматывает вас и морально, и физически.
Не желая утруждать себя ходьбой, ребенок выражает недовольство законом инерции. Вам остается объяснить ему, что этому закону подчиняются все и что каждый должен сам, без посторонней помощи, нести груз собственного тела, равно как и всех своих тревог и радостей.
Выдвинутая Зигмундом Фрейдом1 концепция «влечения к смерти» (пожалуй, самая противоречивая из всех его идей) представляет собой перевод закона инерции на язык психики. Влечение к смерти связано со стремлением к полному покою, с деструктивными импульсами и навязчивым повторением травматического опыта. Но, что еще важнее, оно обнажает одну из основополагающих истин: человек испытывает бессознательное сопротивление деятельности; он не может начать что-либо, включая и саму жизнь, не понимая, что рано или поздно нужно будет остановиться.
Чтобы подтвердить универсальность моделей, обнаруженных им в структуре человеческого бессознательного, Фрейд часто обращался к древней мифологии (наиболее известна, конечно, его интерпретация мифа об Эдипе). Для влечения к смерти он не искал подобного обоснования, но если бы захотел, то без труда нашел бы множество подходящих примеров, особенно среди описаний зарождения божественного порядка. В любой теогонии боги олицетворяют те или иные человеческие эмоции (любовь, ненависть) или виды деятельности (искусство, войну) и тем самым соотносят устройство Вселенной с нашей внутренней жизнью.
Самые известные предания о богах, например Теогония Гесиода (VII век до н. э.) или Махабхарата (II–I тысячелетие до н. э.), рассказывают о безудержных творческих и любовных подвигах богов, об их интригах и войнах между собой. Но в любом космическом порядке есть область, более близкая к людям, где живут не столь могущественные и деятельные божества. В индуистской теогонии богине Лакшми, воплощению удачи, чистоты и изящества (ее сотворил и затем взял в жены верховный бог Вишну), противостоит ее сестра Джьешта — богиня невзгод и несчастий. Толстая, неопрятная, уродливая Джьешта олицетворяет божественную лень. Ее обвисшая плоть не оставляет сомнений, что ей нет дела ни до мира, ни даже до своего внешнего вида.
В греческой теогонии большая и разнообразная часть Вселенной отводится богам ночи. Гесиод пишет, что Хаос, царивший до создания земли, породил Эреба (Мрак) и Нюкту (Ночь), а те дали жизнь Гипносу, богу сна. Пасифея, богиня отдыха и видений, родила Гипносу трех сыновей: Морфея, Фобетора и Фантаса, которым досталась власть над тремя областями мира сновидений: изменчивой, пугающей и фантастической. Двор Гипноса охраняет Аэргия (буквально: «бездеятельность»), богиня лени, рожденная союзом Геи, широкогрудой матери-Земли, и Эфира (Воздуха). Две извечные жизненные силы соединились, чтобы создать антисилу — космическую защитницу сна и апатии.
Согласно этим преданиям, жизнь появляется в мире вместе с тем, что ее останавливает. Фрейд говорил и о влечении к жизни — активном, противоположном влечению к смерти стремлении преодолеть навязанную остановку, не принимать в расчет ограничения души и тела. Влечение к жизни хочет получить максимум от всего. Через половое размножение и упорный труд оно обеспечивает продолжение рода и поддержание жизни. Разжигая в нас любопытство, воображение, жажду преуспеть в делах, оно пролагает новые территории, творит идеи, сообщества, технологии и культуры. Будь это возможно, влечение к жизни никогда бы не останавливалось.
Предполагая, что влечение к смерти тихо и незримо проникает во влечение к жизни и стремится его нейтрализовать, Фрейд напоминает нам о том, что даже в самые экспансивные и амбициозные периоды жизни человека или целого народа случаются моменты вялости, когда Аэргия или Джьешта словно шепчут нам усталым голосом: «Ты что, серьезно? Тебе не надоело? Может, лучше остаться в кровати?»
Плакат. Америка. 1987 год
Наше сложное отношение к этим призывам — предмет этой книги. Современная жизнь в западном мире подвергает нас постоянному компульсивному давлению, которое побуждает к деятельности и не дает возможности сделать паузу. Символом нашей культуры является неутомимый пользователь смартфона, тратящий каждую минуту тишины или отдыха — по дороге на работу, во время семейного ужина или в кровати — на то, чтобы прочитать электронное письмо, рабочий файл, пролистать социальные сети, поиграть в затягивающую игру, посмотреть видео. Только так, лихорадочно отвлекаясь, можно оторваться от неиссякаемого списка дел в голове.
Требование постоянной занятости подпитывается культурой, которая высмеивает и опошляет потребность в остановке. Фанатичный конкурентный трудоголизм возведен в норму. Нас убеждают, что миллионы мужчин и женщин проводят огромную часть своего времени за работой. Реклама энергетических напитков и противопростудных препаратов обещает нам помочь пробиться напролом через болезнь и усталость, избавить нас, а заодно и наших работодателей, от больничного листа.
Подобные фантазии о беззаветной преданности делу и супергеройском иммунитете поддерживаются и злопыхательством желтой прессы и политиков-демагогов в адрес иждивенцев и мигрантов, которые, сидя на пособиях, живут за счет «приличных людей», пашущих в поте лица. В итоге при мысли о том, что кто-то не подчиняется императиву двигаться вперед любой ценой, нас переполняют злость и зависть.
В последние десятилетия на Западе лево- и правоцентристские правительства всё настойчивее пытаются убедить нас в том, что мы должны работать, каким бы ни было наше положение. В Великобритании, США и других странах получение социальных пособий требует соблюдения всё более строгих условий, главным из которых является активный поиск работы. Как пишет теоретик посттрудового мира Дэвид Фрейн, «даже группы, которым традиционно позволялось не работать, вроде родителей-одиночек и инвалидов, оказались под угрозой отмены социальных дотаций и выталкивания в мир занятости»2. Всё более частыми становятся отказы в пособии по инвалидности на основании жесткой бюрократической оценки трудоспособности просителя.
Обоснование этих не сходящих с повестки дня мер по сокращению числа неработающих хорошо известно: в долгосрочной перспективе финансовое бремя содержания пожилых, чья доля в населении неуклонно возрастает, становится неподъемным. Если общество хочет избежать финансового краха и полного упадка, оно должно заткнуть все дыры в производительности и превратить экономические потери в прибавочную стоимость. Только так идеальное государство и идеальная экономика грядущего смогут взять верх над законом инерции: никакая «неуравновешенная сила» не будет препятствовать бесконечному экономическому подъему…
Однако проблема в том, что западные экономики давно обнаружили свою зависимость от закона инерции. Любые действия, направляемые ими на устранение препятствий и усиление динамики, порождают лишь новые трудности. Автоматизация способствует расширению производства и повышает его эффективность, но влечет за собой рост безработицы и падение зарплат. Нехватка рабочих мест вызывает в людях напряжение, из-за которого распространяются переутомление, выгорание, депрессия, порождаемые стрессом, и на борьбу с ними направляются миллиардные траты. Пытаясь преодолеть инерцию, мы только увеличиваем ее силу. И всё же надменное морализаторство на тему работы со стороны СМИ, представителей бизнеса и политики не имело бы значения, если бы не находило у нас такой живой отклик.
Психоанализ предлагает этому разные объяснения. У каждого из нас есть идеализированный образ себя, или, в терминологии Фрейда, Я-идеал3 , побуждающий нас действовать и добиваться большего. Будучи рудиментом бессознательной веры в наше потенциальное совершенство, внушенной нам в раннем детстве родителями, он подпитывает наши амбиции и творческую активность. Но Я-идеал может стать тяжелым бременем — источником острого стыда за несоответствие того, какие мы есть, тому, какими должны быть.
Если Я-идеал уверяет каждого из нас: «Ты можешь», то более известная категория бессознательного, именуемая Сверх-Я, приказывает: «Ты должен», и тем самым пробуждает в глубине сознания и совести жгучее чувство вины и неотвратимости наказания. Взаимодействие внешних и внутренних факторов приводит к тому, что большинство из нас испытывает тревогу по поводу пределов своих возможностей; как только мы собираемся передохнуть, на нас немедленно обрушиваются голоса извне и изнутри нашего Я, заставляющие снова взяться за дело.
Для современной культуры работы и трудовой репутации со всеми ее стимулами и неумолимыми требованиями максимизации нашего потенциала, Я-идеал — идеальная мишень. «Каждому работнику, — пишет Фрейн, — внушается, что он всегда может достичь чего-то большего; повышение трудовой репутации становится для него трагическим испытанием, так что он объявляет войну самому себе и вечно терзается сомнениями в своей пригодности и в своих результатах, никогда не удовлетворяясь тем, как ему удается распорядиться своим временем»4.
Дискомфорт паузы в работе, когда время ничем не заполнено и не оправдано, порождает рассредоточенность, эту сестру-двойняшку императива труда и производительности: достигая предела своих возможностей как производители, мы становимся потребителями. Сегодня с самого рождения человека его глаза, уши и нервная система попадают под натиск информации и образов, льющихся на него с телевизоров, компьютеров, планшетов и других мобильных устройств. Дома, в офисе, на улице, всюду нас преследуют виртуальные сети цифровой жизни с их непрестанными призывами следить, ставить лайки, обновлять, транслировать, покупать. Оказавшись вне доступа сетей, мы чувствуем себя покинутыми и опустошенными.
Мы боимся нажать кнопку выключения на наших гаджетах и в нашем сознании — боимся пустоты, которая станет видимой. И этому страху сопутствует жуткая тоска по тишине и уединению, жажда вырваться из беспрерывного потока шума. В моем кабинете пациенты часто высказывают желание, чтобы мир вокруг или они сами растворились. Они мечтают о блаженстве кататонического истощения, о бездействии, в котором хотели бы провести воскресное утро, глядя на газетную строку до тех пор, пока она не обретет совершенную пустоту буддийского коана.
Когда мы отвлекаемся, например залипая в интернете, эти импульсы причудливым образом объединяются. Когда мы сравниваем двадцать три разновидности белых футболок, смотрим десятки видео с котиками или метрами прокручиваем френдленту в социальных сетях, наша лихорадочная гиперактивность трансформируется в пустую трату времени (будь то наше время или время нашего работодателя) и в разновидность саботажа.
***
Наши сложные, неоднозначные отношения с действием и целью служат первым основанием для того, чтобы усомниться в законности представления о человеке как о существе прежде всего работающем. Но есть и второе основание — искусство.
Ему уделено главное место на страницах этой книги. Отчасти потому, что в жизни и творчестве художников, писателей, кинорежиссеров можно найти широкий спектр инертных состояний тела и сознания: апатию, лень, безразличие, мечтательность и т. п. Но дело не только в этом: на более глубоком уровне сам факт существования искусства свидетельствует о некоем измерении, которое, отвергая активную, целеустремленную жизнь, противостоит тому, что можно назвать «тиранией действия».
Ведь что делают художники? Пребывая в царстве воображения, а не практической реальности, уводя наш взгляд от действительности в сторону вымысла и иллюзии, они совершают очень мало конкретных дел, из-за чего с давних пор навлекают на себя подозрения со стороны блюстителей добродетели и чести. Если верить Платону, Сократ исключил художников и поэтов из идеального государства прежде всего потому, что они, не будучи сведущими в человеческой добродетели, никак ей не содействуют5. Даже о Гомере, самом любимом и почитаемом из всех поэтов, нельзя сказать, как сетует Сократ, что он создал свод законов, победил в войне, изобрел что-нибудь полезное или посвятил себя служению обществу. Его поэмы могут быть сколь угодно увлекательными, но как пример для подражания они никуда не годятся.
Две с лишним тысячи лет спустя Оскар Уайльд перевернул платоновскую иерархию и восславил бесполезность как наивысшую добродетель искусства. Не поддаваясь принуждению к деятельности, охватившему, словно грубые тиски, всех остальных, художник разрушает оковы реальности и прокладывает себе путь в безграничный, невесомый мир мечты, в ту жизнь, «что видит свою цель не в деянии, а в бытии…»6
При всей противоположности их взглядов Сократ и Уайльд сходятся в одном: творчество и наслаждение искусством основываются на отказе видеть в делании (doing) единственное предназначение жизни. Художественные произведения самим фактом своего наличия доказывают, что человеческому существованию присуще некое пусть не бесполезное, но во всяком случае не продиктованное никакое необходимостью измерение, сопротивляющееся целенаправленному действию (action). Трудно найти практический смысл в чтении стихотворения или в разглядывании картины.
Конечно, мы вольны наделить произведение искусства любыми смыслами и найти ему какое угодно применение. Однако в глубине души мы знаем, что его определяющее значение состоит в том, что оно ничего не «делает». «Искусство, — отмечает французский писатель и литературный критик Морис Бланшо, — действует мало и кое-как. <…> стоит только сопоставить искусство с действием, как действие, непосредственное и настойчивое, тотчас найдет, в чем обвинить искусство…»7 Немецкий философ Теодор Адорно, современник Бланшо, утверждает, что с политической точки зрения искусство или, во всяком случае, та его разновидность, которую он считает достойной этого имени, приобретает подрывной характер не потому, что оно что-то «говорит», а потому, что «говорит» очень мало8. В пьесе Беккета или в картине Пикассо глубина воздействия достигается благодаря отчуждению пустых форм языка и коммуникации, которые навязывает нам современное капиталистическое общество.
Но что, если судить об искусстве, не сопоставляя его с действием, а пытаясь понять его как единственную часть жизни, где такое сопоставление неприемлемо? У Бланшо есть один неожиданный пассаж, где он утверждает, что романтический миф о художнике как божественном творце, занимающем место, покинутое древними богами, не учитывает наиболее священную из всех божественных функций: почти во всех мифах о происхождении мира, и прежде всего в Книге Бытия, боги не только творят, но и отдыхают. Романтический художник ошибочно полагает, что его божественность состоит в том, что он берется за «наименее божественное дело Бога <…>, заставляющее его шесть дней трудиться»9.
Подлинная божественность заключается не в работе, которой может заниматься каждый, а в неработе, являющейся прерогативой Бога. Подобно Богу, художник — не «труженик»; если строитель использует камень для возведения стены, моста или какого-либо другого полезного объекта в физической реальности, то скульптор преобразует его в предмет воображаемого мира.
Формула, которой Мартин Крид украшает архитектурные сооружения при помощи световых проекций, «весь мир + работа = весь мир», прекрасно выражает эту мысль. «Работа» избыточна по своей сути, она никак не влияет на изменение мировой «суммы». Те, кто называет себя добросовестными налогоплательщиками, а художников — бесполезными тунеядцами, утверждают то же самое: миру не нужны художники в том смысле, в каком ему нужны каменщики и медицинские работники.
Именно в этом контексте, а не в русле идеи «божественного творчества» эпохи романтизма следует понимать сродство между художником и Богом. Решив посвятить день отдыху, Бог утверждает свою свободу от любых внешних требований. Шаббат освящает неработу и побуждает нас подражать божественной бездеятельности, а исчезновение этой традиции в наши дни можно истолковать и как следствие секуляризации общества, и как результат сакрализации работы. Священный статус Шаббата дает нам понять, что бытие (being) — это более высокая ступень существования, нежели делание (doing). Возможно, искусство — не что иное, как последний отголосок Шаббата в нас, современных людях, который открывает нам опыт жизни без определенного предназначения и цели.
***
В 1999 году заинтригованные, озадаченные и разгневанные посетители лондонской галереи Тейт толпились перед Моей кроватью (1998) Трейси Эмин. Эта инсталляция, сразу ставшая событием в мире современного искусства, буквально воспроизводит кровать художницы в том виде, какой она приобрела во время нервного алкогольного срыва Эмин из-за ссоры с партнером. Рядом с разбросанными чулками, полотенцем, смятым одеялом и сползающей с матраса простыней валяются разномастные остатки пустопорожней жизни: использованные одноразовые бумажные салфетки, трусы со следами крови, одинокая плюшевая игрушка, бутылки из-под водки, тампоны, презервативы, полароидные снимки, скомканная пачка «Мальборо», старые газеты и т. п.
Вызвав шквал насмешек и возмущения в желтой прессе, Моя кровать вновь актуализировала извечный вопрос: что такое искусство? Как можно, вопрошали обличители, называть искусством эту циничную демонстрацию жизненного бардака, этот самовлюбленный и омерзительный акт выставления напоказ подробностей личной жизни? Как можно наделять статусом художественного произведения артефакт, беспардонно нарушающий все границы между искусством и жизнью?
Греческое слово пойесис (от др.-греч. ποιεῖν — делать, производить, изготавливать — здесь и далее в скобках указаны примечания переводчика) определяет акт творения, будь то в природной или человеческой жизни, как делание (making), преобразование одной вещи в другую посредством труда. Моя кровать, которую не случайно иногда называют «неубранной кроватью» (англ. «unmade bed» — букв. «несделанная кровать»), демонстрирует, как кажется, дерзкий отказ делать что-либо. Художница оставила нетронутым бесформенный мусор собственной рушащейся жизни, не помышляя о том, чтобы придать ему более гармоничный вид или доставить эстетическое удовольствие зрителю.

Апатия, отраженная в Моей кровати, напоминает не столько об отдохновении седьмого дня, когда мы готовимся вернуться к служению Богу, труду и семье, сколько о нечестивом Шаббате тоху ва-боху, о тех ужасающих «безвидности и пустоте» (Быт. 1:2.), что предшествовали Творению. Через микрокосм художественного образа в Моей кровати инсценировано возвращение к изначальному вселенскому хаосу.
В инсталляции Эмин мы с ужасом узнаём сцену, втайне разыгрывающуюся в каждом из нас, ту часть нашего Я, которая вопреки всем побуждениям к действию и прогрессу готова поддаться энтропии, уничтожить всякий порядок и смысл. Вместе с тем отталкивающее впечатление лени и запустения, которое она вызывает, — это результат кропотливого труда и искусной работы, направленных на размытие грани между деланием и неделанием. Для Эмин инертность и апатия стали не предвестниками гибели воображения, а источником вдохновения.
Моя кровать отражает своеобразный опыт депрессивного бездействия. Это произведение, основанное на личной истории, послужило поводом для обвинений художницы в нарциссизме и цинизме ad hominem (а точнее, ad feminam (лат. ad hominem — букв. к мужчине; ad feminam — к женщине. Автор обыгрывает сокращение известной формулировки «argumentum ad hominem» («аргумент к человеку»), подразумевающей «переход на личности» как подмену аргументации по существу дела.), если учесть едва замаскированную мизогинию, сквозящую в нападках на Эмин). Однако исповедальный аспект служит здесь лишь трамплином для проведения более широкой взаимосвязи между искусством и инерцией. Моя кровать — не произведение творца-демиурга, где части расколотого Я, которым придана изобразительная или повествовательная форма, собраны воедино. Это упражнение в искусстве ничегонеделания (doing nothing), стремление которого — «утвердить себя как таковое» (снова Бланшо), не более того10.
Тем не менее Моя кровать не служит воплощением мечты об искусстве, очищенном, как пишет Уайльд, от «низменных опасностей, которыми полно действительное существование»11. Инсталляция Эмин переносит нас не в мечтательное созерцательное пространство возвышенного чувствования, в котором для Уайльда заключалась суть эстетической жизни, а в мрачную область непоследовательности и спячки. Задача «быть», а не «делать» и связанный с ней отказ от действия носят куда менее однозначный характер, чем был готов допустить Уайльд. Они с равной легкостью способны низвергнуть душу в состояние изможденного равнодушия и вдохновить ее восхождение к высотам созерцания.
Алкоголь и контрацептивы свидетельствуют не о здоровом возбуждении, а о тяге к физическому и психическому оцепенению, скорее о стремлении к разгрузке, нежели к усилению чувствования. Инсталляция погружает нас в то состояние, которое французский социолог Ален Эренберг называет «усталостью от себя»; в культовой книге, опубликованной в 1998 году под таким заголовком, он охарактеризовал этот феномен как главный недуг нашего времени.
«Усталость», о которой говорит Эренберг, выражается в чувстве радикальной подавленности, в хронической неспособности действовать. В условиях современного потребительского общества места, где мы работаем, строим наши отношения друг с другом и потребляем, порождают сильные импульсы к конкуренции. Издерганные неослабевающим требованием выбирать и действовать, мы готовы впасть в анемичный паралич воли и желания. «Оставить на потом, застыть, притормозить, забросить дела и так далее, — пишет Эренберг, — всё это составные части языка апатии»12.
Этот список синонимов поразительно точно отражает изображенную Эмин сцену, в которой жизнь поставлена на паузу. Но он также напоминает о природе искусства, о его отличии от того, что мы называем реальной жизнью. Французский философ Эммануэль Левинас, один из немногих современных мыслителей, уделивших внимание этическому аспекту искусства, писал, что оно замораживает свой объект в «навечно застывшем» будущем13. Если живое лицо служит выражением эмоций во всем их многообразии и изменчивости, то изображенная на портрете женщина навечно застыла в некий миг своей внутренней жизни: «Улыбка Джоконды, казалось бы, готовая засиять на ее лице, не засияет никогда»14.
В то же время, «персонажи романа — существа закрытые, взятые в плен. Их история никогда не заканчивается, она длится, но не развивается»15. Быть вымышленным персонажем — всё равно что вечно проживать День сурка, быть обреченным на вынужденное повторение истории, из которой невозможно ускользнуть. Даже киногерои, вопреки видимости движения и живых реакций, навечно заключены в одну и ту же историю, в одни и те же, раз и навсегда неизменные, жесты и фразы.
Не обязательно безоговорочно принимать тезис Левинаса об искусстве, чтобы признать точность его характеристики. Настойчивость, с которой дети требуют, чтобы им вновь и вновь слово в слово рассказывали одни и те же истории, имеет сходную природу. Искусство открывает нам доступ к миру, где вещи неколебимо остаются такими, какими они были раньше и пребудут впредь; это его свойство может и успокаивать, и пугать.
С этой точки зрения Моя кровать — не произведение искусства «на тему» инерции, а размышление об искусстве, понимаемом как ее своего рода оберегаемый резерв. В интервью Джулиану Шнабелю Эмин говорила, что замысел произведения у нее возник, когда она, вернувшись в комнату из ванной, посмотрела, в какую хаотичную помойку превратилась ее кровать, и вдруг мысленно перенесла эту сцену в «белый куб» галереи: «Когда я это представила, кровать выглядела просто охренительно. И я подумала: это не то ужасное место, где должна произойти моя смерть; это прекрасное место, которое вдохнет в меня жизнь».
Это преобразование смертельного ужаса в жизнеутверждающую красоту произошло не путем физического вмешательства, а благодаря простой идее переноса бытового явления в стерильную среду художественной галереи. Воображаемый контекстный сдвиг радикально меняет смысл сцены, оставляя ее без внешних изменений. Эмин достигает шокирующего эффекта главным образом за счет того, что воспроизводит подлинные чувства боли и смятения там, где им, казалось бы, нет места.
Таким образом, парадокс Моей кровати состоит в том, что она преображает опыт, ничего с ним не делая, оставляя его ровно таким, какой он есть. Представьте себя на месте Эмин: вы выходите из ванной, и вас вытряхивает из кататонического ступора ужас от того хаоса, который растекся вокруг вас, пока вы пребывали в плену горя и страданий. Обычной реакцией было бы убраться в комнате, принять душ, выйти на свежий воздух, возможно, встретиться с кем-нибудь из друзей. Вид остановленной жизни вызывает в нас желанию запустить ее заново.
Эмин предлагает по-другому взглянуть на нашу тягу к инерции. Вместо того чтобы избавиться от ее следов, ликвидировав беспорядок и взяв себя в руки, художница воздает ей должное, представляя в том бесформенном состоянии, в каком ее застала, и видит в ней красоту. Эмин избавляется от своего кошмара, не стирая его из памяти, а бережно сохраняя каждую его деталь.
Мгновение остановки жизни оказывается увековеченным. Нам предлагается не отводить взгляд от этой сцены, повинуясь позыву рефлекторного отвращения, а увидеть в ней метафору, указывающую на закон инерции как на неминуемый факт нашей жизни. Эмин напоминает зрителю, что мы не машины, находящиеся в вечном движении; мы не можем просто взять и махнуть рукой на гравитационную силу тоски или усталости. Наступает момент, когда мы вынуждены сказать «стоп».
И лишь благодаря остановке мы получаем доступ к ощущению легкого парения и свободы от гравитации. В момент такого откровения Эмин увидела, как сцена пагубного хаоса трансформируется в образ красоты и утверждения жизни. Возможность творческого преображения мгновенно избавила ее от подавляющей тяжести. Искусство — антигравитационная сила.
Примечания:
[1] Фрейд сформулировал ее в 1920 году и развивал до конца жизни; см.: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия [1920] / пер. А. Боковикова // Фрейд З. [Соч. В 10 т. Т. 3.] Психология бессознательного / ред. А. Боковикова, С. Дубинской. М.: Фирма СТД, 2006. (Понятие влечения к смерти было заимствовано Фрейдом у русского/советского психоаналитика Сабины Шпильрейн (1885–1942), которая использовала его в своей докторской диссертации Деструкция как причина становления (1912); см. подробно: Шпильрейн С. Деструкция как причина становления [1912] / пер. С. Жигулёвой // С. Шпильрейн. Психоаналитические труды / науч. ред. С. Сироткина, Е. Морозовой. Ижевск: ERGO, 2008. — Пер).
[2] Frayne D. The Refusal of Work. London: Zed Books, 2015. Р. 16.
[3] Термин впервые был использован Фрейдом в 1914 году в заключительной главе эссе О введении понятия «нарцизм»; см.: Фрейд З. О введении понятия «нарцизм» [1914] / пер. А. Боковикова // З. Фрейд. [Соч. В 10 т. Т. 3.] Психология бессознательного / ред. А. Боковикова, С. Дубинской. М.: Фирма СТД, 2006. С. 63–71. Десять лет спустя он ушел в тень более поздней концепции Сверх-Я. (Фрейд подробно разрабатывает гипотезу «Сверх-Я» в эссе Я и Оно (1923); см.: Фрейд З. Я и Оно [1923] / пер. А. Боковикова // З. Фрейд [Соч. В 10 т. Т. 3.] Психология бессознательного / ред. А. Боковикова, С. Дубинской. М.: Фирма СТД, 2006. — Пер.)
[4] Frayne D. The Refusal of Work. Р. 77.
[5] Общеизвестные нападки на искусство из-за его фальшивости и бесполезности содержатся в Книге Х Государства; фрагмент, обсуждаемый ниже, см. в: Платон. Государство / пер. А. Егунова // Платон. Соч. В 4 т. / общ. ред. А. Лосева, В. Асмуса, А. Тахо-Годи; вступ. ст. А. Лосева; примеч. А. Тахо-Годи. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 396–398.
[6] Уайльд О. Критик как художник [1891] / пер. А. Зверева // О. Уайльд. Избранные произведения / сост., вступ. ст. Н. Пальцева. В 2 т. Т 2. М.: Республика, 1993. С. 302. Уайльд добавляет: «Мы можем стать носителями духа, отгородившись от всякого деяния, и сделаться совершенством, если полностью откажемся от присущей нам энергии» (Там же).
[7] Бланшо М. Литература и опыт начала [1952] / пер. Д. Кротовой // М. Бланшо. Пространство литературы. М.: Логос, 2002. С. 215.
[8] Наиболее четкую формулировку этой мысли, которую Адорно высказывал неоднократно, можно найти в книге: Adorno T. W. Commitment. Notes to Literature. Vol. 2 / trans. S. W. Nicholsen. New York: Columbia University Press, 1992.
[9] Бланшо М. Литература и опыт начала. С. 222.
[10] Бланшо М. Литература и опыт начала. С. 222.
[11] Уайльд О. Критик как художник. С. 298.
[12] Ehrenberg A. The Weariness of the Self: Diagnosing the History of Depression in the Contemporary Age [1998] / trans. E. Caouette, J. Homel, D. Homel, D. Winkler. Montreal: McGill-Queens University Press, 2010. Р. 22.
[13] См.: Левинас Э. Реальность и ее тень [1948] / пер. Е. Гиршман // Литературоведческий сборник. Донецк, 2004. Вып. 17–18. С. 200.
[14] Там же (перевод изменен).
[15] Там же. С. 202 (перевод изменен).