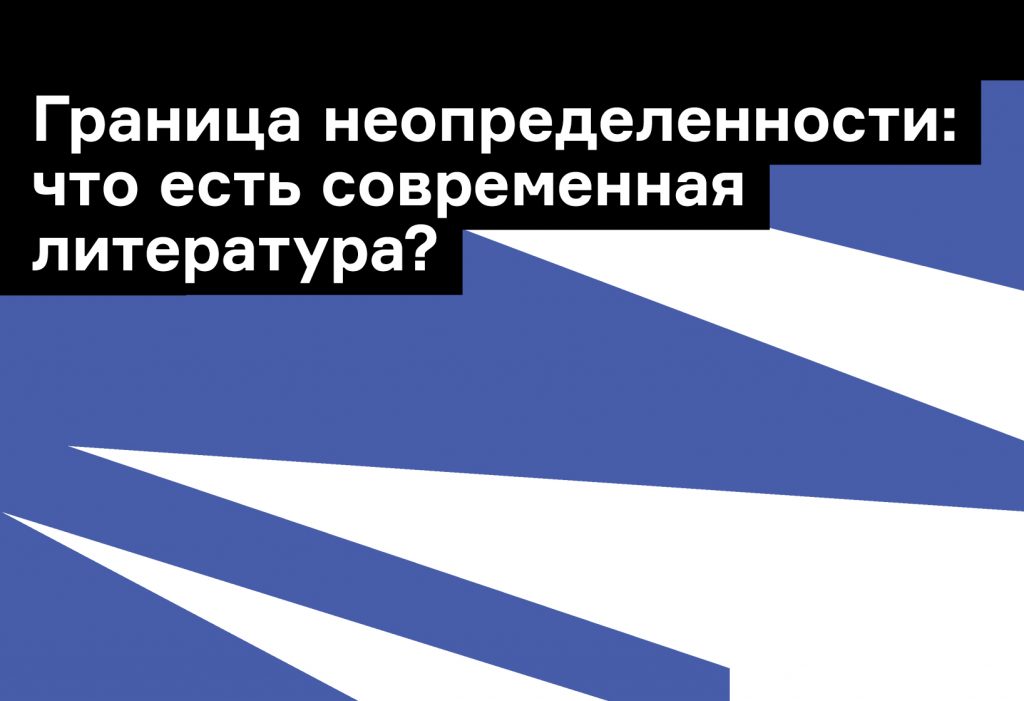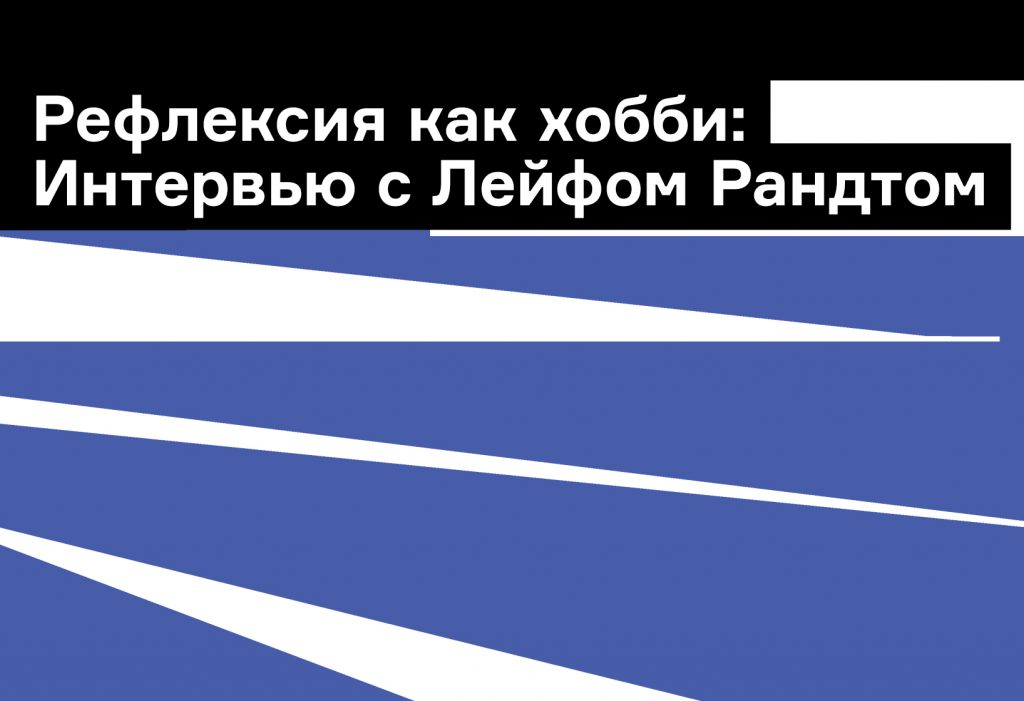Переписка Изабель Грав и Бригитты Вайнгарт об автофикшене в современной литературе
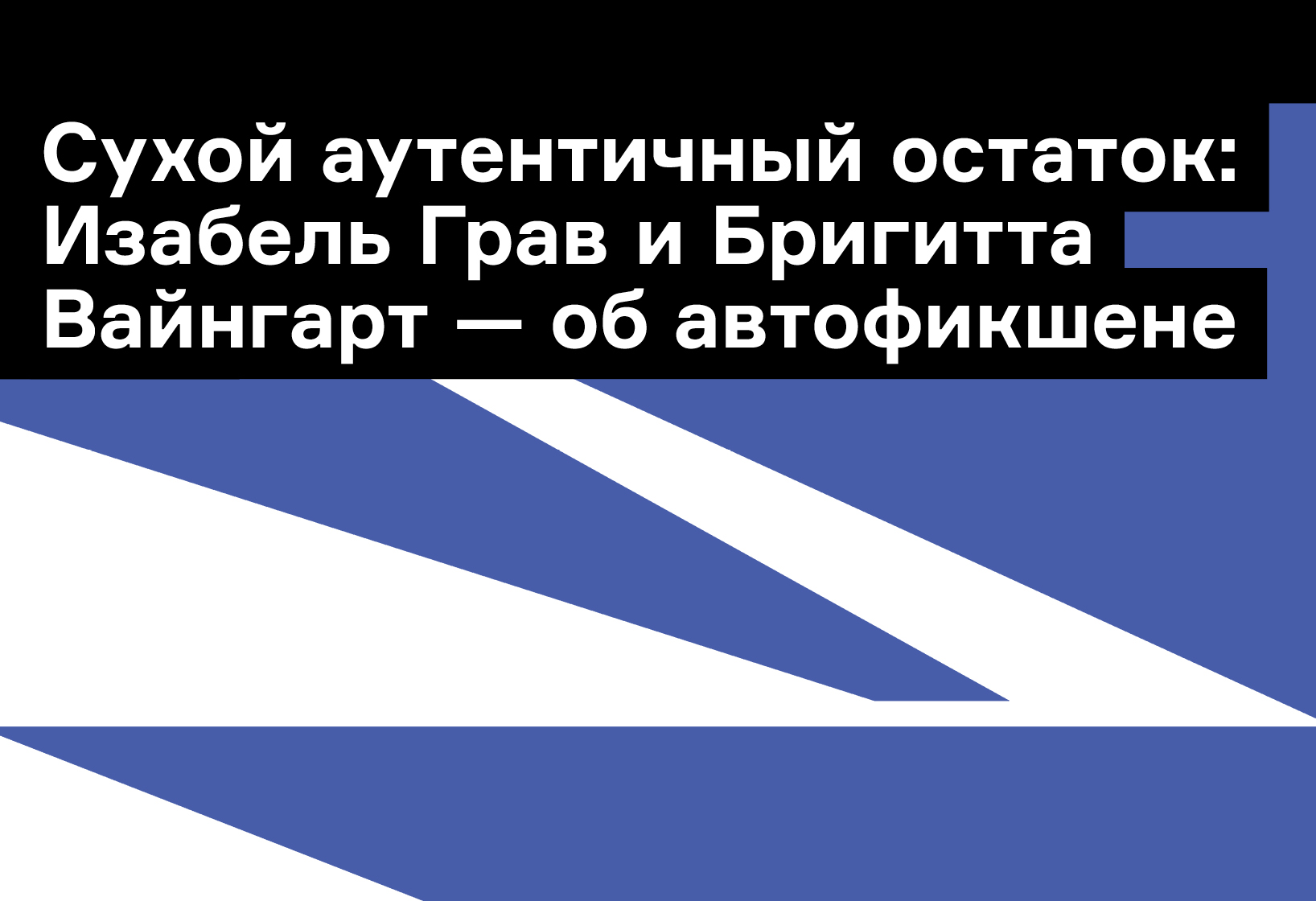
Литература — средство фиксации и в то же время способ передачи читателям того, что мы, как нам кажется, знаем о себе, своего эмоционального мира и своих откровений. Но что, если поставить под вопрос эту связь между автор*кой и читатель*ницей? Казалось бы, эта тема давно исчерпала себя, но именно по этому вопросу, который снова приобрел актуальность из-за сегодняшнего увлечения всем аутентичным, в последнее время высказываются тексты, определяемые как автофикшен.
Чтобы прояснить разные их аспекты, а особенно их претензию на новизну жанра, Изабель Грав, издательница журнала Texte zur Kunst, и Бригитта Вайнгарт, литературовед и теоретик медиа, обменялись мнениями об автофикшене в переписке, которая оказалась богатой на программные заявления. Место привычных методов анализа текста, использование которых могло лишить новый жанр всей его энергии, занимает автофикциональный разговор. В этом фрагменте, изначально опубликованном в нашей газете «Контур», критика соединяется с текстовым перформансом.
Дорогая Бригитта,
когда мы недавно сидели вместе и обдумывали этот номер журнала, я уже упоминала: за последние годы я буквально проглотила массу современной литературы, больше, чем когда-либо. И особенно впечатлили меня те писатель*ницы (в основном женщины), которые ассоциируются с брендом «автофикшен», например Анни Эрно или Дебора Леви, которые делают средоточием общественных явлений свое Я, являющееся и вымышленным, и аутентичным. Современная литература в последние тридцать лет играла для меня (и для журнала Texte zur Kunst) лишь незначительную роль, а сегодня я очень интересуюсь такими современными писатель*ницами, как названные выше, а также Наташа Водин, Рейчел Каск, Отесса Мошфег, Бен Лернер, Рейчел Кушнер, Ангелика Клюссендорф, Виолен Юисман и Та-Нехиси Коатс. На мой взгляд, этим автор*кам удается, каждому по-своему, показать новые виды давления общества на субъекта (и его сознание). Это Я, которое возвращается к нам в их книгах, не то же самое Я, что просто документально фиксирует их реальную жизнь (как, например, у Карла Уве Кнаусгора). Это Я понимается как весьма и весьма социальное: сформированное определенным образом доминирующей классовой структурой, сексистскими и расистскими нормами, оно через литературу выражает свое отношение к этим структурам. Можно сказать, что это Я больше чем просто структурный эффект, и в то же время это не субъект высказывания, стремящийся к аутентичности.
Анни Эрно заслуженно хвалят за перенос биографического плана в план биографии общества. Действительно, ей и другим автор*кам (Леви, Каск) удается убедительно описывать давление общества, или, выражаясь точнее, личное измерение капитализма. Как он проникает к нам в голову, как он придает схожую структуру нашим жизненным кризисам, как он направляет наши желания и внедряется в наше представление о самих себе — об этом идет речь в их книгах. Мне кажется, что сейчас литература делает очень большое дело, в том числе на фоне основной массы изобразительного искусства; возможно, потому что она располагает возможностью более детально и прямо выявлять взаимосвязи между технологиями власти, с одной стороны, и стратегиями Я — с другой.
Интересно, что в книгах американских автор*ок (Мошфег, Лернер, Кушнер) зачастую именно социальная среда искусства, пресловутый «мир искусства» выступает в качестве гламурной кулисы для происходящего. Как будто литература, символические ценности которой в принципе воспроизводимы и поэтому обладают меньшим потенциалом монетизации по сравнению с материальностью уникальных объектов изобразительного искусства, хочет таким образом приобщиться к символической и рыночной ценности этих объектов, очень выросшей в последние годы. Например, когда в книге «Мой год покоя и отдыха» Мошфег (2018) безымянная главная героиня работает в галерее, это уже говорит о ее статусе как некой образованной и привилегированной хипстерки.
Авторское Я, с которым мы встречаемся в этих книгах, тоже не совсем фикциональное — хотя именно на это намекает понятие «автофикшен». Ролан Барт еще предварял свое предвидение автофикшена (книгу «Ролан Барт о Ролане Барте», 1975) заверениями, что в книге говорит «персонаж романа», а Дебора Леви характеризует свое литературное (женское) Я в книге «Сколько стоит жизнь» (2019) как личность, не целиком совпадающую с ней, но близкую. На место утверждения фикциональности, у Барта еще и с помощью частого употребления местоимения третьего лица «он», подчеркивающего дистанцию, у Леви и многих других авторок пришло фикциональное Я, имеющее много непосредственных точек пересечения с самой авторкой; оно близко к ней, но совпадает не полностью. Это литературный персонаж, крепко привязанный к Я авторки (и, естественно, к ее социальному окружению). Тот момент, что это Я очень социально (а не пытается выйти за пределы своего социального положения, как у Барта), является следствием в том числе его маркировки как «женского», потому что эту маркировку невозможно игнорировать, она непрерывно сталкивает фикционально-аутентичное Я авторки с общественными стереотипами, которые отводят авторке ее «женское» место.
Тем не менее я задаюсь вопросом о том, насколько новым является это Я автофикшена. Или оно просто продолжает старые добрые литературные стратегии?
Обнимаю,
Изабель
___________________
Дорогая Изабель,
именно потому, что во мне резонируют твои меткие наблюдения за тем, что сейчас называют автофикшеном, за настоящим хайпом вокруг него, я тоже думаю о том, не имеем ли мы тут дело со старым вином в новых бутылках. Ведь многое из того, что ты описываешь, присутствует и в старых текстах, например в литературе шестидесятых и семидесятых годов: я в этой связи вспоминаю Хуберта Фихте, которого в очередной раз открыли заново. Начиная с 1974 года на протяжении нескольких томов его «Истории чувствительности» вырисовывается его альтер-эго Джеки — где-то между укорененностью в реальной жизни Фихте (авто-) и постоянным «пересобиранием» персонажа в зависимости от сексуальных фантазий самого персонажа (-фикшен?), а также под влиянием теоретических изысканий и этнологических исследований автора. Поэтому Фихте искал альтернативные способы письма (например, он нашел диалогическую форму, в которой реплики участников разделяют только тире и тем самым они лишаются субъектности, а также форму интервью; это немного напоминает метод Рейчел Каск интегрировать в текст голоса других). Или Петер Хандке с его «Детской историей» (1981), в которой вместо Я говорится о «взрослом» или о «мужчине»; другая ситуация была в рассказе «Нет желаний — нет счастья» (1972), в котором имеется Я, скорбящее о смерти матери и одновременно рассказывающее о ее жизни как о коллективной биографии, с переносом ее симптоматических черт на уровень диагноза обществу, как у Эрно. Пожалуй, и Райнальд Гётц с его шпагатом между максимальным подсвечиванием субъекта и наблюдением за дискурсом заслуживает тут не только сноски, в которой ты его упомянула; еще большой привет от Кэти Акер и так далее (даже боязно открывать этот ларец, потому что в нем так много примеров).
Осложняющее обстоятельство — то, что в «традиционной» автобиографии довольно редко наблюдается стремление к наивной аутентичности, в ней текст, в том числе по законам линейного повествования, сам создает свое Я, то есть мы видим, как повествование формирует историю жизни автора (пусть и экстравагантно гиперболизированный, но стилеобразующий для метанарратива пример мы видим у Лоренса Стерна в «Тристраме Шенди», первые тома которого вышли в 1759 году). В самых разнообразных текстах, которые сейчас считают автофикшеном, и в упомянутых старых образцах происходит некий постмодернистский апгрейд автобиографического повествования в качестве нормы: вместо того чтобы описывать в тексте сложную идентичность, появляется авторское Я или его эквивалент, которое выступает резонатором всех своих впечатлений, разговоров, социальных связей, впечатлений от искусства, прочитанных книг (не утрачивая при этом идеи об укорененности в телесности; эту тему нужно будет обсудить отдельно). Место телеологической конструкции жизни занимает (старый добрый) фрагмент, диалогический дискурс (например, в форме писем, как здесь у нас) или эпизодическая структура, часто разрешающаяся личным кризисом или превращением, в котором часто обоснованно видят повод для обобщения (распавшийся брак; родительство — отношения полов; трансгендерность — биополитика; transfuge de classe, классовый переход — классовое общество; насилие полицейских в отношении цветного населения — расовая политика). А из метафикциональности, которая после своего первого взлета в литературе романтизма стала фирменным признаком постмодернистского письма, в тексты автофикшена попала в меньшей степени рефлексия по поводу письма и в большей — фокус на вопросах памяти, работы с воспоминаниями (опять-таки в связи с микро- и макросоциальными травмами).
Вместе с тем я соглашусь, что, глядя на отношения между авто- и автором/авторкой, мы наблюдаем нечто такое, что мне все-таки кажется новым: если фикциональное Я «имеет много непосредственных точек пересечения с самой авторкой», как ты пишешь, то в том-то и дело, что мы имеет дело не просто с возвращением авторки, которую считали мертвой. Такая констелляция позволяет одновременно и есть пирог авторства, и держать его в руке: укорененность персонажа в Я авторов/авторок гарантирует такую достоверность написанного, которая (больше?) не связана напрямую с фактологичностью текста. Такая обратная связь как стратегия достижения аутентичности, очевидно, как-то связана с дискурсами о фейках и кризисе фактов (который вроде бы вызвали те же самые теорети(ч)ки, ранее провозгласившие смерть автора), причем именно при отсутствии возможности отойти от выстроенных конструкций и опереться на объективную истину на передний план выходит истинность личности. (К вопросу о to have one’s cake and eat it too: гибридный автофикшен хватается и за то, и за другое? Укорененность в собственной жизни и [постмодернистское] знание о проблемах с репрезентацией фактического, к которому так или иначе добавляются квазификциональные элементы — через отбор, упорядочивание, саму возможность рассказа и т. д.…)
И мы опять возвращаемся к вопросу о том, почему именно сейчас так хорошо работает этот бренд, в том числе с маркетинговым эффектом. «Как это часто случается, — пишет Кристиан Лоренцен, — эти термины появились не в критической работе, а в аннотации к книге французского писателя Сержа Дубровски „Сын“ в конце семидесятых годов… <…> Итак, автофикшен появился как часть рекламного языка, как способ подачи в качестве новшества чего-то почти столь же старого, как сама литература: смешения реального и выдуманного».
Обнимаю,
Бригитта
___________________
Дорогая Бригитта,
ты совершенно права в том, что колебания Я в автофикшене между претензией на аутентичность и литературной постановочностью не являются новым феноменом. Еще в «Исповеди» Руссо (1781) в самом начале есть предупреждение, что этот текст, стремящийся к истине, не лишен небольших «приукрашиваний». Получается, что «истина», которую он предъявляет нам в этой старейшей автобиографии, является литературно стилизованной.
В генезисе автофикшена как бренда присутствовал и маркетинговый аспект, на что указывает и Лоренцен, которого ты цитируешь, но то же самое мы видим и в изобразительном искусстве: вспомним хотя бы такие атрибуции, как Minimal Art или Relational Aesthetics, — это всё бренды, которые, как и автофикшен, не только заявляют новый жанр, но и служат продвижению на рынке. Кроме того, такие автор*ки, как Каск, Бен Лернер или Ангелика Клюссендорф, прекрасно осознают особую экономику литературы: сцены ее маркетинга включаются в книги в виде описаний выступлений, поездок или встреч с редактор*ками. Тексты работают с тем, что они находятся в контексте конкретного типа экономики — медийного общества и культуры звезд, где люди интересуются прежде всего человеком, стоящим за продуктом. Как поступать писатель*ницам в ситуации, когда настолько востребован непосредственный контакт, — это тематизируется в самих текстах. Теперь от автор*ок больше чем когда бы то ни было ожидают, что они будут лично представлять свои книги и презентовать себя в медиа в качестве селебрити, — кстати, Каск добилась в этой области больших успехов. И чем больше в их книгах содержится (как бы) «реальной жизни», например в виде переживаний по поводу материнства или расставания, тем больше их рыночный потенциал.
Кстати, еще Жан-Поль Сартр в своем автобиографическом проекте «Слова» (1963) зафиксировал и связь между выставляющим себя напоказ литературным Я с вытекающим из этого признанием в медийном обществе, и феномен автора, как бы «запертого» в своей книге. Он в занимательной форме описал, как стал тем, кем сам старался быть в глазах других. Его Я существовало только «напоказ». И можно сказать, что это Я, презентующее себя с учетом определенных внешних ожиданий, в культуре звезд стало еще более ярко выраженным. Сартр довольно метко описывает, как писательница в такой ситуации из «дающей» сама превращается в свой «дар»: «Меня берут, меня открывают, меня кладут на стол, меня поглаживают ладонью и иногда разгибают так, что раздается хруст». Автор, превратившийся в свою книгу, «хрустит» на протяжении всей книги: это антропоморфное приравнивание книги к автор*ке тоже находит свое продолжение в автофикшене.
Здесь нам, наверное, стоит подумать о связи между нынешней модой на автофикшен и цифровизацией экономики. Если якобы важные события из нашей жизни считаются в социальных медиа ценным ресурсом, то они неизбежно влияют на литературное творчество. Возможно, так называемая «жизнь» автор*ок автофикшена, откровенно постановочная, высоко котируется в том числе потому, что сейчас абсолютно всё демонстрируется и продается в социальных медиа.
Однако мне кажется, что есть еще одна причина, почему жизнь других (прежде всего ее сухой аутентичный остаток) сейчас кажется столь привлекательной. Думаю, это связано с социологическим состоянием индивидуализированного и десолидаризированного общества, в котором изолированные одиночки преследуют исключительно свои личные цели. А когда человек не имеет солидарной поддержки и предоставлен сам себе, то у него может возникать потребность обнаруживать себя в литературных работах других одиночек. Особенно у писательниц (Каск, Эрно, Леви и Шейлы Хети) мы обнаруживаем актуальное послание, касающееся общественных проблем: разрываясь между профессиональными амбициями, сложным браком и материнским долгом, (гетеросексуальные) героини этих книг прокладывают путь через жизненные кризисы, не получая никакой поддержки от общества. То, что нагрузка, ложащаяся на этих женщин, в последнее время так активно тематизируется, связано, конечно, и с тем, что большинство писательниц ХХ века, от Кэтрин Мэнсфилд до Ингеборг Бахман, как правило (и по понятным причинам), не имели детей и для них не были столь актуальны метания между карьерой, детьми, партнер(к)ами, нормами внешности и ожиданиями общества.
Недавно мне в руки попал еще один прототип автофикшена, о котором я хочу тебе рассказать: «Год любви» Пауля Низона (1981). Несмотря на несколько неприятный, разнузданный привкус этого текста (например, у него безнадежно сексистский взгляд на женское тело), в его работе очень ярко выражена метафикциональная «рефлексия по поводу письма», как ты это удачно назвала. Читательнице внушается, что она непосредственно участвует в процессе написания книги, что она имеет эксклюзивный доступ к литературному труду автора и как будто сидит рядом с ним за письменным столом: «Я сажусь за пишущую машинку, припоминаю что-нибудь из того, что я выловил из равнодушного, серого потока времени и как бы спрятал в кармашек жилета, затем сосредоточиваю на этом всё внимание, собираюсь перед прыжком или, вернее, перед бегом с препятствиями и стремительно набрасываюсь на клавиатуру, чтобы вслепую выловить мысль и сформулировать ее в одной фразе». Процесс письма изображается здесь спортивным испытанием (в том числе с помощью спортивных метафор: «прыжок», «бег с препятствиями»), чем-то вроде решительного разбега. Его идеал «вылавливания мысли вслепую», «саморазогрева», соответствующий автоматическому письму сюрреалистов, встречается, как мне кажется, и в книгах таких современных автор*ок, как Шейла Хети, Нина Люкке, Бен Лернер или Мэгги Нельсон. Их тексты тоже разными способами убеждают нас в том, что автор*ки просто сели и стремительно написали их. Именно благодаря тому, что эти литературные продукты, как и у Низона, подают себя как in the making, они обещают нам больше близости к жизненной и рабочей ситуации автор*ок; это та близость, внушаемая в данном случае литературными средствами, к которой стремятся в культуре звезд и которая (обычно) бывает вознаграждена. Возможно, нынешний триумф автофикциональной литературы можно объяснить и тем, что сейчас почти все что-то пишут и (как будто) откровенничают онлайн и в этой сфере срочно нужны образцы, задающие ориентиры.
Обнимаю,
Изабель
___________________
Дорогая Изабель,
после прочтения твоего ответа я снова подумала о том, что проницаемость границы между жизнью и произведением, которую прорывали самые разные авангардисты, уже достигнута, и не только в автофикшене, причем в такой степени, которая и не снилась упомянутым художни*цам и писатель*ницам (включая и кошмарные сны). Мне кажется очевидным, что этому способствует современная цифровая культура, особенно в ее влиянии на культуру звезд, — но как же это всё работает? Ведь культ звезд и культура селебрити процветают уже давно, в том числе и в литературе. В качестве образца обычно называют лорда Байрона, который якобы однажды утром, в 1812 году, проснулся знаменитым, когда первые две песни «Паломничества Чайльд-Гарольда» за несколько дней стали бестселлером. Неслучайно Байрон считается представителем романтизма — литературного направления, сознательно практиковавшего тесную связь между жизнью и творчеством, а Чайльд-Гарольд Байрона (как и гётевский Вертер) действительно был «сплавом из персонажа, рассказчика и автора». «Байромания», которую спровоцировал этот автофикциональный текст avant la lettre, была обусловлена теми же тенденциями в истории медиа, что и нынешняя ситуация, и была вызвана демократизацией литературы, ранее ориентированной на образованные слои общества, на аристократию, и произошедшей благодаря появлению массовых газет и журналов (что, в свою очередь, вызвало необходимость фиксации авторского права; получается, что автор*ка как бренд — другая сторона той же медали).
Демократизацию часто считают достоинством цифровых социальных медиа, которые как бы дают возможность участия. А глядя на феномены микроселебрити, do-it-yourself-селебрити или «случайных» селебрити, невозможно спорить с тем, что в понимании того, кто считается «знаменитым», произошли принципиальные перемены (от «пятнадцати минут славы» до «знаменитости с пятнадцатью подписчиками», число которых у некоторых звезд ютьюба потом может вырасти до миллионов). Но для нашей темы считаю особенно показательным тот факт, что в социальных медиа, на тех же самых платформах, действуют не только микроселебрити и мегазвезды, но и мы, «маленькие люди», то есть демократизация работает не в последнюю очередь через распространение императива видимости. Всем нам приходится, соответственно, так же улучшать имидж и заниматься таким же самопродвижением, которым в классической культуре звезд занимались только деятели искусства (создающие произведения помимо собственного Я) и их рекламные агенты. А если ты каждодневно занят выстраиванием своей сетевой личности, то тебе придутся очень кстати какие-то образцы для подражания (которыми звезды всегда и служили).
Думаю, существенную роль играет и то, что в «цифровой экономике», как ты ее называешь, пересматриваются границы между публичной саморепрезентацией и частной жизнью, которые всегда были так принципиальны для выстраивания имиджа в культуре знаменитостей. Так, например, в традиционном культе звезд были важны слухи и сплетни, потому что они относились к неизвестной информации о личной жизни, как бы открывали доступ к сведениям о том, какова звезда «на самом деле» (фанаты осознают, что доходящая до них информация не свободна от постановочности, ключевое слово — homestory, но это не останавливает их в стремлении к аутентичности; они выступают в роли знатоков, рассуждая о достоверности какой-то информации, или воспринимают ее как источник развлечения). Это возвращает нас к «ресурсу жизни», о котором ты говоришь. Еще Ричард Дайер, в сфере исследования звезд сам звезда, подчеркивал связь между культом звезды и индексикальным устройством фотографии, а также аудиовизуальных медиа: очевидно, что принципиально важна возможность приписывать какой-то облик и какие-то события телу, которое продолжает существовать и вне постановки (когда фильм закончился). Я по себе замечаю, что если я неравнодушна к какому-то тексту — неважно, в восторге я или негодую, автофикшен это или нет, — то я уже давно сразу гуглю автор*ку (это касается и научных работ), причем включаю поиск по картинкам (а в последние годы меня часто интересует, есть ли у человека дети, потому что мне самой приходится с трудом совмещать работу и семью…).
Может быть, доступность такой информации в сети благоприятствует тенденции воспринимать в качестве «романов с ключом» и те тексты, которые per se вовсе не отсылают нас к жизни автор*ки через повествование в первом лице или соответствующий паратекст, — мы просто ищем всё это сами. Например, еще до прочтения романа Ангелики Клюссендорф «Годы спустя» («Jahre später», 2018), я знала, что в нем авторка анализирует «свой брак с Франком Ширмахером». В книге ничего не указывает на это. Но даже те критик*ессы, которые отвергают автобиографическое (или «индексикальное») прочтение, не могут игнорировать намеки на возможное сходство Людвига из книги с реально существовавшим знаменитым журналистом Ширмахером. И я тут же начала гуглить интервью с авторкой, потому что мне было интересно, что она сама говорит по этому поводу. А в случае того же Кнаусгора даже не нужно ничего гуглить, что явно помогло ему получить статус литературной суперзвезды.
Таким образом, автофикшен обслуживает в том числе и потребность людей из сферы культуры в «более качественных сплетнях». Ведь одновременно с растущей популярностью автофикшена в культуре интернет-звезд появился тренд на «автосплетни»: не отдавая ничего на откуп папарацци, люди сами сразу постят свои приватные фото, «без грима». Интересно, ведь в цифровой культуре производится так много изображений, — что было бы аналогом автофикшена в изобразительном искусстве? Мне сразу приходит в голову Мойра Дэйви, но, возможно, из-за ее интереса к книгам…
На этом всё, обнимаю и жду от тебя фидбэка,
Бригитта
___________________
Дорогая Бригитта,
вот и мой фидбэк, с некоторым запозданием… Я думаю, что граница между жизнью и творчеством в изобразительном искусстве была довольно проницаемой уже в раннее Новое время, и причины этого лежали не только в сфере истории медиа, но и в теории стоимости. Например, в «Жизнеописаниях» Джорджо Вазари (1550) было немало «качественных сплетен» в форме забавных историй о неких делах или шутках описываемых художников (всегда мужчин). Описание искусства и рассказы о жизни тут перетекают друг в друга. Легенды от Вазари с течением времени наложились на произведения искусства, они делают их более достоверными и тем самым более ценными.
И позднее, в начале ХХ века, как ты писала, тогдашние авангардисты сами начали делать ставку на эмпатическую связь с жизнью в рамках общего эмансипационного проекта: тогда считалось прогрессивным привносить искусство в жизнь, а вот начиная с шестидесятых годов отношения искусства и жизни предстают в несколько ином свете. Потому что с учетом новых технологий власти (которые часто называют «биополитикой» или ссылаются на «биовласть» Фуко), работающих с нашей повседневностью, с нашими личностями, иными словами, с нашей эмоциональной жизнью, привнесение жизни в искусство не может быть чем-то per se невинным или тем более прогрессивным. Если сама жизнь отправляется на работу, как это однажды сформулировал Энди Уорхол применительно к своей «Фабрике», то на произведения, (как будто) получившие в качестве топлива жизнь, следует смотреть уже другими глазами.
Ты спрашиваешь об автофикциональных стратегиях в изобразительном искусстве, сравнимых с литературными. Навскидку мне приходят в голову три характерных художни*цы шестидесятых и семидесятых годов: Дитер Рот, Ханне Дарбовен и Анна Опперман. Их автофикциональные методы всегда связаны с медийными технологиями, которые делают такие методы возможными. У Рота поиск себя и произведение сливаются в единое целое, например в его поздней видеоинсталляции «Соло-сцены» («Solo Szenen»,1997/1998), в которой камеры наблюдения фиксируют нон-стоп и демонстрируют на многочисленных экранах, как он спит, ест, пытаясь бросить пить. В «Ансамблях» («Ensembles») Анны Опперман вещи, с которыми она сама соприкасалась, становятся магическими и, подобно реликвиям, выстраиваются в некое подобие буддийского храма. А у Ханне Дарбовен содержащееся в ее работах Я проявляется не только через печатные медиа, но и через такие институции, как школа с ее культивированием красивого почерка и дисциплины.
Что касается автофикшена в актуальном искусстве, то нужно, наверное, принципиально различать таких художни*ц, как Френсис Старк или Йозеф Штрау, в произведениях которых имеются очевидное литературное измерение и соответствующие тексты, и тех, которые пытаются продемонстрировать и свое фикциональное, и свое аутентичное Я другими эстетическими средствами. Здесь мне приходят на ум последние работы Хенрика Олезена. Хотя нужно помнить о том, что мы встречаемся с произведениями изобразительного искусства совсем по-другому, в общественных и/или коммерческих пространствах, в то время как акт чтения обычно происходит в более приватной и уединенной обстановке. Поэтому наше отношение к книгам (и даже к текстам на экране Kindle) более интимно, нам кажется, что мы вступаем в личный диалог, особенно с автор*ками автофикшена. Может быть, потребность в личном и непосредственном диалоге в уединении сейчас столь велика потому, что на работе и в личной жизни мы в массе своей тратим очень много социальной энергии. Может быть, при чтении автофикционального рассказа о чьей-то жизни мы вновь обретаем контакт с собой, мы как будто находим наше утраченное Я в Я авторки. Формат переписки, которым мы сейчас пользуемся для обмена мнениями, хорошо зарекомендовал себя для вовлечения Другого еще со времен «Жизни Марианны» (1731–1745) Мариво. Потому что в каждом письме «присутствует» и его адресатка, оно позволяет согласовать в относительно безопасном пространстве социальные условия отправительницы письма и его получательницы. С этой точки зрения не случайно, что Та-Нехиси Коатс написал свою замечательную книгу «Между миром и мной» («Between the World and me»,2015) в форме писем своему сыну, которые должны подготовить его к жизни в обществе, пронизанном расистскими структурами.
Обнимаю,
Изабель
___________________
Дорогая Изабель,
теперь я реагирую с задержкой, — причиной постоянная суета и вечная многозадачность, а еще выступление Эдуарда Луи, которое я послушала на прошлой неделе, дало пищу для размышлений. Я отправилась на него с известным скепсисом, ты же знаешь, что я, несмотря на свою лояльность к классовым перебежчи*цам, до сих пор не могу простить Луи и его другу и ментору Эрибону то, что они, как мне кажется, даже не стараются писать так, чтобы сделать свои тексты если не доступными, то хотя бы любопытными для тех людей и членов своих семей, которых они описывают, что они отбирают голос у этих людей, — в принципе, это всё тот же упрек в предательстве, в данном случае в сфере литературы или, скорее, языковой политики: мне казалось, что здесь (кстати, в отличие от Эрно) заранее предполагается некоторая безграмотность описываемых людей (которые едва ли читают книги), а обращение к определенной аудитории лингвистически маркирует подъем в буржуазное общество…
Но теперь Луи убедил меня, что его «превращение» было не результатом выбора, а бегством, разумеется в том числе и от гомофобии, и что призывы к нему говорить от лица своего (изначального) класса всегда являются попыткой поставить его на (изначальное) место. Меня это действительно убедило — и я вижу тут параллели с со сложной позицией автор*ок, с которой говорят женщины и цветные люди в сфере автофикшена. Например, Клаудиа Ренкин, книга которой «Гражданин: американская лирика» («Citizen: An American Lyric»,2014) привлекла большое внимание в контексте движения Black Lives Matter, смотрит на современные события в сфере политики идентичности и пишет о конфликтах между двумя Я: историческим (черным или белым) и индивидуальным, что означает многократное усложнение позиции пишущей черной женщины. Из похожей перспективы Та-Нехиси Коатс если и не защищал сторонника Трампа Канье Уэста, то по крайней мере указывал на его балласт: в качестве «черной знаменитости» тебя всегда воспринимают как «представителя вида», и ты несешь ответственность за всё свое сообщество, но точно так же тебя воспринимает и само сообщество — как когда-то Майкла Джексона: «And we suffer for this, because we are connected. Michael Jackson did not just destroy his own face, but endorsed the destruction of all those made in similar fashion».
Конечно же, я поверила и в аутентичность Луи, которого всегда считала салонным революционером и видела в фотографиях трио Луи — Эрибон — Жофруа де Лагаснери селебрити-постановку. Или так: меня убедила его увлеченность; ведь в конечном счете через такие месседжи удается что-то сказать и предъявить мир отверженных публике, предположительно представляющей прежде всего правящий класс. В тот момент, когда Луи выступал с этими месседжами, я остро прочувствовала его утверждение, что этому классу требуются огромные силы самообмана, чтобы игнорировать тот факт, что голос за правые партии (или даже отсутствие голоса за левые) означает соучастие в убийства мигрант*ок.
Сейчас мне кажется, что я пишу очень пафосно, но я пользуюсь нашим форматом переписки как лицензией на исповедальность с моей стороны: сейчас, когда я перечитала роман «Конец Эдди Бельгёля» («En finir avec Eddy Bellegueule»,2014), я впервые за долгое время лелею надежду на то, что возможно нечто вроде «ангажированной литературы», — это литература, не застревающая в апориях или между такими альтернативами, как банальный активизм для заведомых сторонников и уклонение в духе Кафки или Бартлби. Такое настойчивое проникновение в реальность, которое не только приглашает «обрести контакт с собой», как ты пишешь, но и связывает с другими жизнями, с жизнями других, — это отнюдь не обязательный признак современного автофикшена: например, у Кнаусгора, символа этой тенденции, я не вижу ничего подобного. Наверное, это еще раз доказывает, что «автофикциональность» — не более чем общее понятие, под которым объединяют такие разные работы, что мы не может считать их все per se прогрессивными. Но среди них есть и такие, в которых действительно искрится контакт между Я и обществом, в котором оно говорит… Надеюсь, to be continued!
Обнимаю,
Бригитта