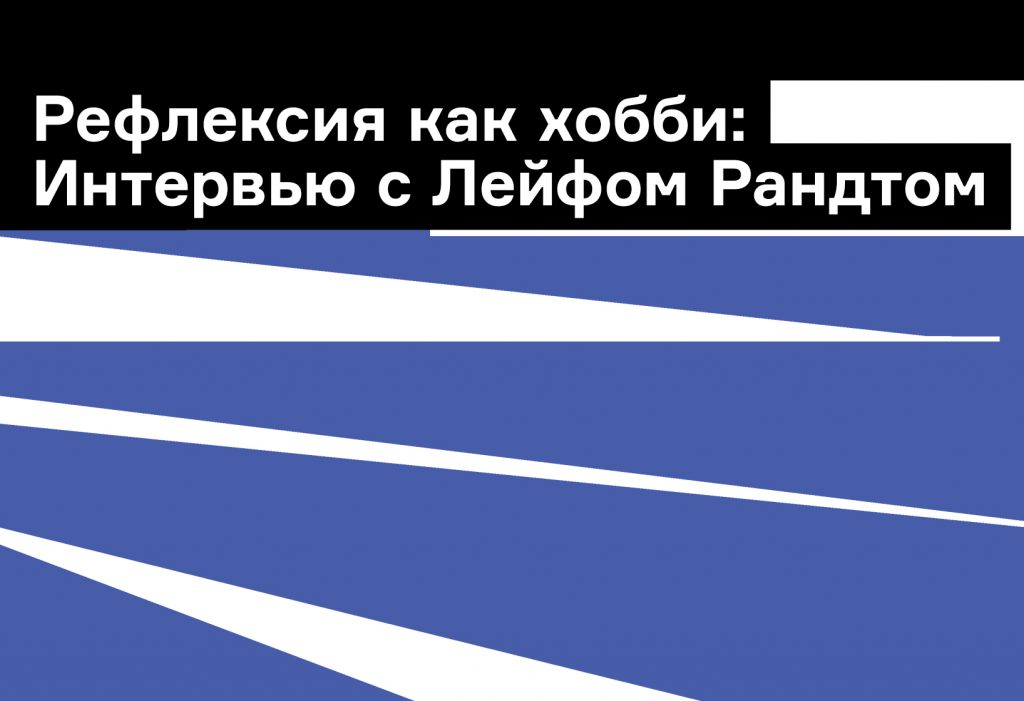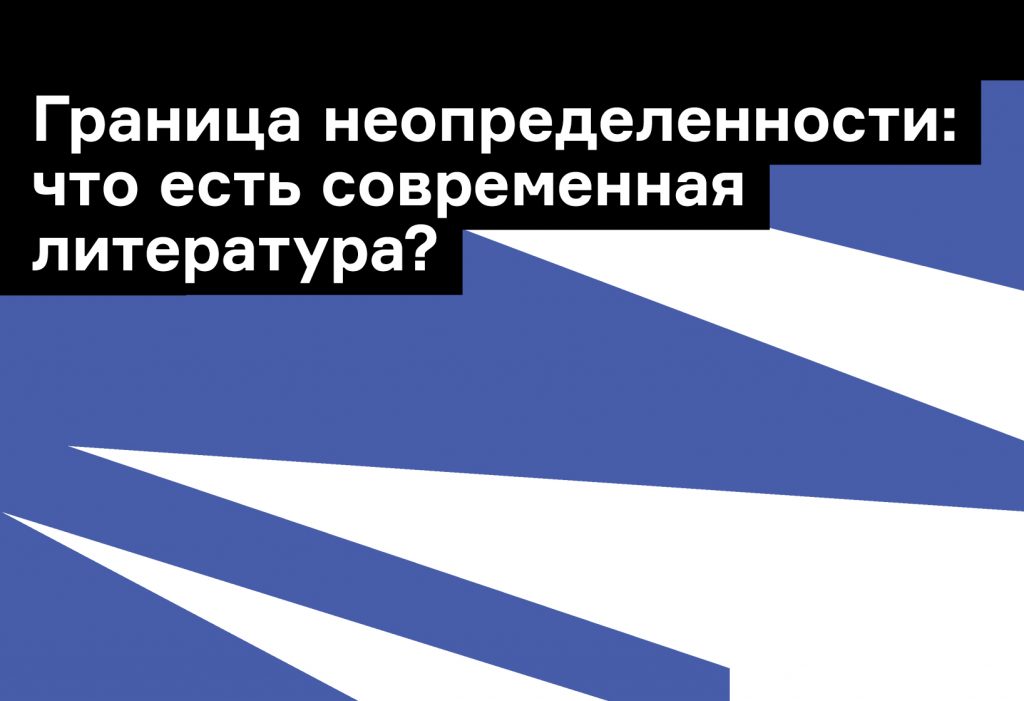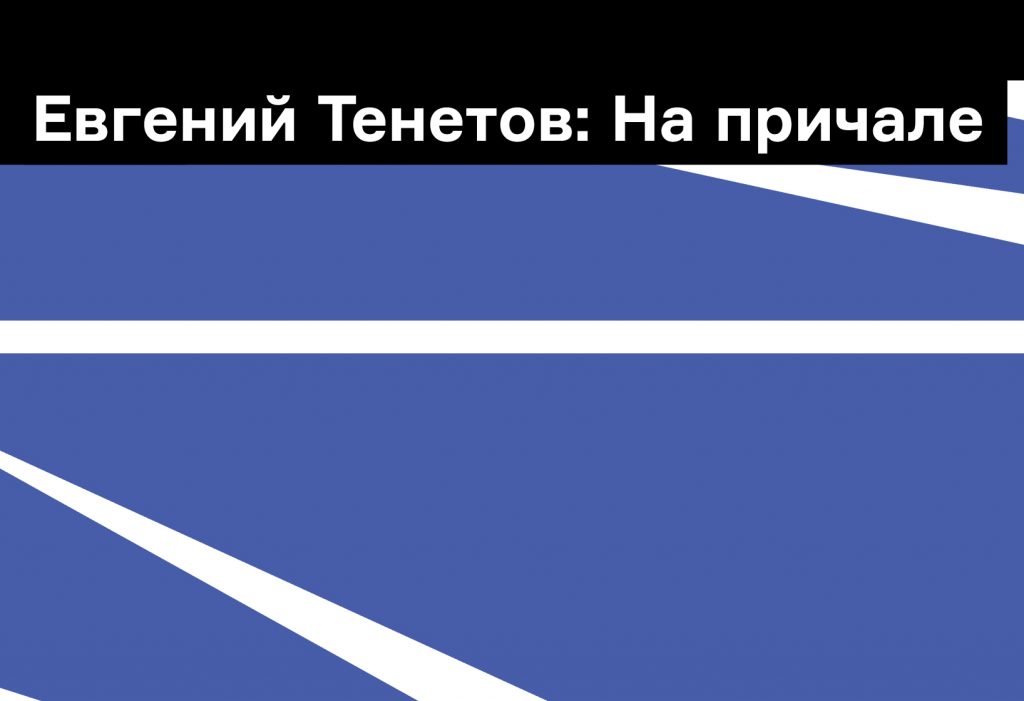Писательницы о первом воспоминании: Оксана Васякина, Полина Барскова, Кио Маклир

Память — личная, групповая, национальная, историческая, о недавнем прошлом, о травмирующем опыте — в последние годы стала одной из главных тем современной литературы. Публикуем материал из нашей газеты «Контур», в котором три писательницы, работающие с памятью, рассказывают о первом воспоминании.
Это Оксана Васякина, написавшая один из самых важных романов 2021 года — автофикшен о прощании с матерью и поисках новых координат; это Полина Барскова, много лет исследующая свидетельства и литературу блокады / о блокаде, в книге «Отделение связи» рассказавшая о загробной жизни Переписчика и Пейзажистки через личный опыт письма; это Кио Маклир, показывающая, как размышление о том, что происходит вовне, позволяет углубить внутренний поиск, — ее книга «Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений» представляет собой результат художественного эксперимента, проведенного над своей жизнью.

Книги: «Рана», «Ветер ярости»
Воспоминание: белый цвет
Первое, что я помню, — это белый цвет. Много оттенков белого.
Грязноватая бумага старых кухонных обоев с желтыми размытыми вертикальными линиями: соседи сверху топили. На ней были тонкие коричневые черточки, на концах которых распускались маленькие розовые цветы, похожие на незабудки. В ранних зимних сумерках потухшая от старости бумага начинала сиять ослепительной голубизной. Я люблю сумерки; в сумерках всё, что было красивым при свете дня, размывается, а то, что было неприглядным, начинает пылать.
Белый цвет густого, непроницаемого тумана над Ангарой. Ангара никогда не успокаивалась, и зимой над ней стоял тугой туман. Он поднимался от реки, и было непонятно, где заканчивается он и где начинаются облака. Мне говорили, что облака — это сгустки водяного пара. В таком случае, думала я, я знаю, где рождаются облака. Когда мы ехали с одного берега на другой, из окна было видно только железные остовы серого моста. Вперед автобус светил желтыми фарами. Не для того, чтобы видеть: видеть в тумане невозможно. Для того, чтобы видели нас. Мы ехали по мосту, и белый туман становился облаками. Мы ехали, и мы были в самом сердце рождения облаков. Облака всегда белые, даже если они розовые или голубые в свете закатного солнца.
Снежная целина на каменистой горе. У этого белого была необъятная глубина. Если долго смотреть на нее, ослепнешь. Ослепнешь не глазами, а просто перестанешь понимать, где ты и зачем. Снежная целина, как пульсирующий экран, врывалась в меня. Не было ничего, кроме белого. И белый не был ограничен. Мне говорили, что белый цвет содержит в себе все цвета радуги. Если так, думала я, то что тогда является хранилищем белому цвету?
Смотря на белый экран нового документа Microsoft Word, я нажимаю на клавишу и делаю первый шаг в белое. Я возвращаюсь туда, откуда пришла.

Книги: «Живые картины», «Отделение Связи»
Воспоминание: свои голоса
Теперь уже многочисленные свои курсы, посвященные творческому пути Владимира Набокова, я обычно начинаю со следующих предложений из его книги воспоминаний «Другие берега»:
«Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я — я, а мои родители — они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе».
Я обычно читаю эти строки студентам тоном особенно таинственным, но при этом не терпящим возражений, — хотя дело тут совсем не в моем тоне: без всяких усилий со стороны чтеца юные любители изящной словесности, к тому моменту уже совершенно изможденные контактом с надменным гением, впадают от этих строк в окончательный транс. И тут я обычно пытаюсь, что называется, разрядить обстановку и спешу рассказать им свою историю, какой бы жалкой она ни казалась по сравнению с цветными вспышками и просветами. Я рассказываю им, что, в известном смысле, не помню себя вообще, или, точнее, что мое прошлое является для меня лукавым зазеркальем, постоянно распадающимся на слои и фрагменты, как будто оно есть копеечный калейдоскоп, который чья-то властная невидимая рука остервенело вращает перед твоим глазом.
Я не помню не то что младенчества, но и толком — отрочества, только отдельные пузыри поднимаются из мутной тьмы и гаснут. Но этому не слишком впечатляющему хаосу противостоит иное, если угодно, событие, движение, ощущение.
Когда мне было восемь лет, мы с Нонной проделывали один из регулярных обходов/дозоров ближайших продуктовых, надеясь поживиться чем-нибудь не совсем унылым. В какой-то момент она скользнула в душный мир бакалеи, а я осталась ждать на облепленным ржавым льдом крылечке. Несколько поскучав, разглядывая свою ядовито-малиновую галошку, я, к своему удивлению, на грани полного непонимания, как такое может происходить, прочитала себе вслух следующий текст, как будто он где-то для меня был записан:
Я выйду ночью на крыльцо,
Услышу разговор,
Что царь на белом свете жил,
Великий Святогор,
Что сестры, Небо и Земля,
Враждуют с давних пор, —
Я выйду ночью на крыльцо,
Услышу разговор.
Когда мама выбралась с добычей из очереди, я и ей прочитала произошедшее. Нонна, чье отношение к поэзии было вполне религиозным, посмотрела на меня изумленно. Я и теперь понимаю ее удивление: первый из явленных мне текстов в метарывке описывал именно такой таинственный и чудный голос (или голоса?), как тот, который только что продиктовал мне этот самый текст.
Категорически не будучи по природе своей Жанной д’Арк с ее амбицией миссии и спасительницы нации, я тут же употребила свои голоса к делу гораздо более скромному и, главное, приятному: вернувшись домой, я взяла тетрадку с косыми линеечками и стала записывать в нее рифмованные соображения обо всем, что попадалось под руку: предметах мебели, натюрмортах на стенах, рассеянно разглядывающих тьму родителях, главное — о меланхолическом коте, которому было суждено стать героем моих детских поэм. Вот этот процесс овладения миром способом письма — это и было начало моей памяти, не существующей, возможно, вполне без таинственной организующей диктовки.

Книги: «Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений», «The Letter Opener»
Воспоминание: тягучий напев
Первое мое воспоминание возвращается фрагментами, полными тепла и света.
Я сижу в высоком стульчике на кухне в нашем доме на Нью-Кингс-роуд в Лондоне. Комнату насквозь пронизывает оранжевый солнечный свет, всё в ней сияет ярким цветом. В глубине движется чья-то тень. На столике передо мной яйцо всмятку уютно устроилось в голубой фарфоровой чашечке. Золотистый желток. Стройный ряд тонких гренок для макания маслянисто блестит.
И где-то посреди этого залитого солнцем момента звучит первая песня, которую я могу вспомнить, — «Because» «Битлз». «Because the sky is blue, it makes me cry» — «Мне хочется плакать, потому что небо голубое». Я и сейчас люблю загадочные слова песни и ее тягучий напев.