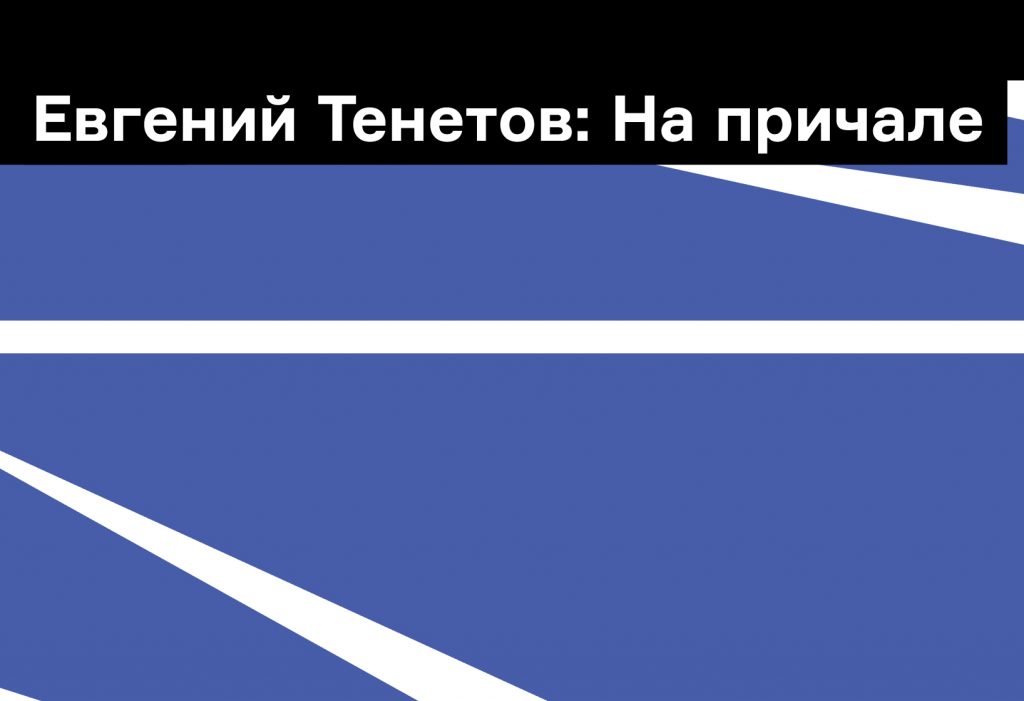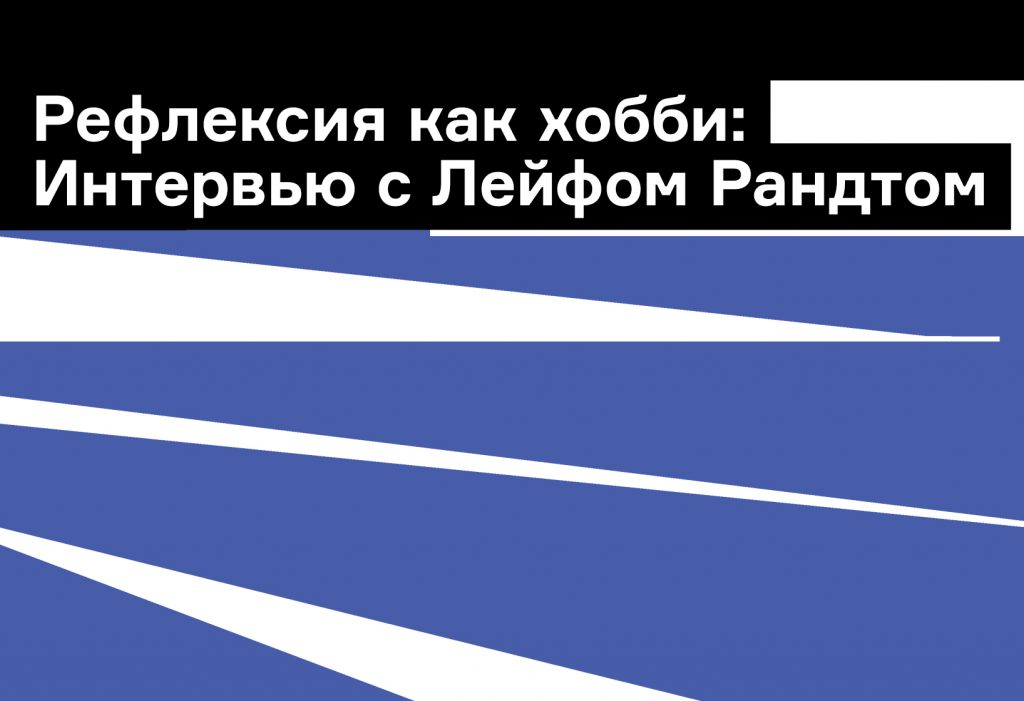Что есть современная литература? Отвечают Галина Юзефович, Лев Данилкин и другие
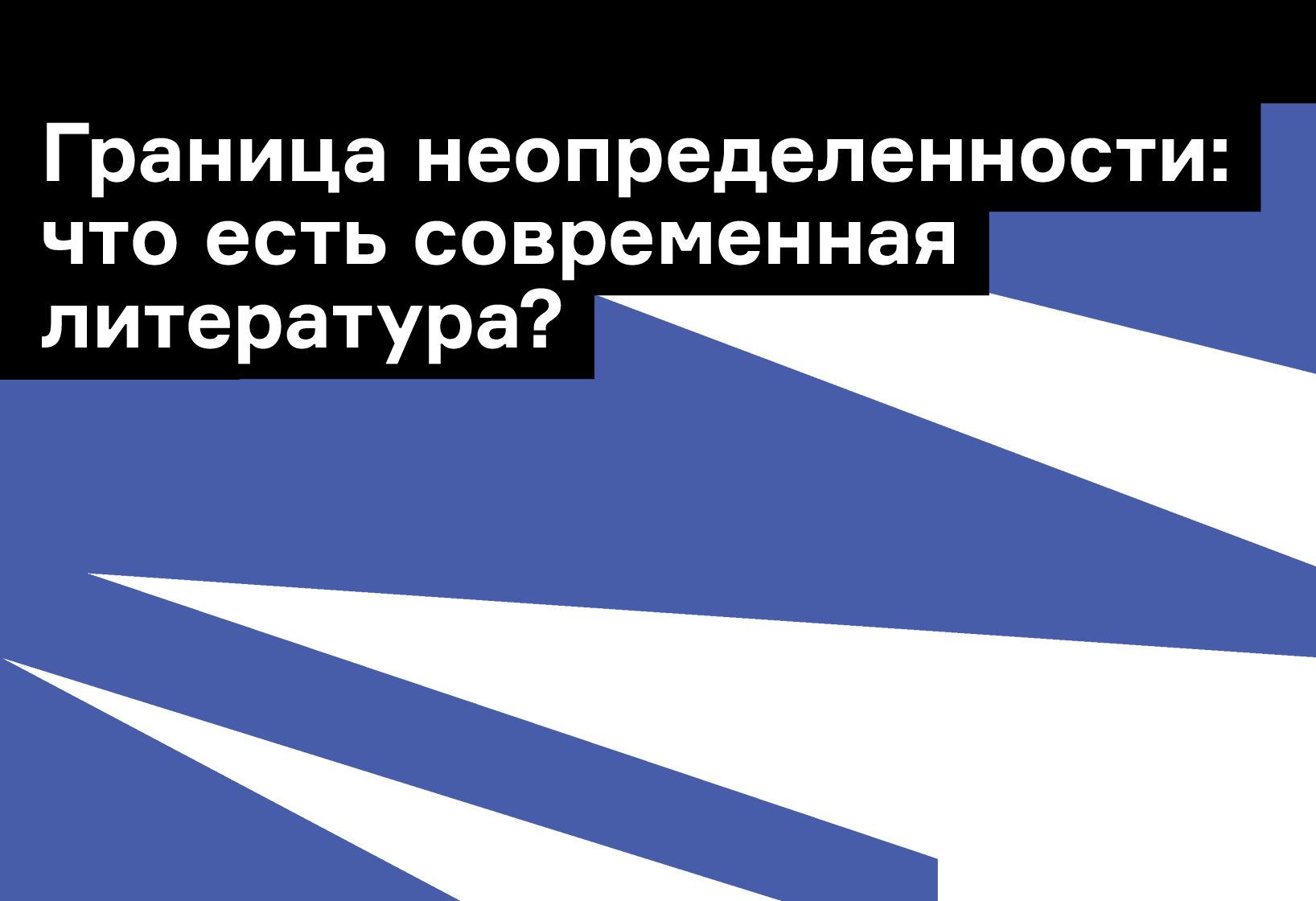
На книжной ярмарке non/fictio№23 мы презентовали литературный фестиваль «Контур» и одноименную газету, исследующую аспекты, в которых развивается литература сегодня. Что же все-таки из себя представляет современная литература? На этот вопрос специально для «Контура» ответили литературные критики.

В период становления национальных государств литература была механизмом создания коллективной идентичности, эмансипации наций — и воспринималась как важная, часто патронируемая государством общественная практика. Иерархия авторов и жанров была продуктом сложных договоренностей элит. В последние двадцать лет, в процессе глобализации, сначала подверглась демонтажу иерархия — и центральные роман и эпос поменялись местами с некогда периферийными «автофикшенами» всех мастей; одновременно и сама литература, «обезвреженная», деидеологизированная в духе времени, стала уступать место — в качестве платформы для производства идентичности жителей постнациональных государств — другим художественным практикам. Феномен литературного, о вымышленном существе, текста, способного, как метеорит, потрясти или даже разрушить политический ландшафт, как это было с «Иваном Денисовичем», более невозможен.
Ирония в том, что в последние два года глобализация вдруг оборвалась, и слухи о скором исчезновении национальных государств оказались преувеличенными. Но литература уже «перестроилась» — и, сделавшись формой свободы от государства, «потеряла постоянную работу», осталась на улице с мало впечатляющим пограничные службы нансеновским паспортом. Новым, настроенным на реванш, одержимым укреплением границ национальным государствам удобнее работать с другими поставщиками идентичности — более зрелищными, более технологичными, более мобильными, прежде всего с модерн-артом; именно поэтому музеев и арт-институций становится всё больше, и суммы в них инвестируются по сравнению с издательствами баснословные.
Перспективы литературы — именно в связи с событиями последних двух лет — не выглядят особенно радужными. Энтузиасты, наслаждавшиеся трансграничными полетами на «машинах памяти и воображения», либо вынуждены будут замерзать под забором, либо их снова отправят «работать на государство» — но теперь уже безо всяких переговоров, на его условиях: отвечать за репрезентацию диктатуры под контролем идеологического отдела. «Белоруссизация» — вот как этот процесс называется.

Возможно, это прозвучит банально, но, на мой взгляд, литература сегодня — это всё то, что претендует на подобное наименование. Опыт Дюшана сто лет назад показал, что в рамках концепции ready-made писсуар вполне может оказаться фонтаном, а сегодня мы легко можем вообразить контекст, в котором литературой окажется текст с упаковки гречки или, допустим, инструкция к роботу-пылесосу. Долгое время слово «литература» имело имплицитный элемент оценки: право зваться литературой еще нужно было заслужить, а само это понятие по умолчанию резервировалось за набором текстов, которые некая экспертная аудитория считала «хорошими» и «достойными». Сегодня, мне кажется, подобный подход безнадежно устарел: мы можем говорить о типах, родах, видах, подвидах и сортах литературы, это осмысленно и продуктивно, но всерьез обсуждать принадлежность к литературе фанфиков, автофикшена, текстов песен, литературной публицистики — это даже не вчерашний, а какой-то позапозавчерашний день. Иными словами, отвечая на вопрос максимально коротко, могу сказать: литература сегодня — это всё то, что желает так называеться и состоит из слов. Последнее, впрочем, тоже опционально: «тихий комикс», в котором слов нет, тоже вполне себе литература.

В начале XXI века границей между «старой» и «новой» литературой была граница эпох — советской и постсоветской. Черты новой — постсоветской — литературы определялись системной трансформацией конца восьмидесятых — начала девяностых, в первую очередь экономической, но также и политической: наступил новый, «безцензурный», свободный этап развития литературы. Правда, эта трансформация имела и оборотную сторону: шок, ощущение кризиса. Способы проживания этого ощущения как раз и поляризовали литературное пространство: «старая» литература восприняла этот кризис в алармистском ключе, переживая конец литературоцентризма как травму идентичности или даже биографический крах, а «новая» — как благо, поскольку если мы и правда никому не нужны, то мы автономны и наконец свободны для спокойной «профессиональной» литературной работы, которой советское наследство, пусть только в виде специфического отношения к литературным ценностям, не требуется. Идентичность, ориентирующаяся на отношение к советскому наследству, — это, собственно, и есть то, что задает границу литературы как постсоветской. В конце 2010-х в литературу пришло новое поколение, которое никогда не жило в СССР и которому важнее не отношение к прошлому, даже травматическому, а настоящее с его проблемами, включая и те, которые хоть и уходят корнями в СССР, но существуют как актуальные-для-нас. Как говорится, уже не важно, кто виноват. Важно, как решать… И вот этот «презентизм» — та граница, которая отделяет «новую» литературу от «старой» — сейчас. И даже «новую новую литературу» от «старой новой».

Сотруднику видеосервиса, вероятно, полагается заявить, что сериалы давно перестали быть исключительно аудиовизуальным искусством и вполне могут состязаться с современной прозой. Что же, не будем обманывать ожидания: проект HBO «Мейр из Исттауна» мне кажется вещью куда более литературной, генетически связанной с традицией высокого реализма, чем рядовой участник какого-нибудь премиального шорт-листа, а «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Николаса Виндинга Рефна — блистательным экспериментальным нарративом, заслуживающим всех «НОСов» в мире.
Иными словами, «современная литература» в такой оптике становится зонтичным понятием для целого спектра явлений. Они могут быть оформлены в форме книги, как хитро устроенный докуфикшен Джулиана Барнса, музыкального альбома, как монструозные записи Славы КПСС, или многочасового телешоу, как «Сопрано», — важнее то, как эти произведения работают с условиями нашего повседневного существования. Главное из которых, на мой взгляд, — ощущение цейтнота, вечный недостаток времени на то, чтобы позволить себе погрузиться в чье-то чужое плотное повествование. Собственно, «дробное» против «цельного» и есть, по-моему, основная интрига «современной литературы» — какую бы форму она ни принимала.

При общих трендах для меня более ощутимы различия между литературными процессами на Западе и у нас. В то время как современная западная проза мгновенно схватывает общественные настроения и расширяет свою сферу влияния благодаря понятному и довольно популярному сегменту upmarket, не чуждому и языковых экспериментов, наш рынок продолжает сужаться и поляризоваться. Тиражи по-настоящему новаторских текстов, обрабатывающих современную действительность, не превышают двух-трех тысяч экземпляров, а всеобщее признание до сих пор достается традиционным романам, переосмысляющим события прошлого века и использующим паттерны «великой русской литературы». Главными героями в них становятся люди прошлой эпохи, с которыми проще ассоциировать себя довольно консервативным читателям 40+. Очень сложно вывести на рынок новых авторов, пишущих в иной манере, нежели мастодонты 1990-х. Актуальные новинки для миллениалов с хорошо выстроенной композицией и крепким конфликтом можно пересчитать по пальцам, спрос здесь сильно превышает предложение. Хочется сместить фокус современной российской прозы на настоящее: проблемы сегодняшнего (и завтрашнего) дня, новый живой язык, портрет тридцатилетнего горожанина, трансформацию его отношений с окружающей действительностью и другими людьми, чтобы наша проза поспевала за меняющейся реальностью, постепенно становилась интересной и для зарубежного читателя тоже.