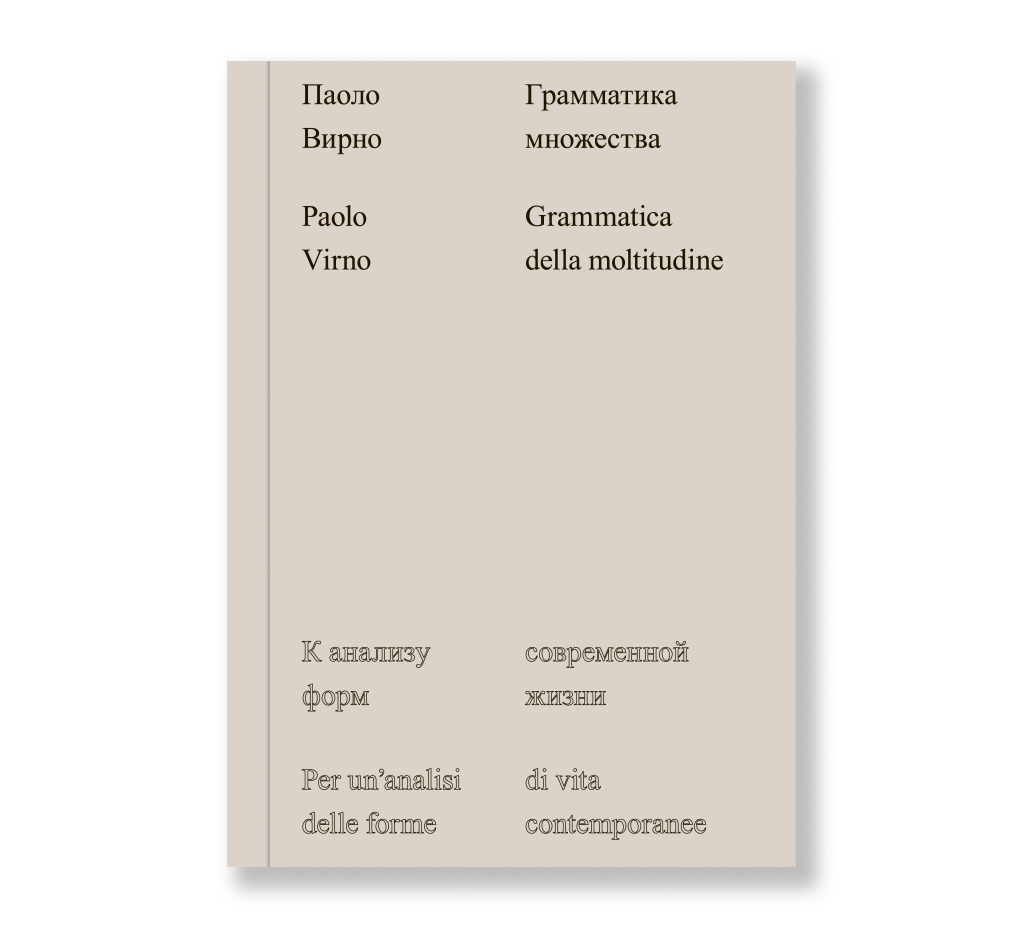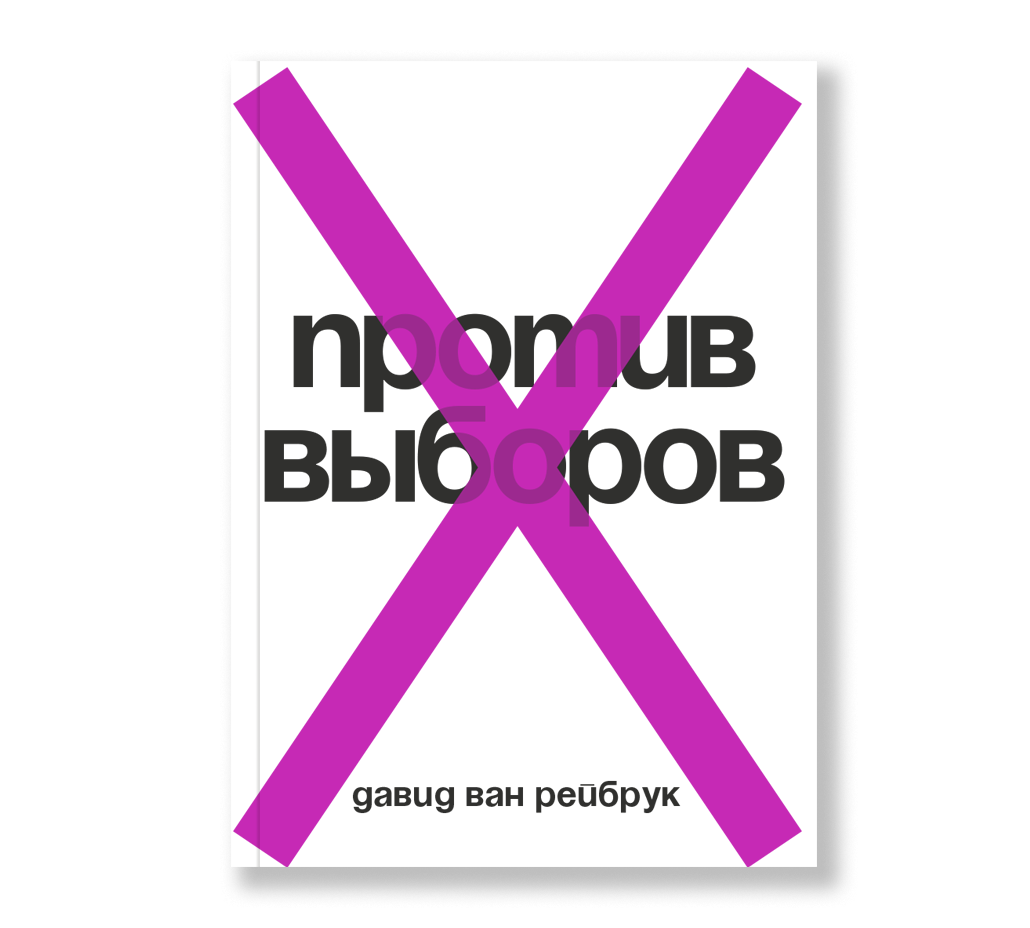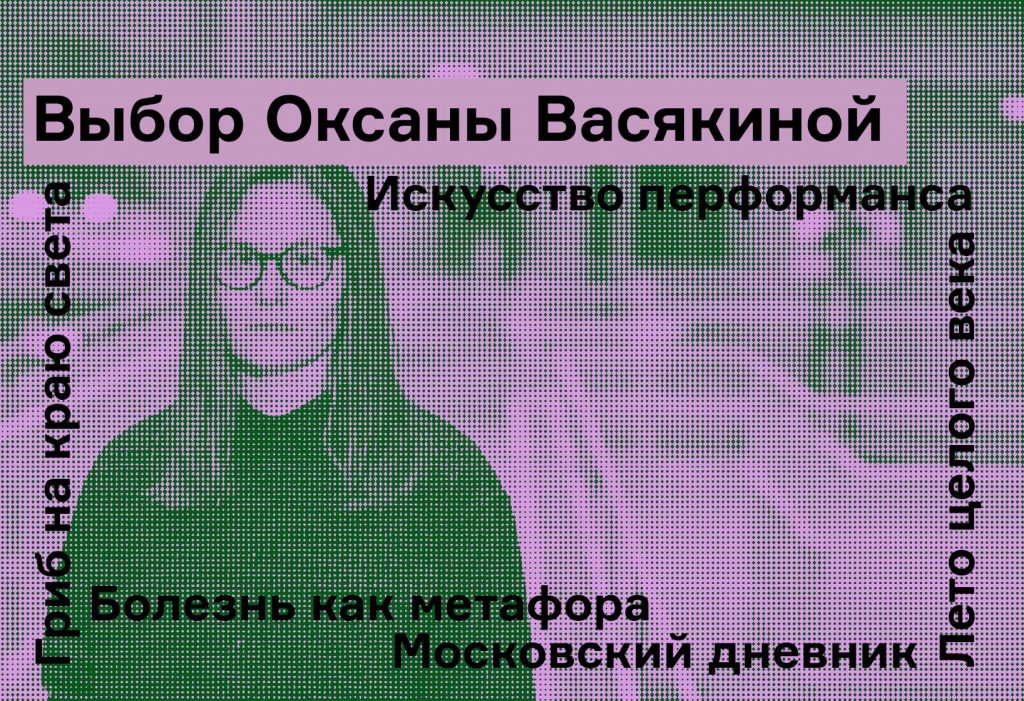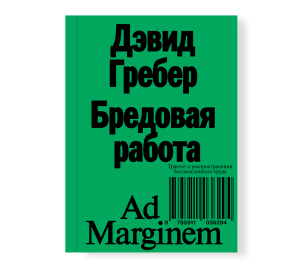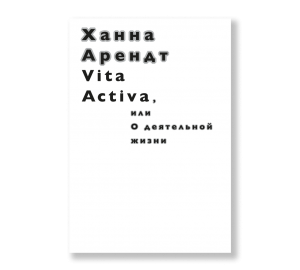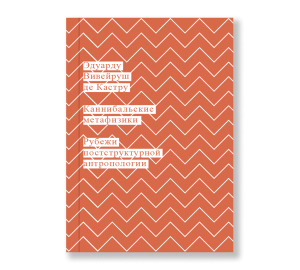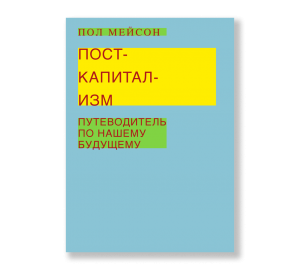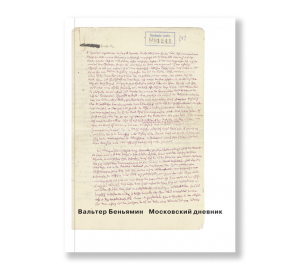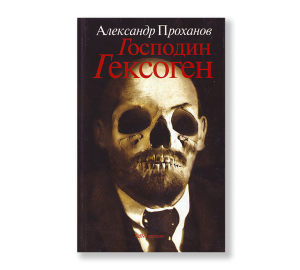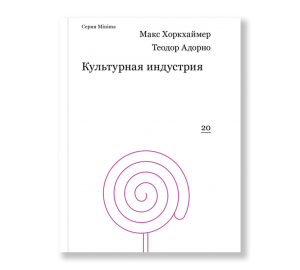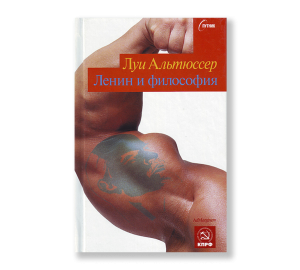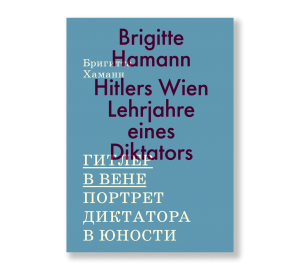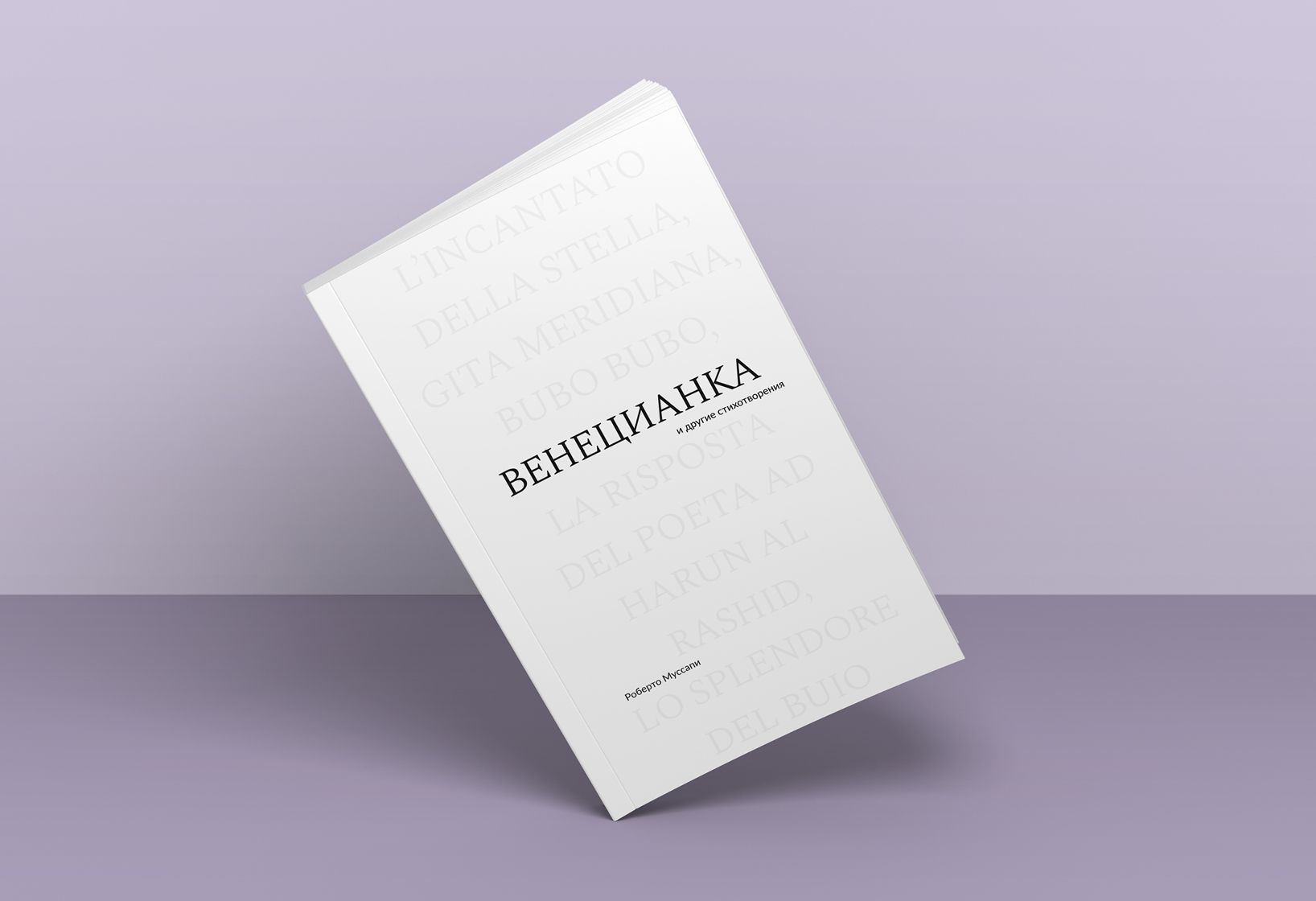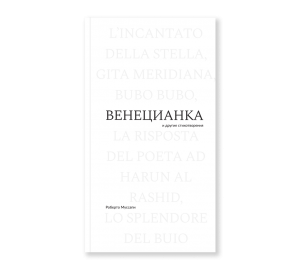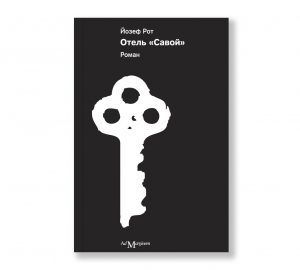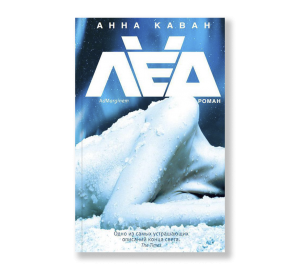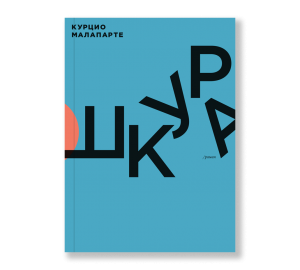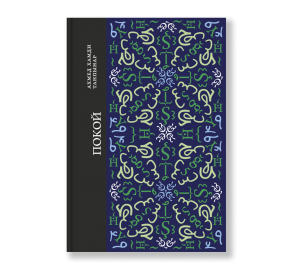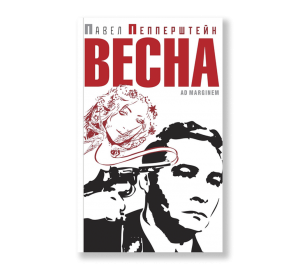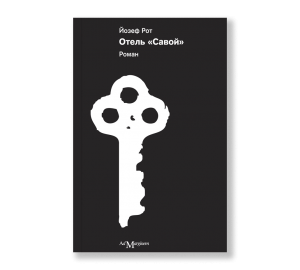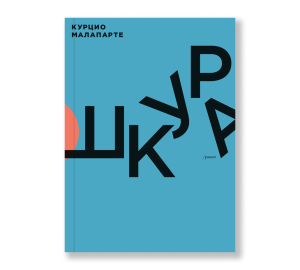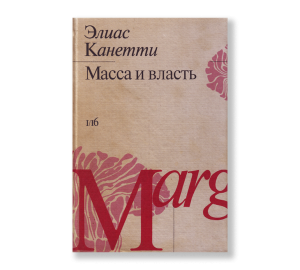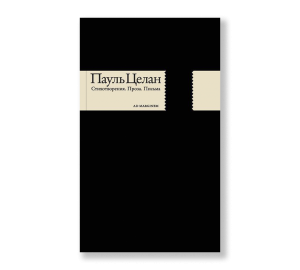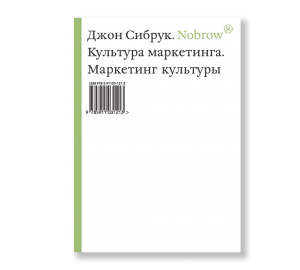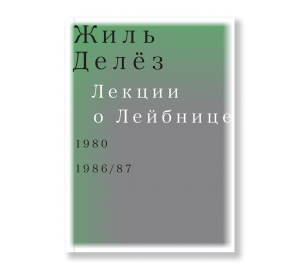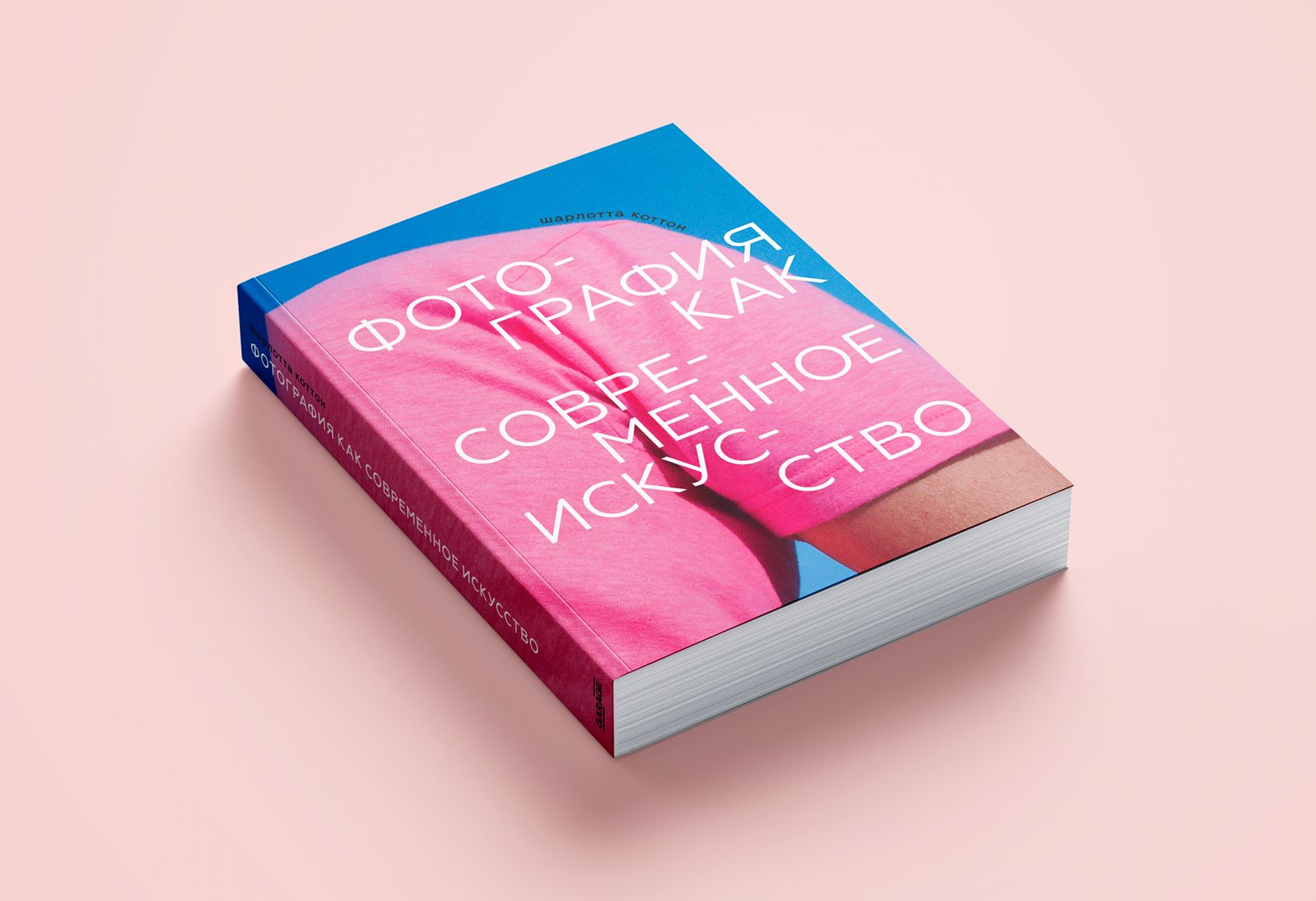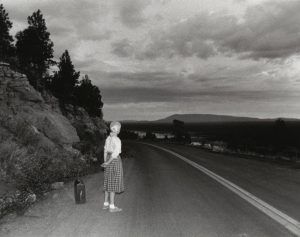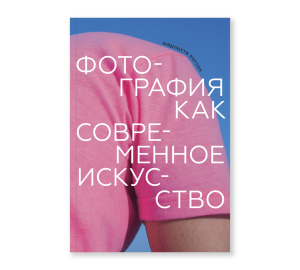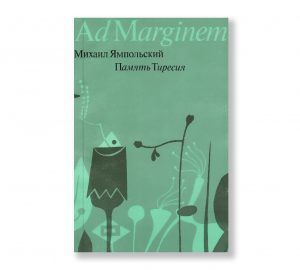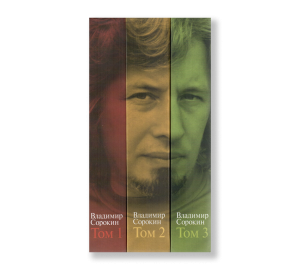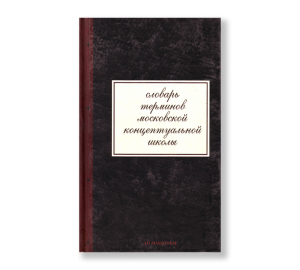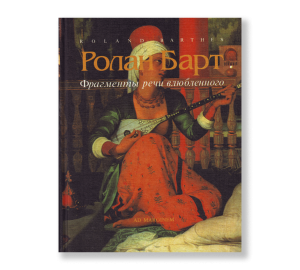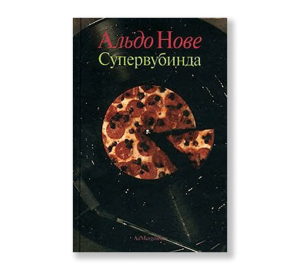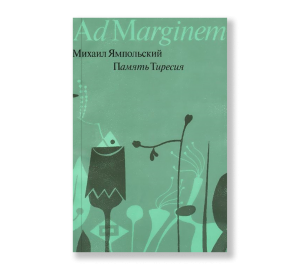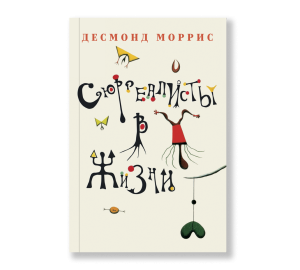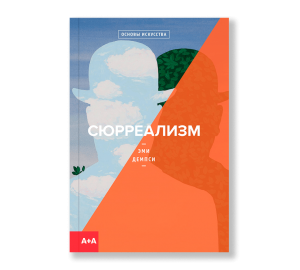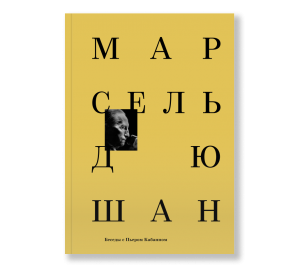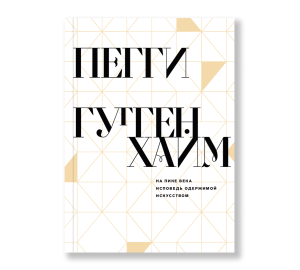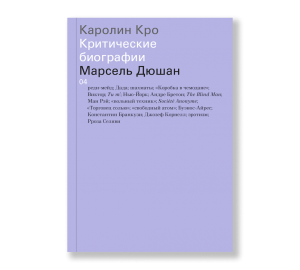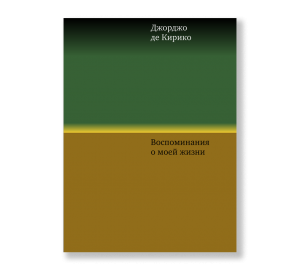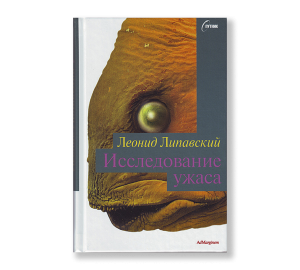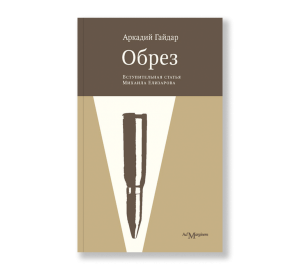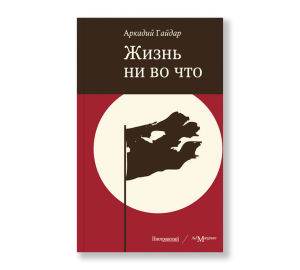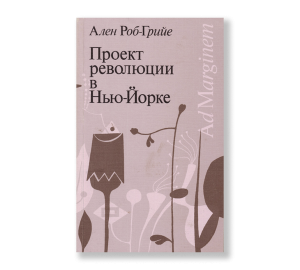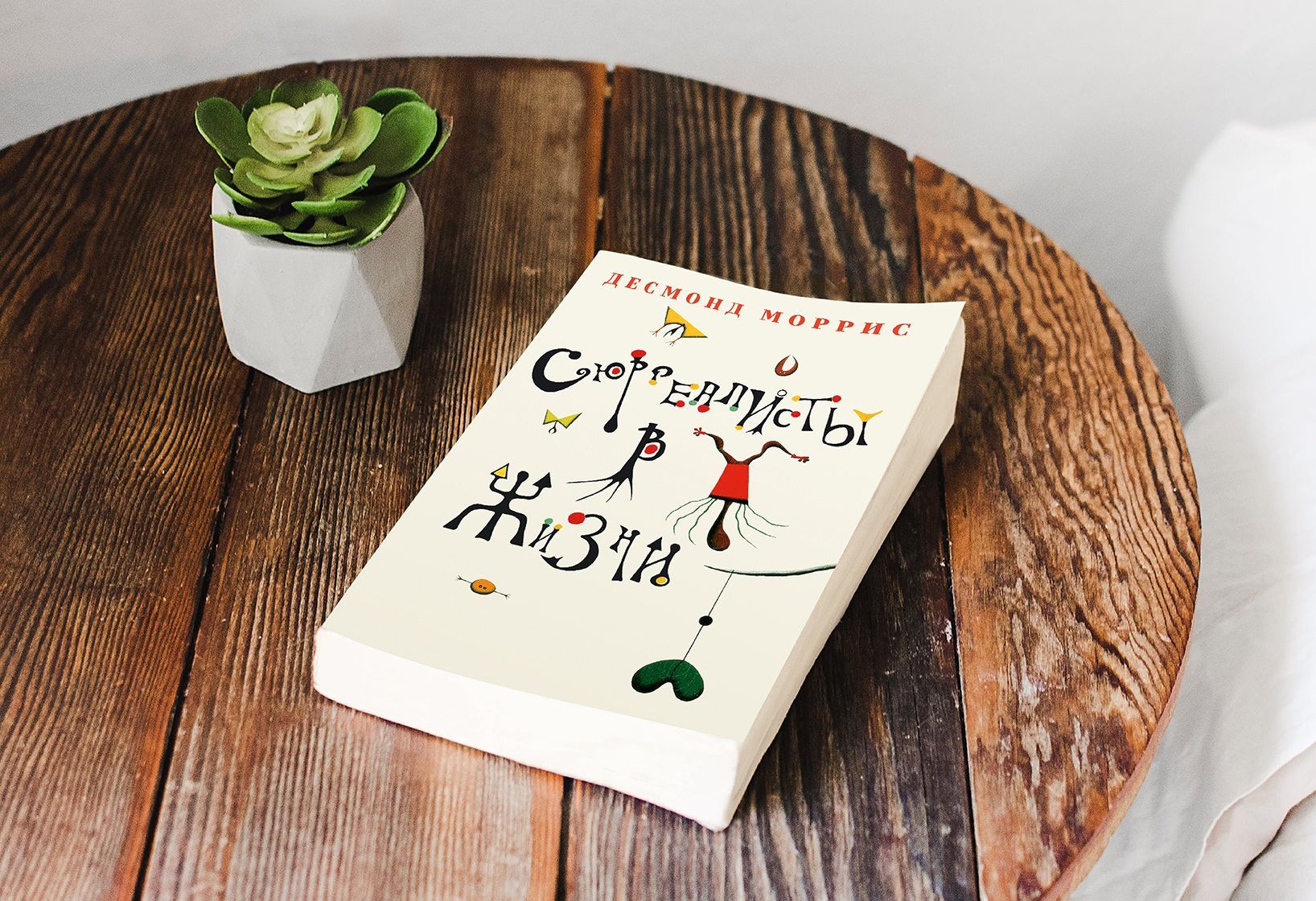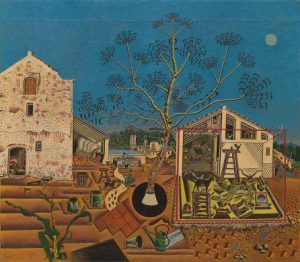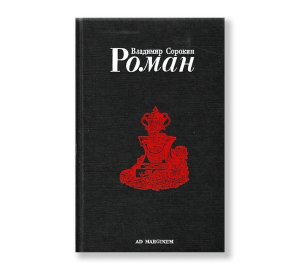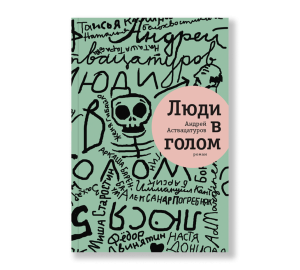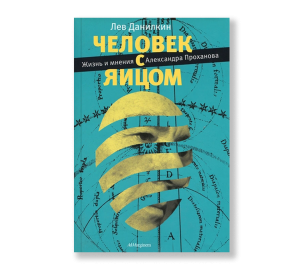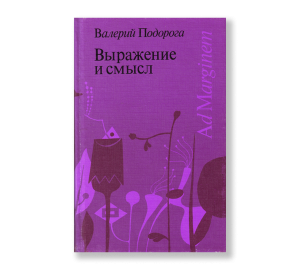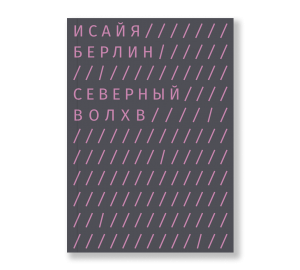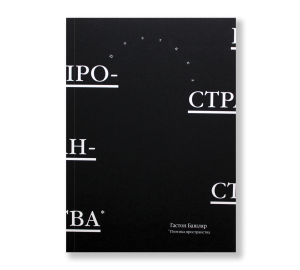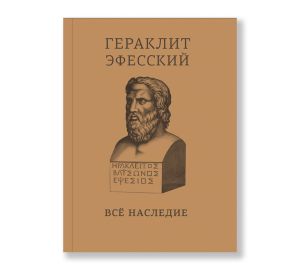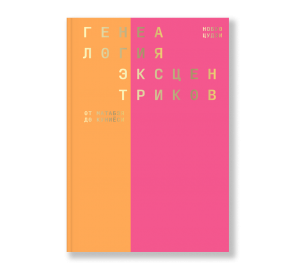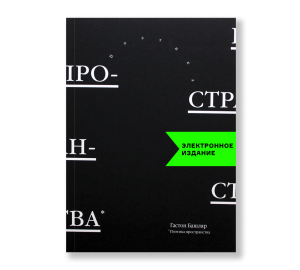Григорий Юдин* о любимых книгах Ad Marginem

Философ и социолог Григорий Юдин — о трех любимых книгах издательства Ad Marginem.
Григорий Юдин*

Паоло Вирно «Грамматика множества: к анализу форм современной жизни»
Цикл семинаров Паоло Вирно быстро стал одной из наиболее влиятельных и мощных книг в современной политической мысли. Вирно доступным языком излагает радикальные элементы итальянского постопераизма — возможно, самого действенного субверсивного движения за последние полвека. Современные революции, уличные демонстрации и массовые движения развиваются по сценарию, описанному Вирно. Вирно разъясняет их особую логику и динамику с уже привычными атрибутами — непредсказуемостью, мгновенной мобилизацией, негативной повесткой, внезапным исчезновением и призраком Гая Фокса.
Ключевой вопрос, на который Вирно пытается ответить — кто является субъектом этих движений. Он схематично противопоставляет понятию «народа» понятие «множества», а философии Гоббса — философию Спинозы, показывая, как из-под напластования репрессивных идеологических форм последних четырехсот лет вновь появляется подлинный демократический субъект. Аргумент Вирно состоит в том, что это происходит благодаря трансформации труда — множество составляют работники «культурных индустрий». Их труд состоит главным образом в коммуникации и потому, с одной стороны, они знают ключ к преодолению отчуждения, а с другой — использование этой коммуникации капиталом в целях извлечения прибыли переживается ещё более болезненно. Книга Вирно — безусловно, лучший путеводитель по современной подрывной, неинституциональной политике, и лучший словарь для её описания.
Дэвид Гребер «Долг: первые 5000 лет истории»
Благодаря этой книге Дэвид Гребер превратился из известного в узких кругах антрополога-анархиста в одного из основных англоязычных публичных интеллектуалов и экономических аналитиков. «Долг» появился как осмысление кредитного кризиса 2008–2009 годов, и желания автора разобраться с неожиданным, но удивительно актуальным вопросом: почему, собственно мы считаем, что долги всегда нужно возвращать? И почему от рядовых граждан мы ожидаем безоговорочного возвращения долгов, а к невозврату гораздо более крупных долгов со стороны крупного бизнеса относимся спокойно?
Чтобы ответить на эти вопросы, Греберу пришлось написать целую энциклопедию экономической антропологии. Он последовательно показывает ошибочность господствующих в экономической науке представлений о природе экономического обмена, денег и обязательств. Благодаря этому становится очевидно, что долг — это в первую очередь моральная проблема, и повторяющиеся раз за разом кредитные кризисы сами связаны с нашим стремлением видеть в долги узко экономическое явление. Вопреки своей нелюбви к теории идеологий, Гребер фактически предлагает мощный анализ неолиберализма как идеологии, которая учит каждого из нас чувствовать угрызения совести за взятые долги, не интересуясь обстоятельствами, при которых эти долги возникают.
Бельгийский публицист и политический активист Давид ван Рейбрук давно занимается продвижением жребия как способа отбора граждан в представительные органы. За стремлением реанимировать жребий стоит беспокойство по поводу судьбы демократии в современном мире: люди всё меньше доверяют политикам и всё реже хотят участвовать в выборах. Возможно, это связано с тем, что существующие системы представительной демократии не отражают их интересы? Что будет, если рекрутировать представителей из граждан случайным образом? Опыт ван Рейбрука показывает, что вопреки всем страхам о «кухарке, управляющей государством», отобранные жребием группы быстро включаются в процесс обсуждения решений, начинают разбираться в теме достаточно хорошо для осмысленной дискуссии и сильнее заинтересованы в отслеживании того, как выполнятся решения.
Однако огромный интерес, который вызвала по всему миру книга ван Рейбрука, связан не столько с идеей использовать жребий, сколько с критической частью текста. Опираясь на крепкую традицию в политической теории демократии, ван Рейбрук доступно демонстрирует, что выборы никогда не были демократическим институтом и исторически всегда использовались для того, чтобы ограничить и сократить демократию, а не для того, чтобы её расширить. Исторический и анализ выборов и голосования даёт представлению о проблеме, которой обеспокоены многие современные теоретики демократии — проблеме электорализации политики. Для того, чтобы увеличить гражданское участие и демократическое управление, потребуется не распространять, а сокращать электоральные процедуры. Книга ван Рейбрука позволяет задуматься о том, что в действительности является демократическим в современных демократиях, а что — нет, и в какую сторону мы хотели бы их менять.
* Григорий Юдин признан Минюстом иностранным агентом.