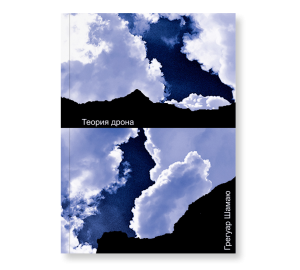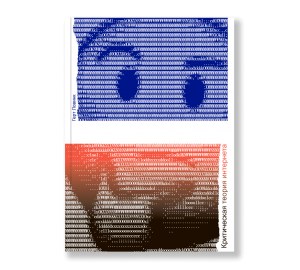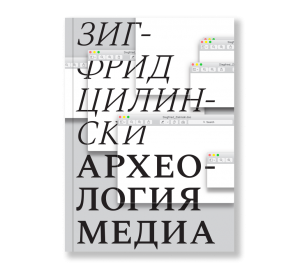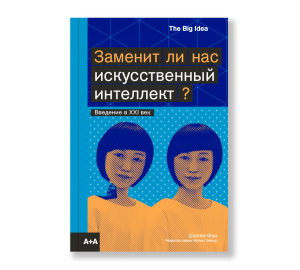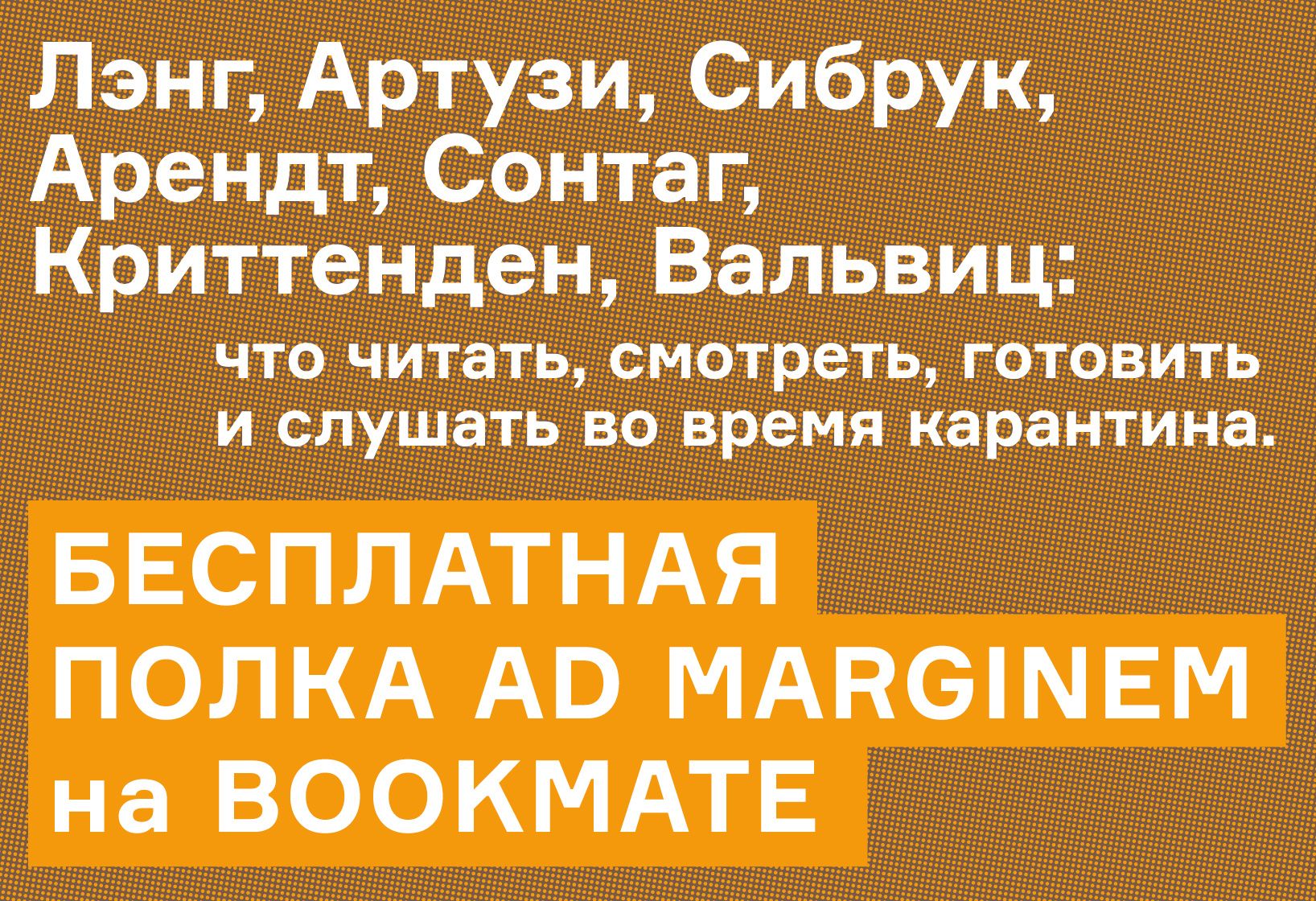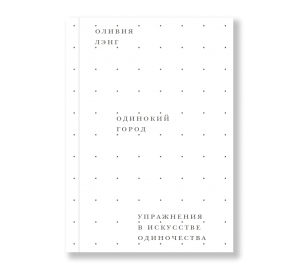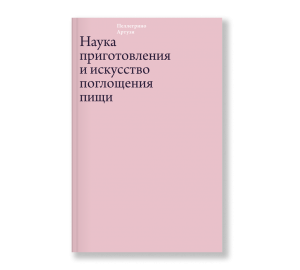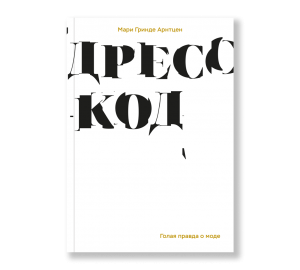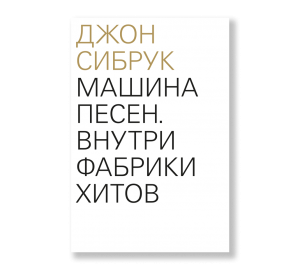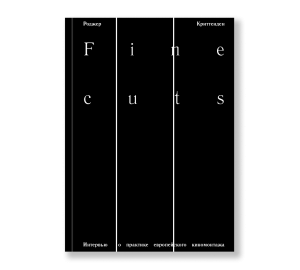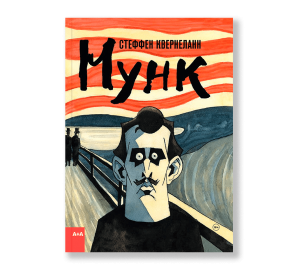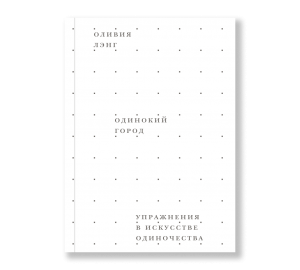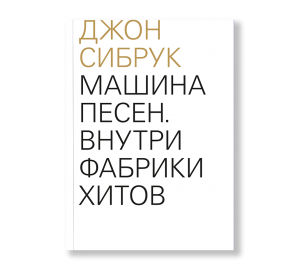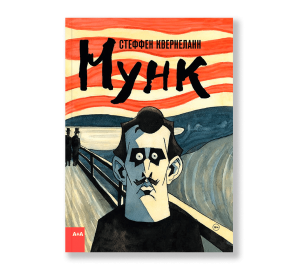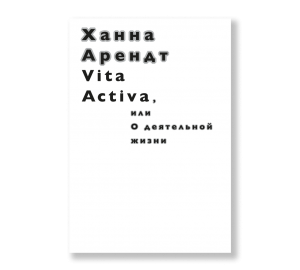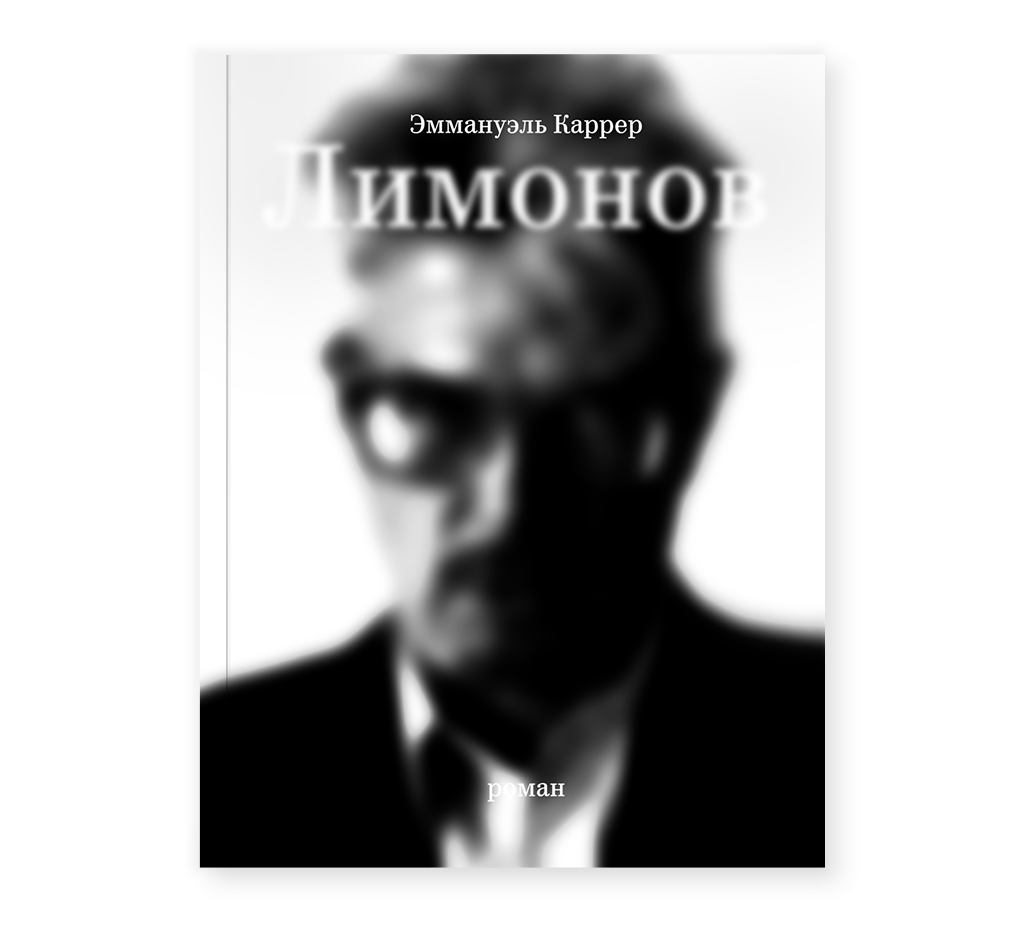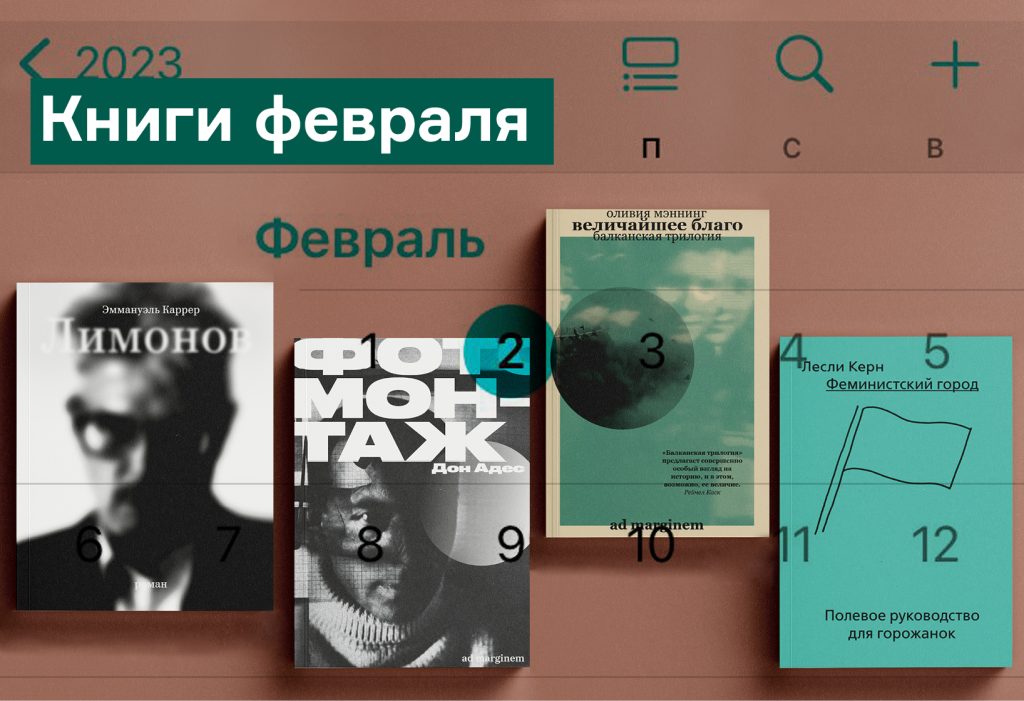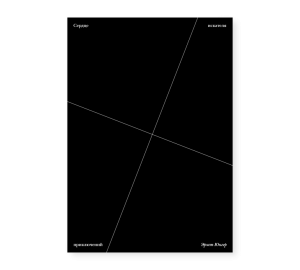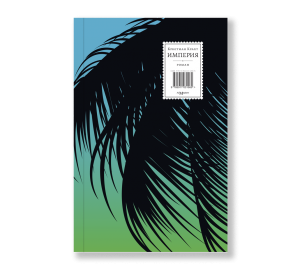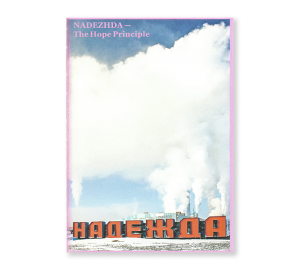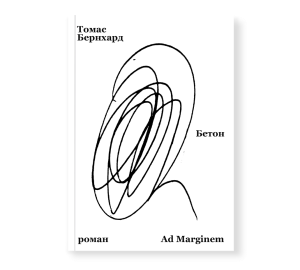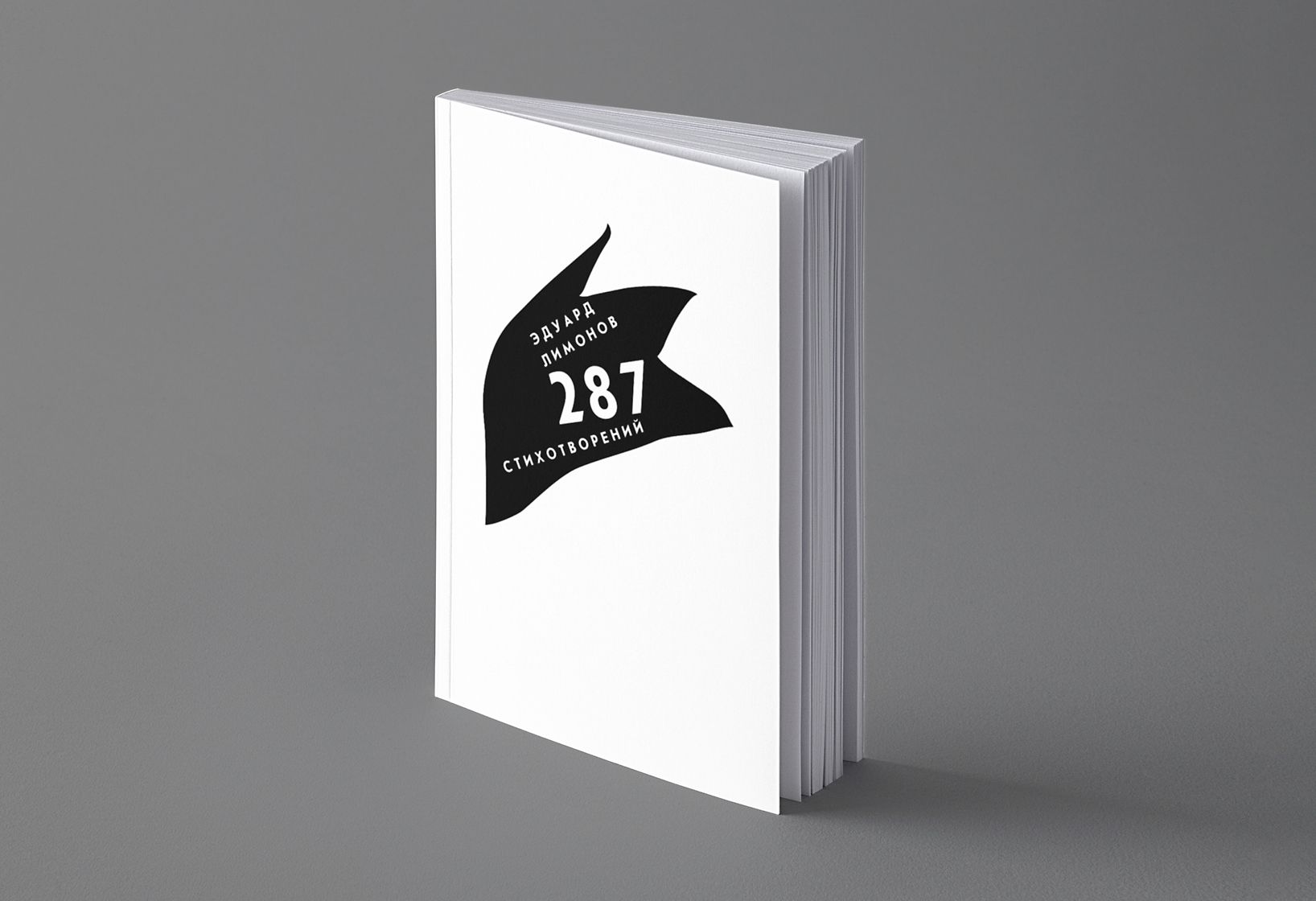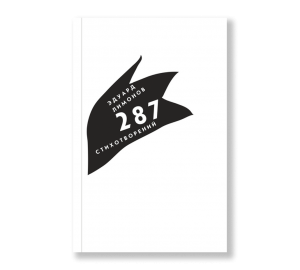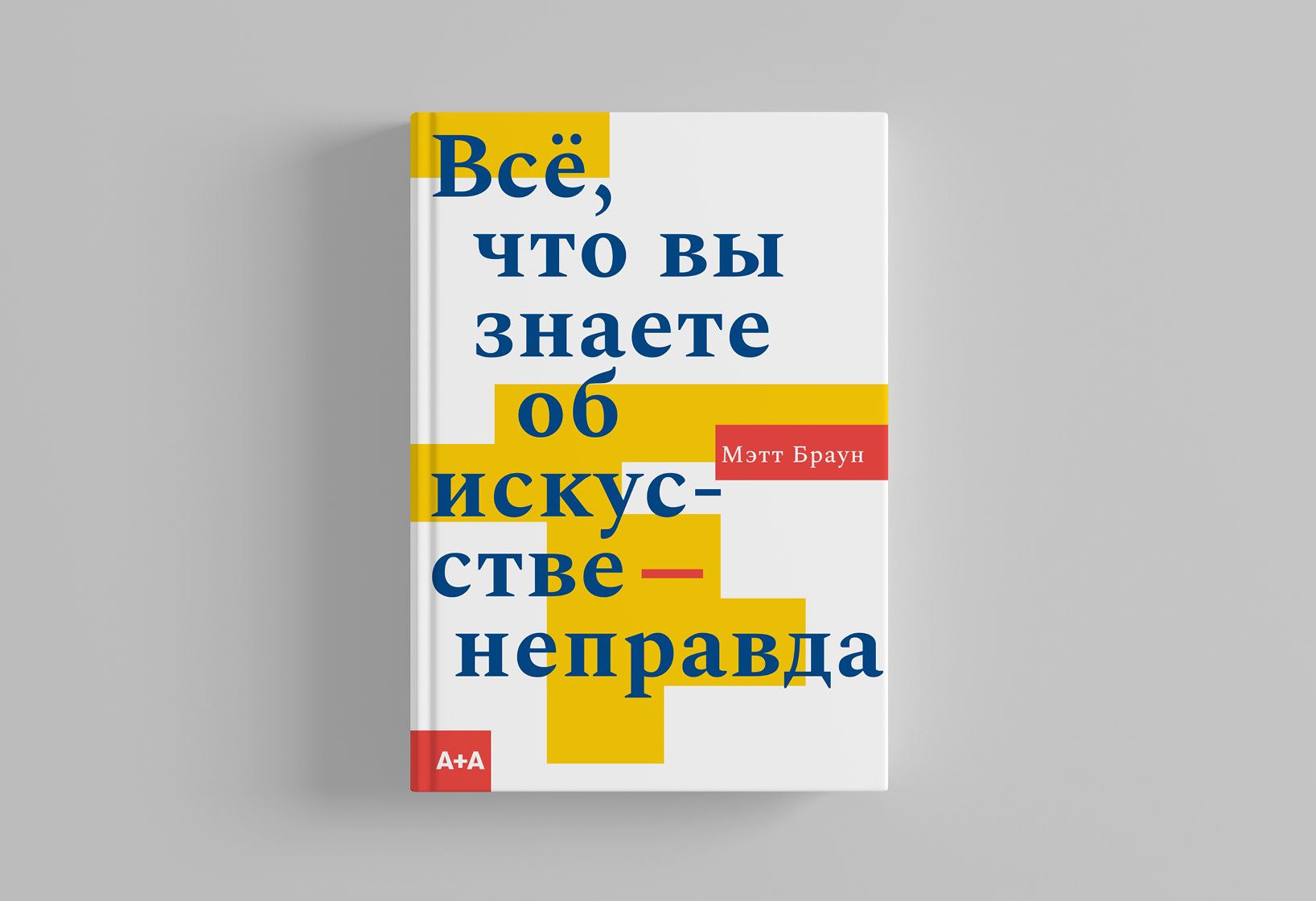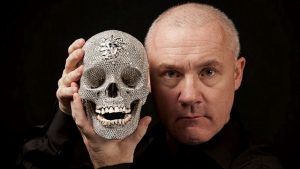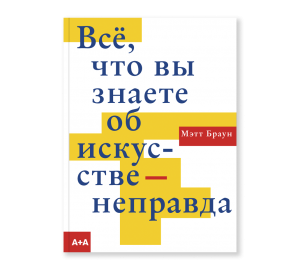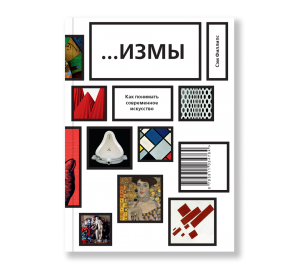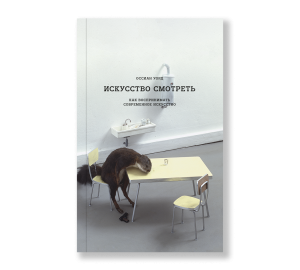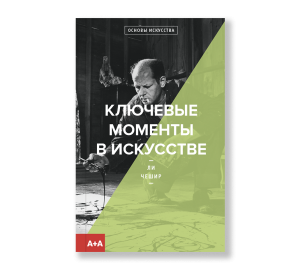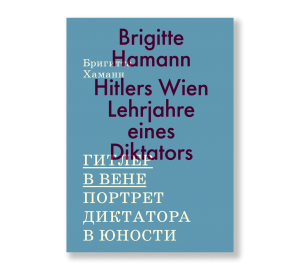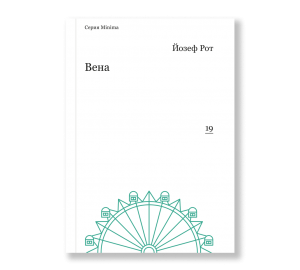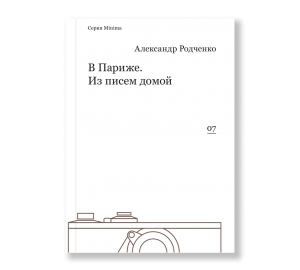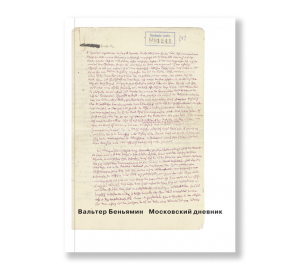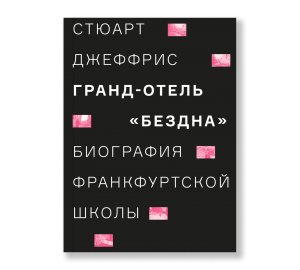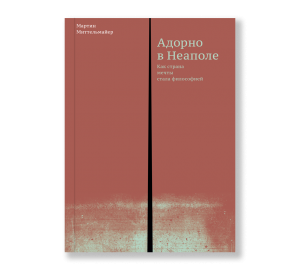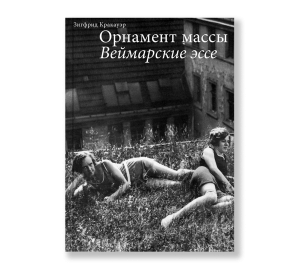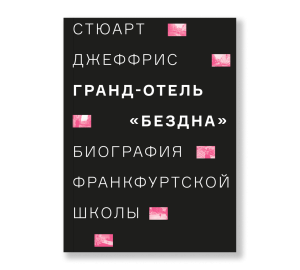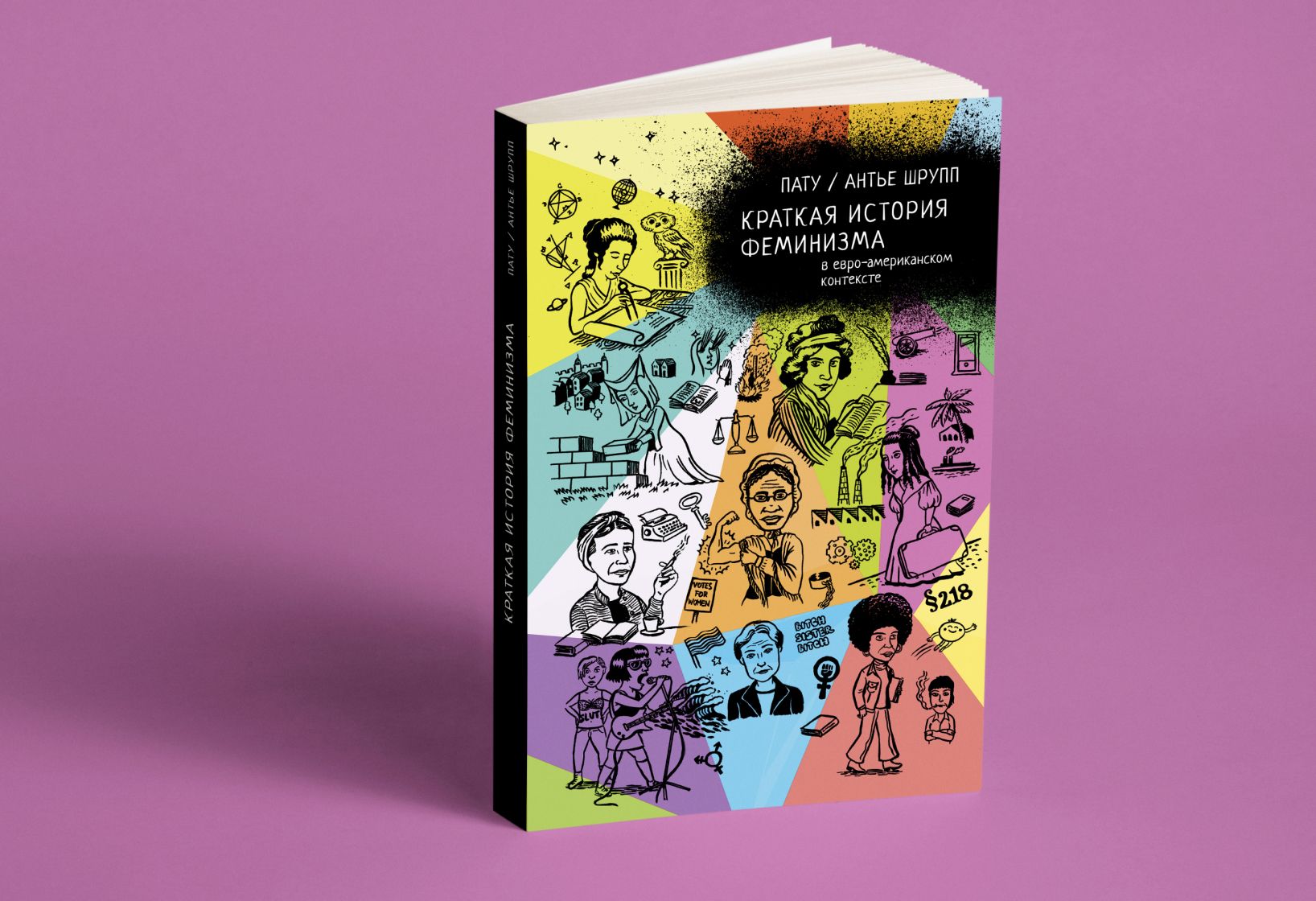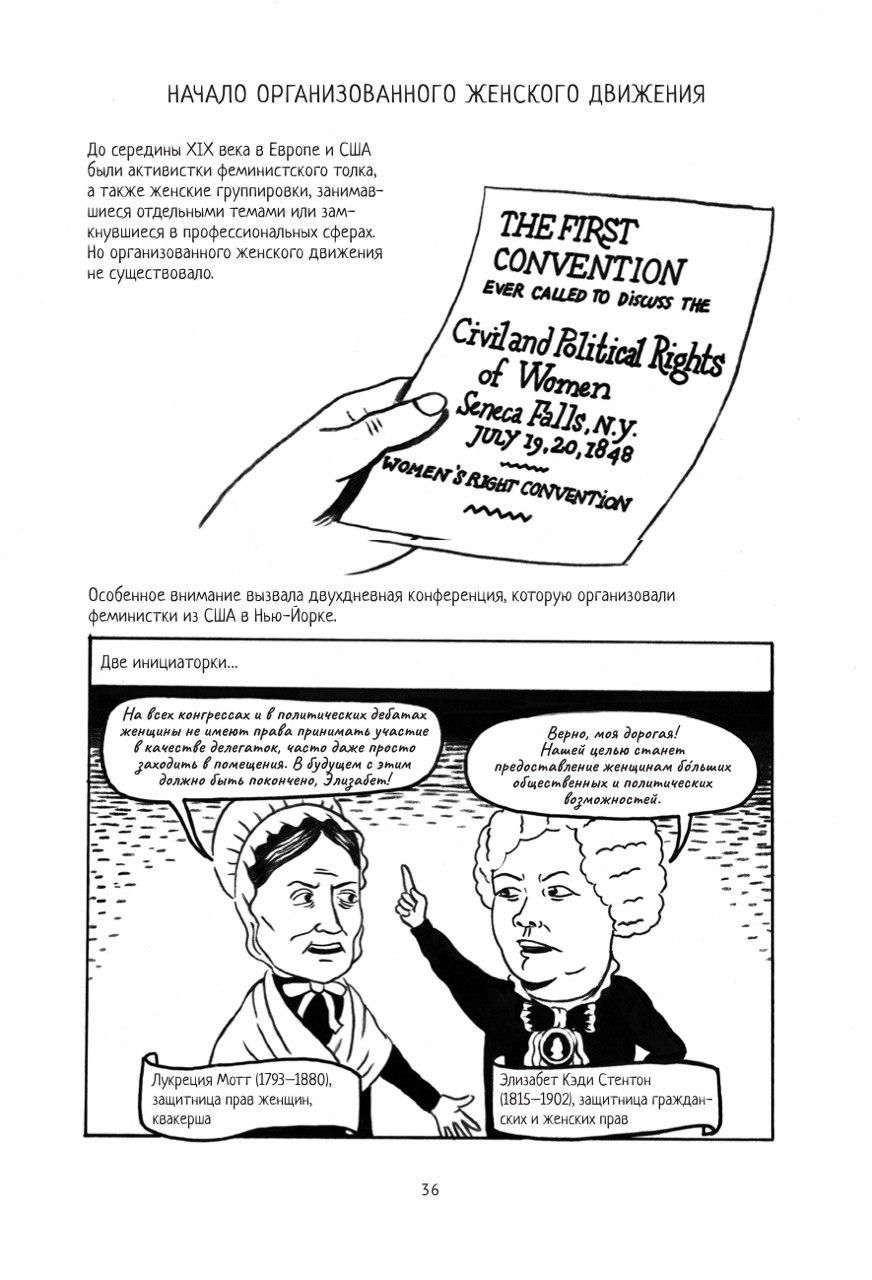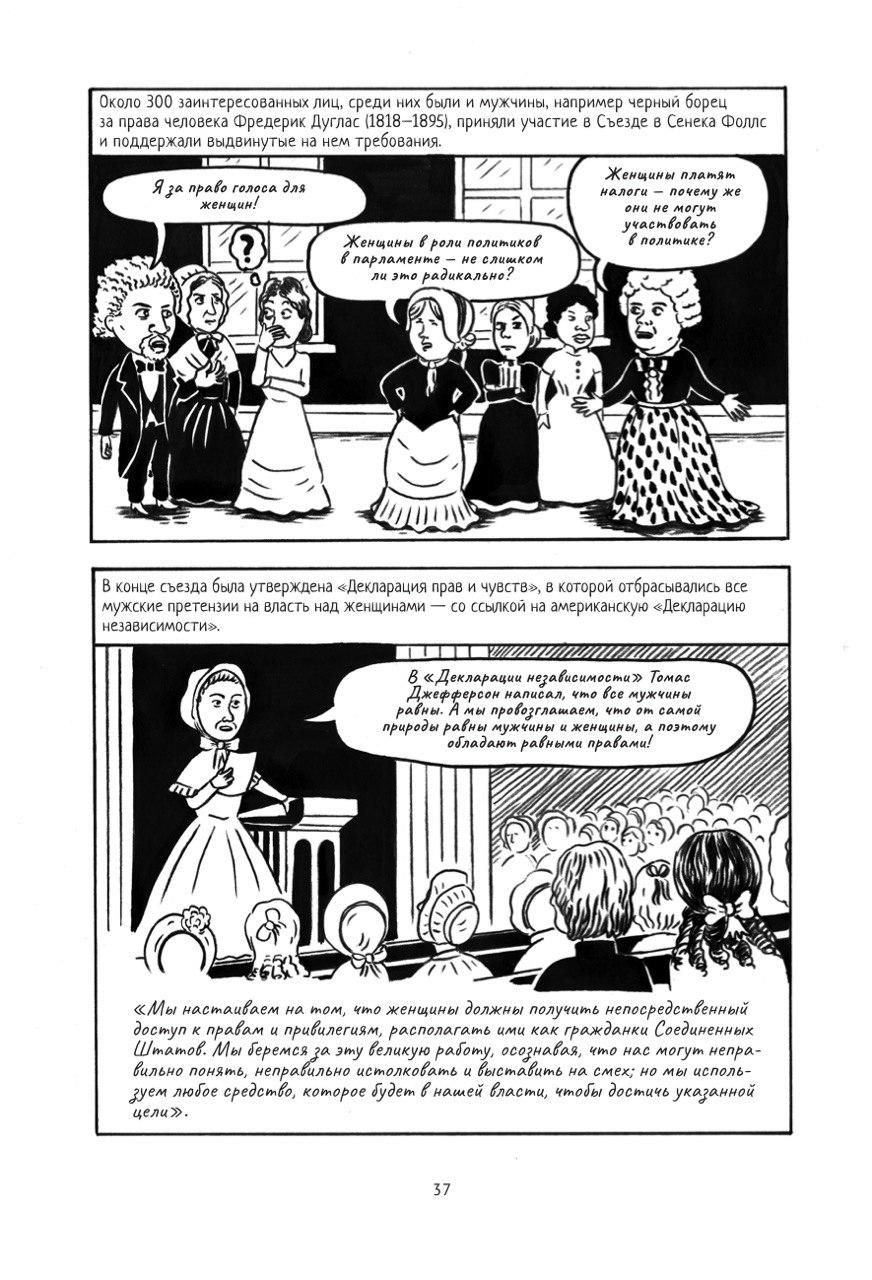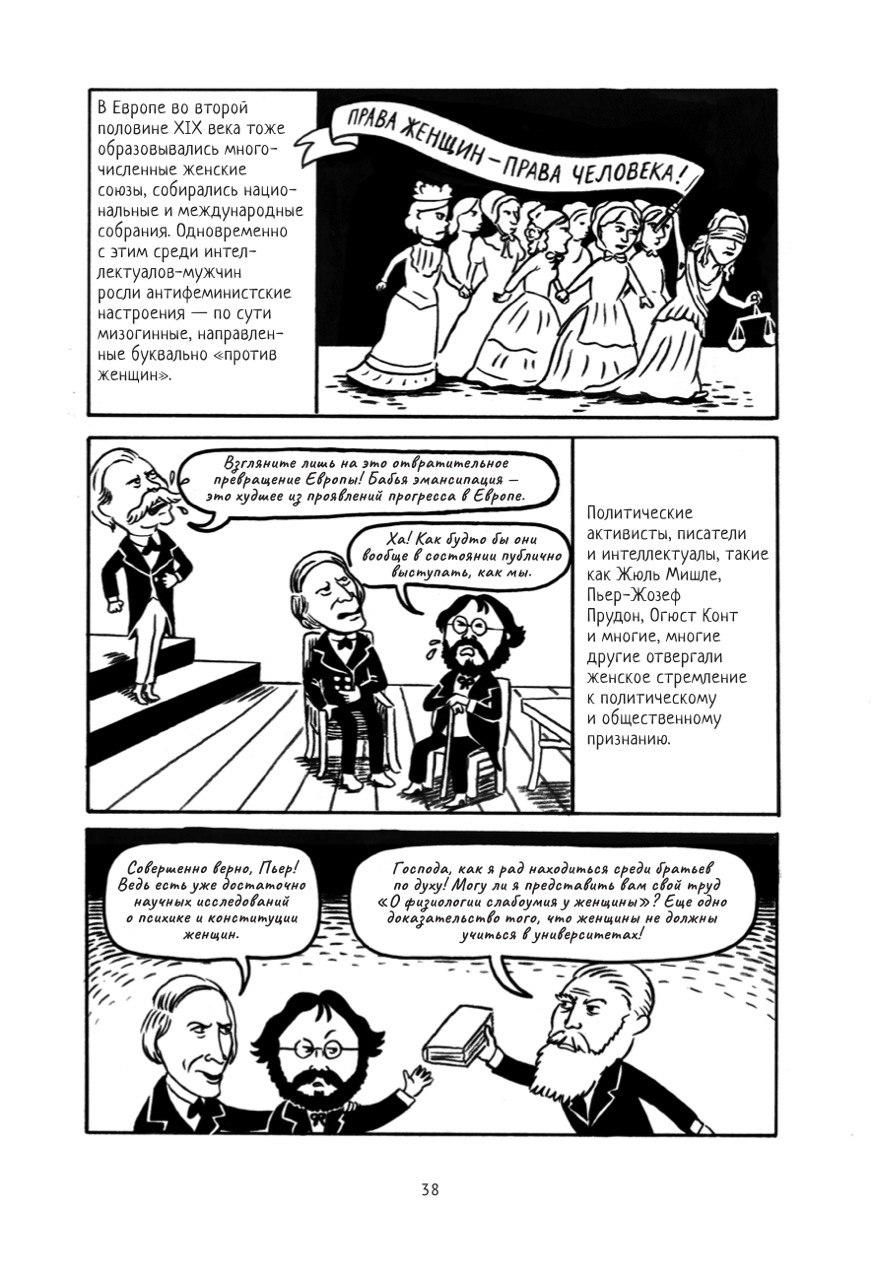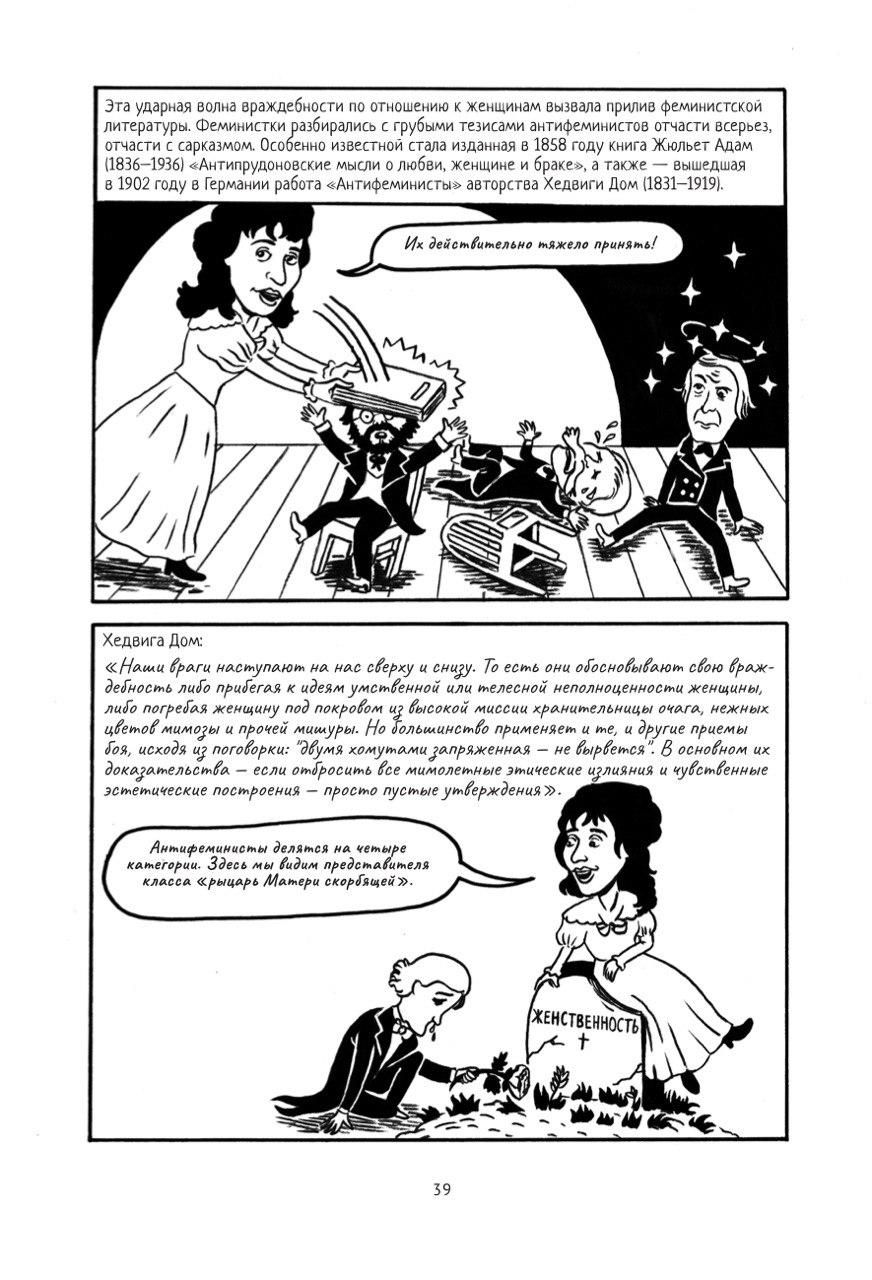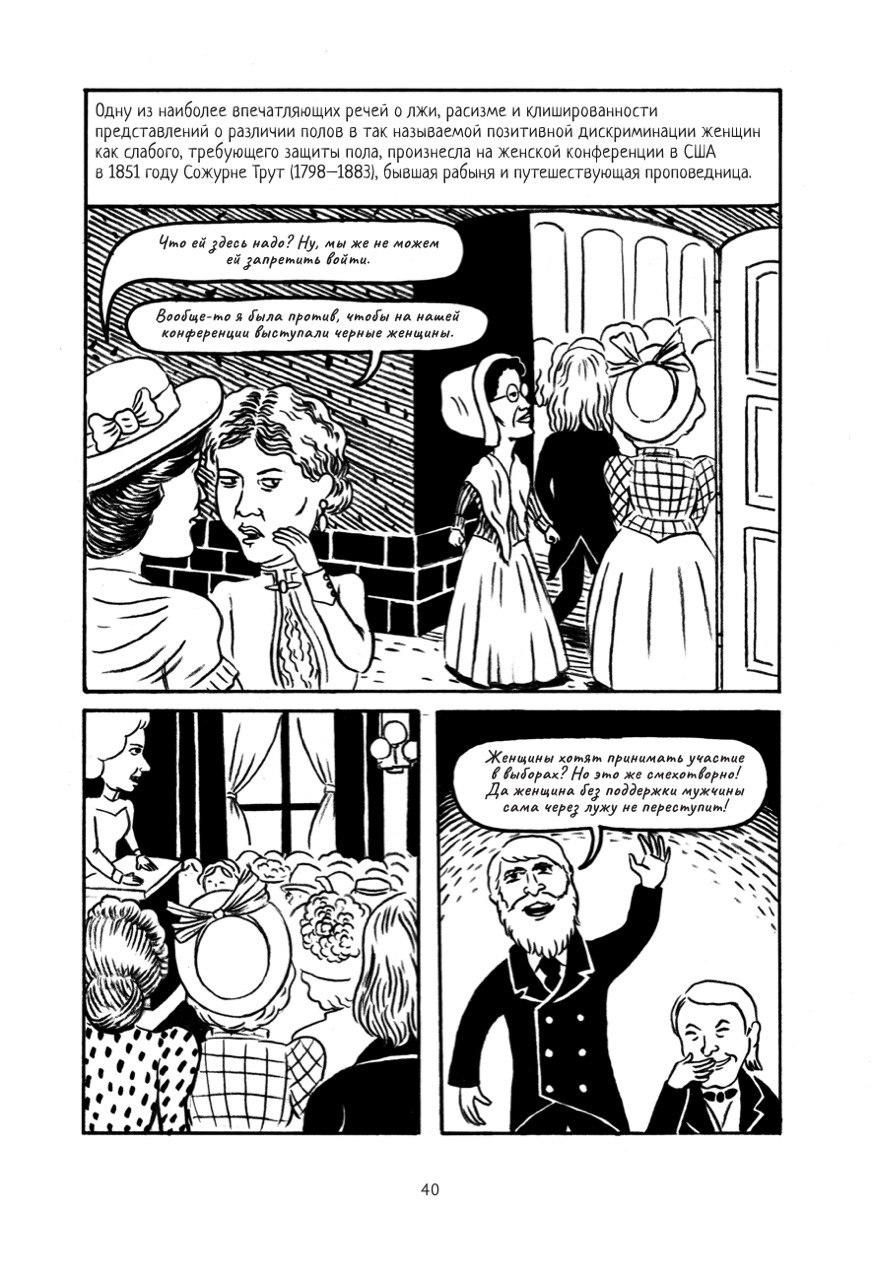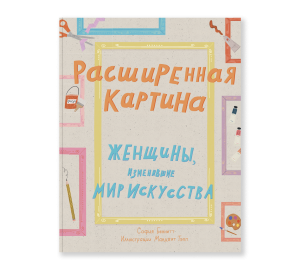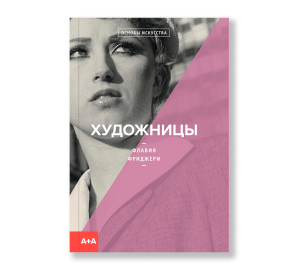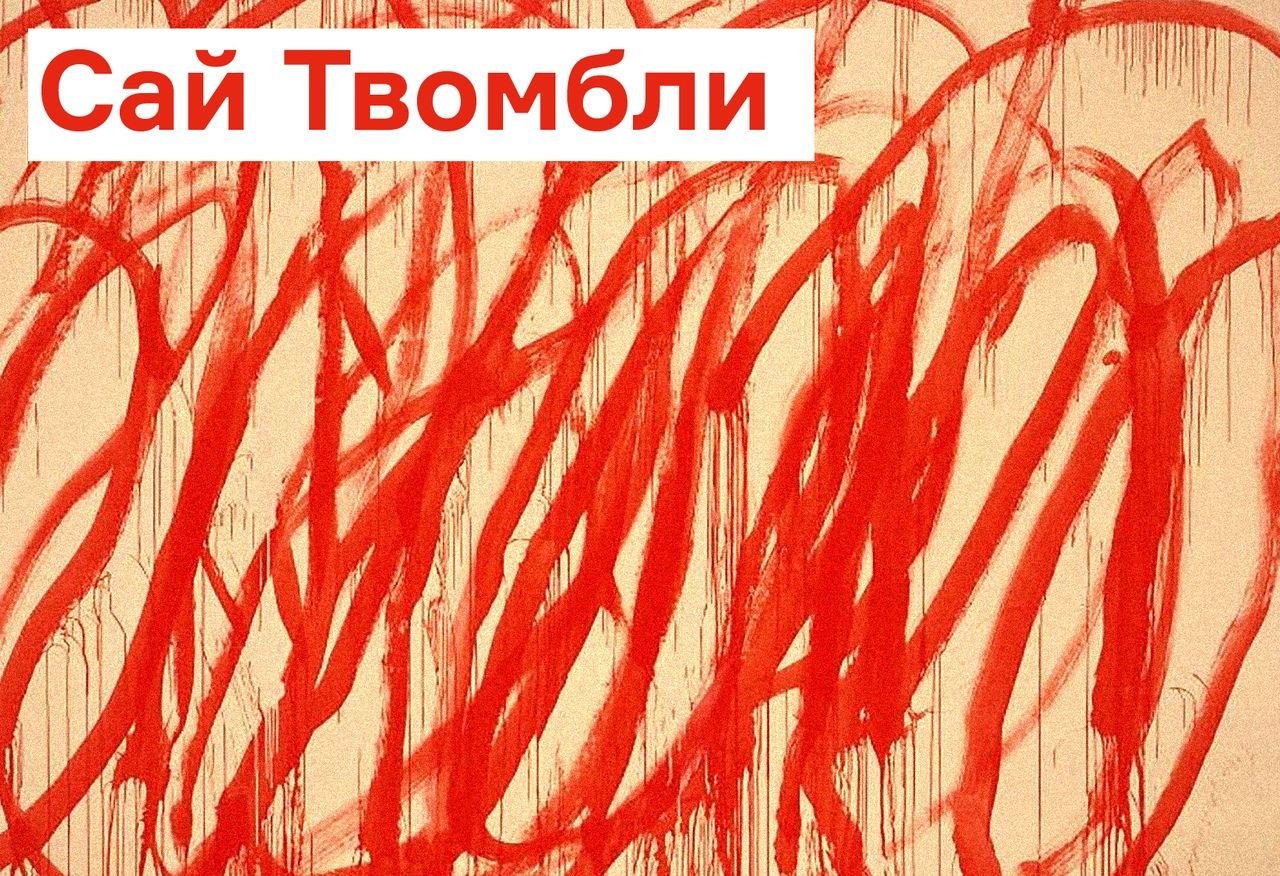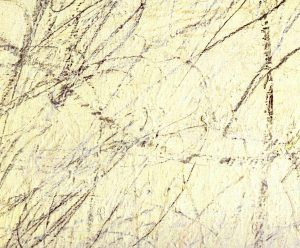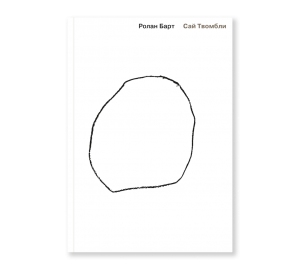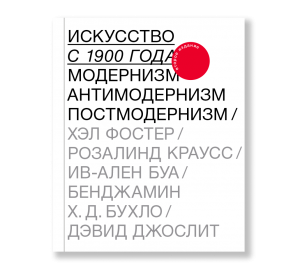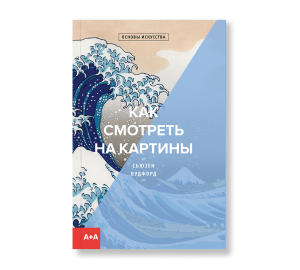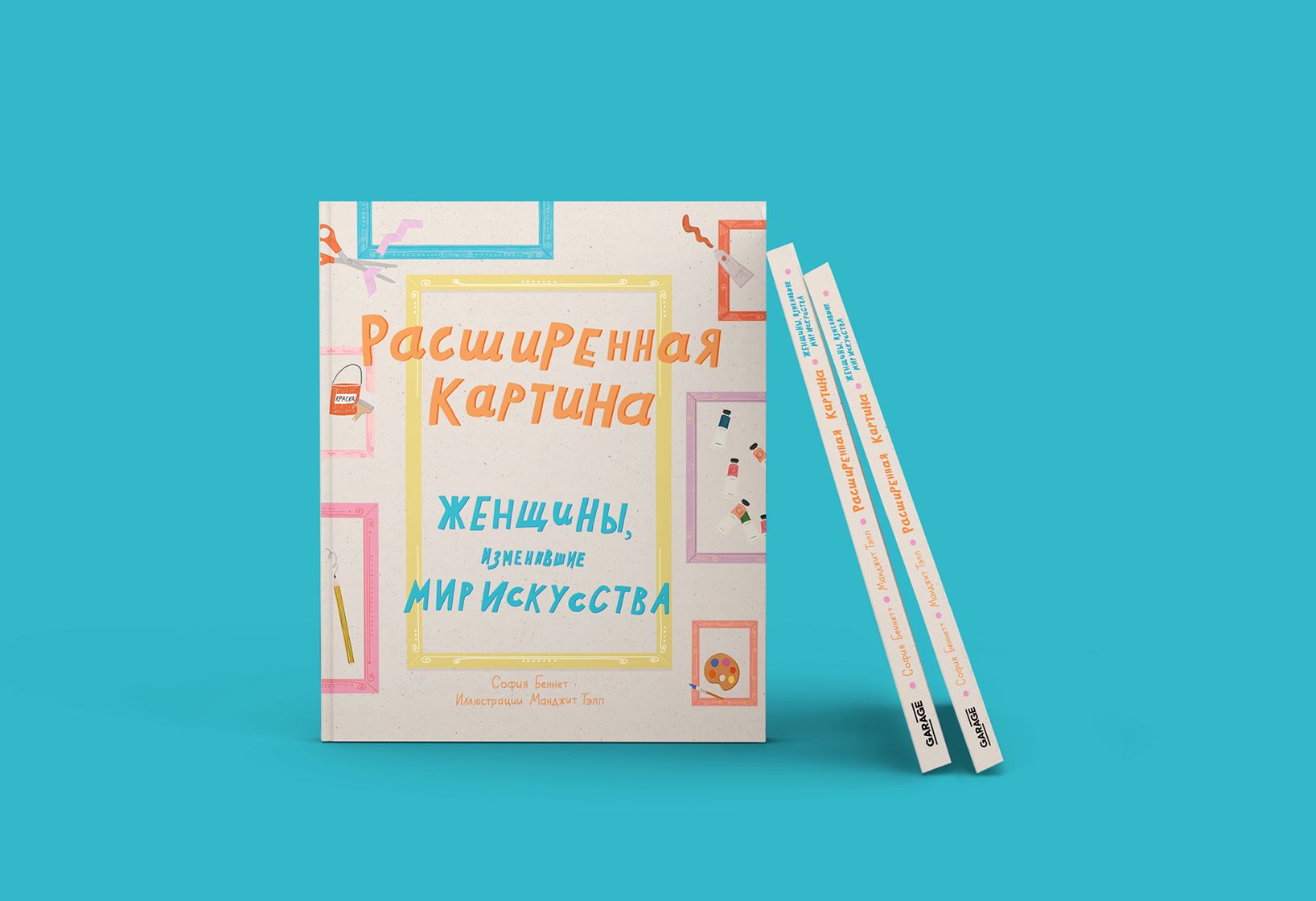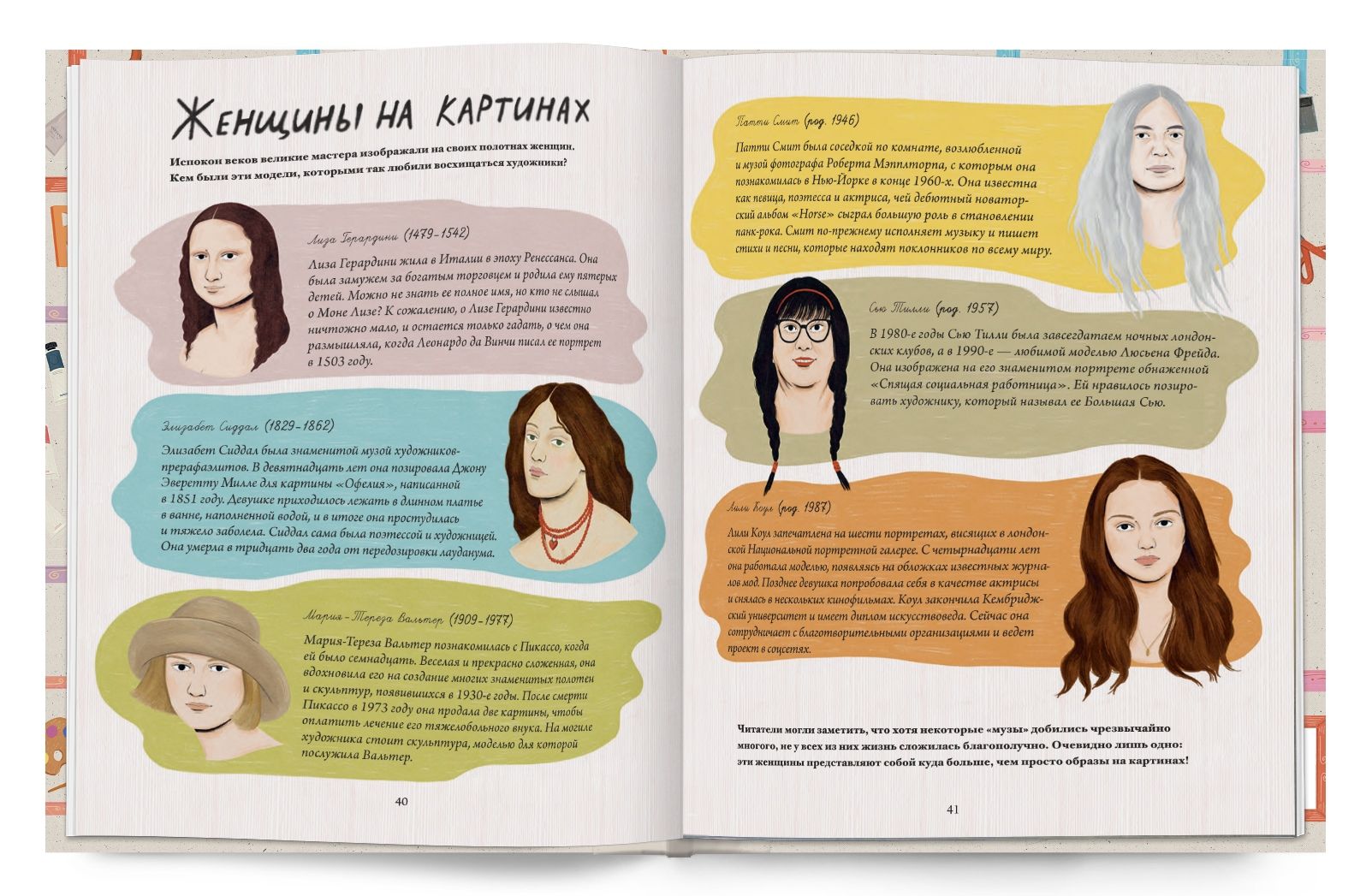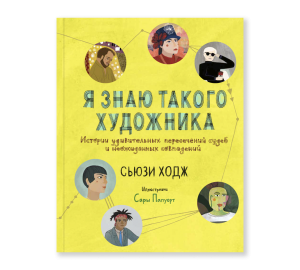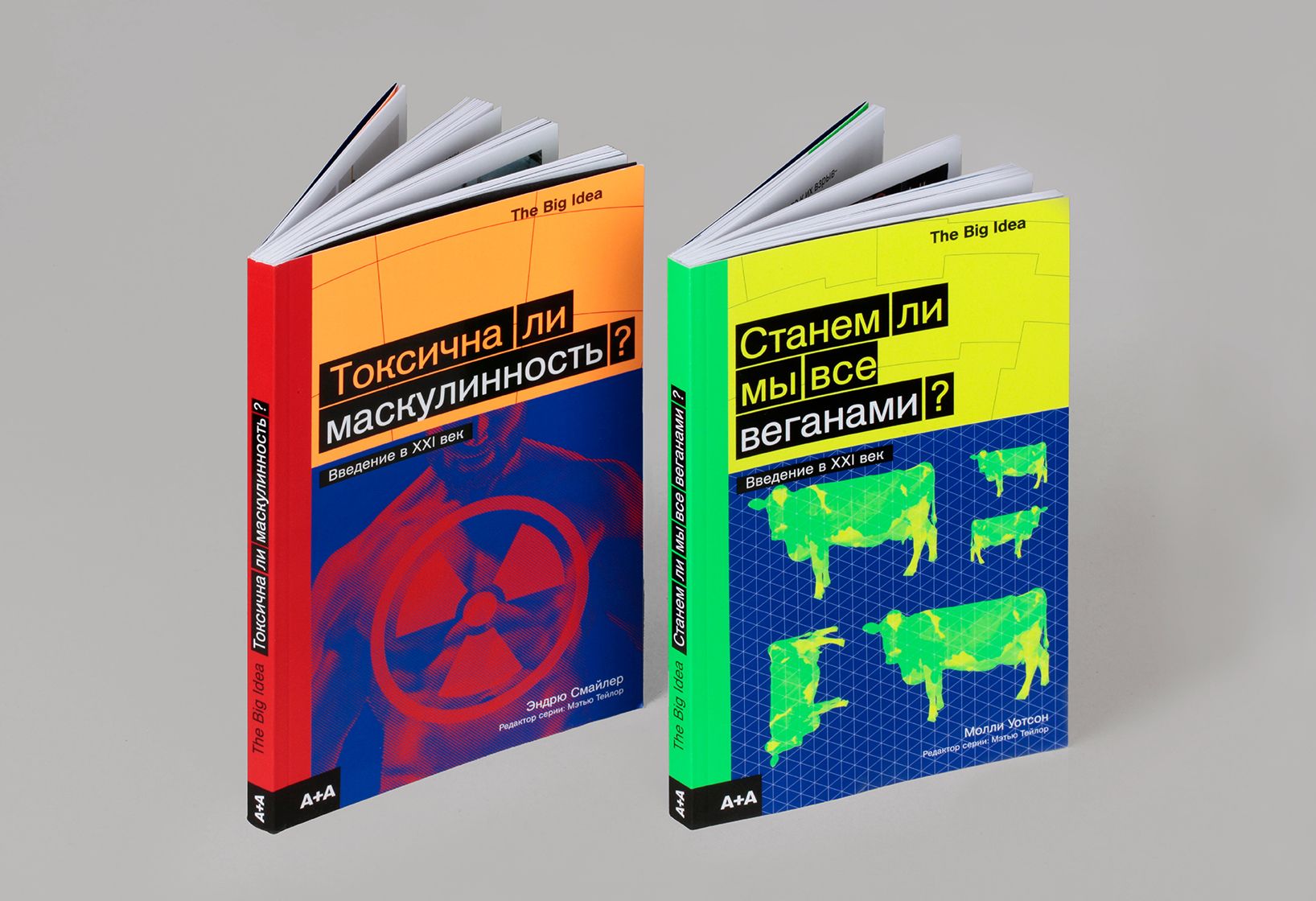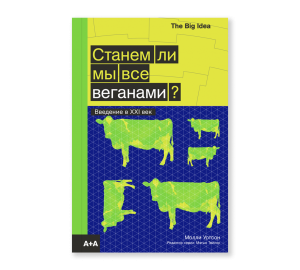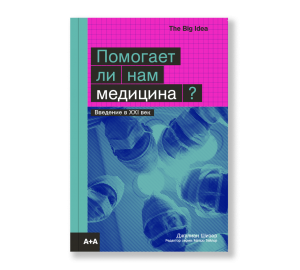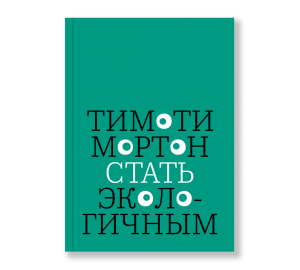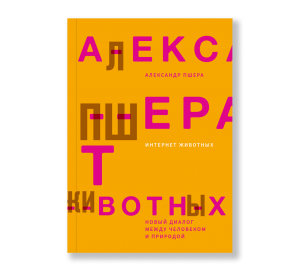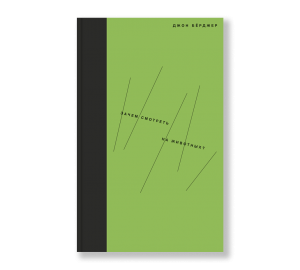Евгений Блинов «Философия дрона: инструкция для сборки»

Послесловие Евгения Блинова к книге Грегуара Шамаю «Теория дрона».
«Ежели вам глаза суждено скормить воронам,
лучше если убийца — убийца, а не астроном».
Иосиф Бродский
Если верить автору «Теории дрона», то титульный «персонаж» его книги – одно из самых парадоксальных изобретений в известной нам истории человечества. Одновременно воплощение его давней мечты и реинкарнация худшего из кошмаров. Он доводит до логического завершения тенденцию, которой «вдохновлялась» вся история войн, и при этом радикально изменяет наши представления о добре и зле. Откуда такое внимание к техническому устройству, которое, разумеется, играет определенную роль в нашей жизни, но при этом его влияние, в представлении обывателя, пока несопоставимо с цифровыми технологиями или генной инженерией? Грегуар Шамаю дает на него вполне убедительный ответ: дрон является не просто «устройством» или «летательным аппаратом», а наглядным свидетельством «дронизации» не только и не столько техники, сколько социальных и политических отношений.
В чем его парадоксальность? Дрон, если пользоваться привычной для западной традиции лексикой, является «оксюмороном» – сочетанием несочетаемого. Он обеспечивает полную видимость и притом надежно скрывает власть, которая его использует. Он является «совершенным» орудием под контролем человеческих операторов, но недалек тот час, когда он ревратится в робота, направляемого искусственным интеллектом. Он нарушает привычные отношения стихий: действуя по большей части в воздухе (хотя ведутся активные разработки подводных, наземных и даже подземных дронов), он изменяет наше представление об ограничениях земной и водной поверхности. Он стирает границы между войной и миром: задуманный как инструмент «вечного мира», он на практике приводит к ойне, которая не имеет конца. Боевые дроны представляются их сторонниками как самое «гуманное» оружие, когда-либо созданное человечеством, хотя на официальном языке американских военных они буквально называются unmanned устройствами, что в данном контексте можно перевести как «рас-человеченные». Наконец, дрон становится проблемой для целого ряда наук, делая относительными не олько политические и географические, но и дисциплинарные границы.
При этом не стоит сомневаться: перед нами не просто «теория», а именно философия дрона. Разумеется, в книге идет речь о технической генеалогии, антропологии, психопатологии, геополитике, юриспруденции и «военной этике» дрона. Но для всех этих дисциплин дрон настолько проблематичен, что они вынуждены вступать в область неясного и нерешенного, то есть – философствовать. И здесь Шамаю делает единственно верный стратегический выбор: он встречает превосходящего числом и оснащением противника в бутылочном горлышке междисциплинарной двусмысленности. Дрон не решает старые противоречия, а «делает невозможным функционирование имеющихся у нас категорий до такой степени, что делает их непригодными к использованию» (с. 124). Шамаю убедительно демонстрирует, насколько уязвимы позиции сторонников всевозрастающей дронизации общества.
«Теория дрона» является попыткой теоретического синтеза аргументов сторонников и противников использования боевых дронов, хотя она не ограничивается вопросами стратегии, права и военной этики. Именно эта трансверсальная перспектива, если использовать излюбленное выражение французских постструктуралистов, выделяет эту книгу среди многочисленных работ, посвященных дронам.
Разумеется, книга Шамаю была далеко не первой попыткой проанализировать эффект «дронизации» современной войны и современного мира. В 2009 году выходит работа Питера Уоррена Сингера (не путать с австралийским моральным философом Питером Альбертом Дэвидом Сингером) «Wired For War» [1], неожиданно ставшая бестселлером и отправной точкой небольшого издательского бума литературы о дронах в следующем десятилетии. Если один из создателей дрона Predator называл его первый израильский прототип «Моисеем дронов», то Сингера в каком-то смысле можно назвать отцом-основателем «популярной дронологии» [2]. Это не столько теоретическая или философская, сколько футурологическая работа, которая помещает дроны в более широкий контекст грядущей революции военных технологий. Financial Times назвала «Отправленных на войну» нон-фикшн книгой года, восторженные отзывы на нее высказывали тогда еще братья Вачовски, а руководство всех видов американских вооруженных сил поместило в список рекомендованной литературы.
На начало десятых годов приходится пик мобилизации противников «красы и гордости американского военпрома». Медея Бенжамен, одна из основательниц антивоенного движения Code Pink, публикует своего рода «черную книгу» американских боевых дронов [3]. С критикой выступают многие влиятельные интеллектуалы: от известного теоретика справедливой войны Майкла Уолцера (взгляды которого подробно разбираются в книге) до патриарха постмарксистской политической философии Этьена Балибара [4]. Адвокаты дронов также не сидят сложа руки: Брэдли Джей Строузер, преподаватель этики в американских военных академиях, выведенный в «Теории дронов» как весьма одиозный персонаж, выпускает сборник статей, посвященных этическим проблемам «дистанционного убийства». Если книга Шамаю является своего рода «суммой» критических аргументов против боевых дронов, то в сборнике под редакций Строузера [5] можно найти самые разнообразные доводы в пользу их широкого применения.
«Теория дрона» впервые вышла на французском в 2013 году, в самый разгар «великого спора о дронах». С тех пор она была переведена на множество языков и получила немало хвалебных отзывов [6]. Работа Шамаю не является в чистом виде ни политическим манифестом, ни анализом военно-технических возможностей боевых дронов [7], хотя уделяет достаточно внимания каждому из аспектов. Он пытается построить свою собственную перспективу «дронизации» современного общества, в которой история наук и технологий сочетается с метаморфозами политических институтов. Шамаю молодой (р. 1976), но уже достаточно плодовитый автор: «Теория дрона» стала его третьей книгой, в которой развиваются темы его предыдущих исследований. Его дебют — «Презренные тела» (2008) — шокирующее описание апологии экспериментов над живыми людьми во имя прогресса науки, с которыми выступали лучшие умы своего времени (от Дидро до Пастера) [8]. Вторая работа Шамаю – «Виды охоты на человека» (2012) [9] посвящена появлению нового «секуритарного» диспозитива, позволяющего под предлогом борьбы с терроризмом производить внесудебные расправы или задержания подозреваемых лиц вне зависимости от юрисдикции. Французское выражение «сhasse à l’homme» (и аналогичное ему английское «manhunt») изначально является достаточно нейтральной полицейской терминологией и означает погоню или розыск, а точнее – «активную фазу разыскных мероприятий». Однако Шамаю подчеркивает типологическое отличие технологической «охоты на человека» как от войны, так и от полицейских операций прошлого. Наконец, его работа «Неуправляемое общество», вышедшая в 2018 году [10], посвящена генеалогии неолиберальной деконструкции общества всеобщего благосостояния. Одним из характерных для нее процессов, по мнению Шамаю, является дронизация политических отношений.
* * *
Итак, Шамаю настаивает, что техническая эволюция дронов неотделима от их политической генеалогии. Первые «дроны», напоминает он, были всего лишь компактными радиоуправляемыми авиамоделями, которые американская армия использовала в качестве мишеней во время артиллерийских учений. Они не просто издавали специфическое «жужжание» (в английском слово «drone» является ономатопеей), но и, подобно шмелям в живой природе, были символом непостоянства и неподлинности. Уже в середине тридцатых годов американский инженер Владимир Зворыкин задумывается о дистанционно управляемых «летающих торпедах», оснащенных телекамерами и способных выполнять боевые задания. На идею их создания его натолкнули тревожные новости из Японии: Императорская армия задолго до начала Тихоокеанской войны начала подготовку пилотов-смертников. Зворыкин одним из первых оценил военно-технический потенциал эскадрилий камикадзе, которые, по сути, представляли собой первую попытку создания высокоточного оружия и в дальнейшем стали элементом хорошо продуманной стратегии. Зворыкин, относительно недавно эмигрировавший из революционной России, успел прочно усвоить американские ценности и делал категорический вывод: «мы с трудом можем себе представить, что подобные методы будут внедрены в нашей стране», поэтому «мы должны использовать наше техническое превосходство, чтобы решить эту проблему» (с. 98). Для достижения схожего эффекта один из изобретателей телевидения предлагал установить камеры на дистанционно управляемые «воздушные торпеды». Таким образом, в межвоенную эпоху появляется первая формулировка того, что в дальнейшем ляжет в основу идеологии американского демократического мессианизма. По утверждению Шамаю, это противопоставление по-прежнему актуально:
Сегодня мы снова сталкиваемся с этим антагонизмом между камикадзе и дистанционным управлением. Атаки смертников против атак призраков. Это противоположность прежде всего экономическая. Она противопоставляет тех, кто располагает капиталом и технологиями, тем, у кого для сражения нет ничего, кроме собственного тела. Двум этим материальным и тактическим порядкам соответствуют два порядка этических –– этика героического самопожертвования, с одной стороны, этика жизнеутверждающего самосохранения – с другой (с. 99).
Вопреки доводам современных апологетов дронов, Шамаю показывает, что они являются не просто противоположностью террористов-смертников, а в некотором смысле их «звездой-близнецом». Но если самурай без колебаний выбирал кратчайший путь к смерти, то боевые дроны растягивают его до бесконечности.
Как это часто бывает в истории техники, проект от его практической реализации отделяет значительный срок. Технико-тактическая генеалогия боевых дронов вкратце такова: довоенные проекты «радиоуправляемых самолетов» и «летающих торпед» не получают развития, о беспилотных устройствах вспоминают во время Вьетнамской войны, когда возникает необходимость создавать ложные мишени для советских ракет «земля-воздух». После ее окончания программу вновь закрывают, но несколько образцов достается израильским военным, которые разрабатывают прототип того, что может считаться современным дроном. Израильская армия успешно использует дроны во время Ливанской войны как в качестве отвлекающих мишеней для сирийских ПВО, так и для разведки. ВВС США, с содроганием вспоминая об огромных потерях авиации во Вьетнаме, запускает программу разработки дронов-разведчиков, которые хорошо проявляют себя во время натовской интервенции в Косово. Незадолго до вторжения в Афганистан высказывается идея оснастить их противотанковой ракетой Hellfire. Именно в этот момент, замечает Шамаю, Predator становится в полном смысле «хищником»: боевые дроны «взмывают над полем боя».
Постепенно дрон становится «оружием мечты» – идеальным орудием экспансии «демократического милитаризма» нового типа. Его апологеты разворачивают целую кампанию для того, чтобы сделать боевой дрон «краеугольным камнем американской стратегии». Таким образом, использование дронов – «охотников-убийц» не ограничивается тактическим и оперативным уровнем, а определяет глобальную стратегию. Впрочем, как показывает Шамаю – и это один из главных тезисов книги, – дронизация является не просто военной, но и политической, юридической, экономической и даже, если можно так выразиться, антропологической стратегией.
Адвокаты дрона используют разнообразные стратегии защиты, лучшая из которых – наступление. Дрон, говорят они, исключительно точное оружие, сопутствующие потери от его применения минимальны, по этой причине он является оружием «гуманным». Он позволят воевать без потерь в своем лагере и даже без объявления войны. Он максимально мобилен, а потому эффективен в борьбе с негосударственными образованиями и партизанскими отрядами. Он значительно дешевле классической авиации и крылатых ракет, не говоря уже о наземных операциях. Наконец, пилоты дронов не являются хладнокровными убийцами, уничтожающими противника на расстоянии без малейшего риска, они переживают сильнейший эмоциональный стресс и должны считаться настоящими солдатами. Одним словом, дрон – идеальное оружие для лидеров демократических стран, ограниченных при принятии решений как политически (население западных стран не приемлет высоких потерь и негативно относится к открытым вторжениям), так и экономически (военный бюджет требуется согласовать с парламентами). Технический прогресс против фанатизма, гуманизм против варварства. Выбирай ювелирную точность, выбирай превентивные удары, выбирай мобильность и гибкость, выбирай войну без потерь. Выбирай жизнь.
Шамаю проводит настоящее эрратологическое исследование этой аргументации, последовательно указывая на категориальные ошибки, классические софизмы, подмену понятий и типично «иезуитское оправдание» средств за счет целей. При этом «Теория дрона» ни в коем случае не сводится к «метафизическим прениям» – книга прекрасно документирована и принципиально передает прямую речь действующих лиц. Минимизация сопутствующих потерь оказывается весьма отдаленной перспективой, «гуманное оружие» в процентном отношении уничтожает больше нонкомбатантов, чем «классическая» авиация и артиллерия. Дрон сохраняет именно «наши» жизни, а не жизни гражданского населения «освобождаемых» стран, хотя их страдания являются главным оправданием «гуманитарных интервенций». Атаки при помощи дронов противоречат постулатам классической антиповстанческой стратегии, которая предполагала завоевание «умов и сердец» населения, озлобляя его и «бросая в объятия» радикальных группировок. В представлении местного населения она является продолжением старой колониальной стратегии, что подтверждает анализ опыта Британской империи и Франции. Предполагаемая дешевизна дистанционной войны, по всем законам рынка, стимулирует спрос, то есть заставляет правительство покупать все больше БПЛА. Видимое отсутствие риска и радикальное сокращение репутационных издержек снижают порог принятия решений о начале «маленьких» и, предположительно, победоносных войн, что в итоге приводит к сражениям на всех фронтах одновременно. Наконец, психологи не фиксируют у пилотов дронов типичных симптомов PTSD – «посттравматического стрессового расстройства», столь типичного для «классических» участников боевых действий. Как резюмирует Шамаю, раздутая армейскими пресс-службами тема «переживаний» пилотов дронов, которым приходится убивать, не подвергая себя риску, является в буквальном смысле «крокодиловой слезой». Которая, как известно, необходима этим рептилиям, «чтобы лучше переварить свою жертву» (с. 122).
Сто лет назад страдания солдат, одновременно являвшихся акторами вооруженного насилия и его жертвами, их умышленное «расчеловечивание» и «брутализация» были в центре пацифистского и феминистского дискурсов. Сегодня, как показывает Шамаю, они используются для убеждения общественности в том, что операторы дронов – не палачи и хладнокровные убийцы, а такие же солдаты, что и их «товарищи» на поле боя. Что за семантический, перцептивный и аксиологический сдвиг необходим, чтобы «общественность» поверила в это в условиях, когда «Война, какой бы асимметричной она ни была раньше, становится абсолютно односторонней. То, что ранее казалось войной, превращается в кампанию по истреблению» (с. 18). Необходима, утверждает Шамаю, ни больше ни меньше «переоценка всех ценностей», но не в ницшеанском, а в ровно противоположном смысле. «Старый идол» риска и героического самопожертвования заменят стерильные категории «элиминации», «смертельных кубов» и аномического поведения. Грязную работу закончит армейский оруэлловский новояз: «трусость – это храбрость», «жестокость – это гуманность», «сиюминутный эффект – это стратегия».
Возможно, задается вопросом Шамаю, спровоцированный использованием боевых дронов «кризис военного этоса» вообще не имеет прямого отношения к войне в традиционном понимании и является всего лишь «чудовищным злоупотреблением языком»? Чем в таком случае являются атаки при помощи дронов? Разновидностью law-enforcement – правового принуждения? Но оно ограничено куда более жесткими правовыми рамками: дроны не производят арестов и не зачитывают подозреваемым их права. Охотой? Орудием «государственного терроризма»? Спецоперацией? Осуществлением легитимного права государства на самооборону? Именно так оценивает Израиль свою программу «целевых убийств», но, как показывает Шамаю, израильские «танато-тактики» [11] отличаются от глобальной «танато-стратегии», которую разрабатывают эксперты, работающие на армию США. Уже сегодня большая часть ударов не базируется на разведданных в классическом смысле и не связана с идентификацией конкретных лиц, это так называемые удары по «сигнатуре». Если поведение определенной группы лиц кажется подозрительной экспертам, анализирующим видео с дронов, в сочетании с их активностью в сетях и звонками, они могут превратиться в «легитимные мишени» ударов с воздуха. Самое главное, теперь они лишены конкретной географической привязки: так называемые kill box – «кубы смерти» или зоны свободного огня –– могут быть установлены где угодно. Когда война превращается в охоту по всему миру, враг становится добычей, которая «везде носит с собой компактный и подвижный ореол зоны личной враждебности» (с. 65). Дрон в определенном смысле упраздняет само понятие «боя» и «комбатанта», делая бессмысленным традиционный принцип «избирательности» вооруженного насилия. Из чего вполне логично следует, что государственный суверенитет перестает быть фундаментальной категорией международного права. Не допускающие «королевской охоты» на своей территории государства делятся на «провалившиеся» (в случае их еспособности противостоять «террористам») и государства-сообщники (укрывающие их на своей территории).
Было бы наивно полагать, что столь мощный «технико-тактический» диспозитив останется исключительно орудием «гибридных войн» в странах третьего мира. В определенном смысле главный вопрос «Теории дрона» состоит в том, что меняет всевозрастающая «дронизация» в отношении собственных граждан со стороны государств, которые принято называть демократическими. Во-первых, предполагаемая неуязвимость (или крайняя степень асимметрии) армий вторжения западных стран уже привела к тому, что «поле боя» переносится на их территорию, не говоря уже о том, что многие участники «вражеских сетей» являются их собственными гражданами. Поэтому само нахождение подозреваемых или «потенциально опасных лиц на их территории не исключает установления временного куба смерти в Париже или Лондоне [12]. Во-вторых, классический паноптизм дисциплинарных обществ, описанный Фуко [13], требовал дорогостоящих архитектурных решений, тогда как дронизированный паноптизм, куда больше заслуживающий этого имени, при довольно ограниченных расходах позволит следить как за любым участком пространства, так и за отдельными лицами в режиме 24 часов в сутки. Он будет вписан в новый правовой режим, когда любое «аномальное» поведение можно будет фиксировать подобно нарушениям правил дорожного движения [14], при этом нанодроны нового поколения будут выполнять функцию «судебных секретарей». История дрона, напоминает Шамаю, это «история глаза, ставшего оружием» (с. 16). Уже поставлены на крыло первые образцы полицейских дронов, оснащенные (пока) нелетальным оружием. При этом объем накопленной информации уже сегодня невозможно ни ранить, ни обрабатывать при помощи человеческих операторов, эти функции неизбежно будут автоматизированы и в будущем переданы искусственному интеллекту [15]. Который, воскрешая в памяти все научно-фантастические дистопии о восстании машин, вскоре может получить в своераспоряжение армию безупречно «этичных» летальных роботов.
В политическом смысле боевые дроны призваны решить классическую проблему так называемого протекционистского суверенитета, принципы которого сформулированы еще Гоббсом. Суверен защищает жизнь граждан и их имущество в мирное время, одновременно требуя ими пожертвовать, когда существованию самого государства угрожает опасность. Современный «либерально-секуритарный» суверен с его демонстративным отказом от «этики героического самопожертвования» не может требовать того же, не впадая в противоречие. Ответом на него становится дрон: «Умереть за Родину –– это было прекрасно, но еще прекраснее убивать за нее, тем более что теперь она избавляет нас от необходимости платить за это высокую цену» (с. 114). Но обязанность граждан подвергать свою жизнь риску приводила к тому, что в республиках, как показывал Кант, решение о начале войны принималось принципиально иначе, чем в абсолютных монархиях, и было важным сдерживающим фактором кровопролития. В ситуации, когда «умирают только враги», вопрос начала асимметричных войн в некотором смысле перестает быть политическим. «Налог на кровь», введенный в условиях мировых войн и борьбы империй, в соответствии с классической формулой, давал гражданам право на представительство в вопросах его использования. С отменой всеобщей мобилизации и дронизацией вооруженных сил граждане больше не обязаны его платить. Но вместе с этим они теряют свое право голоса и превращаются в подданных «государства-дрона», который больше не нуждается в их «презренных телах» для обственной защиты.
* * *
Автора «Теории дрона» можно было бы упрекнуть во всеядности (столь не свойственной французским социальным мыслителям) и желании объять необъятное, если бы этот масштабный теоретический срез не был концептуальным «обнажением приема». Шамаю видит свою цель в предоставлении «дискурсивных инструментов» в распоряжение тех, кто хочет противостоять политике дронизации современного общества.
Предложенные им темы можно развивать в самых разных направлениях, в том числе в критическом ключе. Так, за шесть лет, прошедших с момента первой публикации книги, стало вполне очевидно, что американские боевые дроны скоро перестанут быть эксклюзивным оружием западных стран и едва ли могут быть использованы против сильного противника без «традиционных» видов вооружения [16]. Наконец, во время работы над русским переводом данной книги американские ударные дроны торжественно вошли в большую политику вместе с заявлением МИД РФ о том, что их использование является нарушением договора о ДРСМД [17].
Важно помнить, что намеченные Шамаю векторы дронизации общества являются лишь одним из возможных сценариев будущего. Один из наиболее важных политических выводов «Теории дрона» состоит в том, что процесс «автоматизации не является автоматическим». Возможно, «государство-дрон» является идеалом технократического крыла неолиберальной мысли, но для того, чтобы его построить, по-прежнему требуются «презренные тела» граждан и их политическая воля. А ей сегда можно найти самое разное применение, ведь, как завещали нам борцы с тиранией машин из будущего: «The future is not set, this is not faith but what we made ourselves» [18].
1 Что можно перевести на русский примерно как «Подключенные квойне»: Singer Peter W. Wired For War: TheRobotics Revolution and Conflict in the 21st Century. New York: Penguin, 2009.
2 Более ранние попытки философского осмысления феномена дистанционной войны можно найти в работах Поля Вирильо (Virilio Paul. Guerre et cinéma I — Logistique de la perception, Paris: Ed. de l’Etoile, 1984) или Эммануэля Деланда (Delanda Emmanuel. War in the Age of Intelligent Machines, New York: Zone Books, 1991.
3 Benjamin Medea. Drone Warfare: Killing by Remote Control, New York: OR Books, 2012.
4 См.: https://www.liberation.fr/debats/2015/11/16/sommes-nous-en-guerre_1413920
5 Strawser Bradley Jay (ed.). Killing by Remote Control: The Ethics of an Unmanned Military, New York: Oxford University Press, 2013.
6 См., например, отзыв Латура: Latour Bruno. Face à Gaia. Paris: La Découverte, 2015. P. 322.
7 О технических аспектах см. новейшую работу: Scharre Paul. Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War, New York: W. W. Norton & Company, 2018.
8 Chamayou Grégoire. Corps Vils. Paris: La Découverte, 2008. Именно в этом смысле стоит понимать фразу об удалении «презренных тел» из кокпита дистанционно управляемых устройств (с. 22).
9 Chamayou Grégoire. Chasses à l’homme, Paris: La Fabrique, 2013.
10 Chamayou Grégoire. Société ingouvernable, Paris: La fabrique, 2018.
11 Этому вопросу посвящены работы Эяля Вайцмана, см. библиографию.
12 Ср. резонанс, вызванный предполагаемой утечкой с заседания по безопасности, во время которого Хиллари Клинтон, на тот момент госсекретарь США, якобы интересовалась у подчиненных, нельзя ли при помощи дрона ликвидировать основателя «Викиликс» Джулиана Ассанджа. О характерной истории этой «цитаты-зомби» см.: http://nymag.com/intelligencer/2016/10/no-clinton-didnt-say-she-wanted-to-drone-strike-assange.html
13 См.: Фуко М. Надзирать и наказывать / пер с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. М.: Ад Маргинем, 2019.
14 Ее прообразом многие аналитики считают внедряемую в Китае «систему социальных кредитов», к которой уже начинают присматриваться правительства западных стран. См.: https://www.handelsblatt.com/today/politics/big-data-vs-big-brother-germany-edges-toward-chinese-style-rating-of-citizens/23581140.html?ticket=ST-1183340-THbscs64aXSs62H09ZGy-ap5
15 При этом весь процесс принятия решений человеческими операторами дронов, находящимися в некоем подобии виртуальной реальности, принципиально изменяется. Для его анализа Шамаю предлагает концепт «прагматического соприсутствия», см. прим. 10 к главе «Убивать на расстоянии». См. также: Bousquet Antoine. The Eye of War The Military Perception from the Telescope to the Drone, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2018.
16 Об ограниченности территории «охоты на человека» см. критические замечания Хью Гастерсона: Gusterson Hugh. Drone: Remote Control Warfare, London: MIT Press, 2015. P. 147–148.
17 При этом, по сообщениям официальных лиц, впервые подобные претензии были высказаны в 2001 году: «Важно понимать, что мы долгие годы проявляли беспрецедентное терпение в отношении очевидных нарушений ДРСМД со стороны США. В частности, проблемные вопросы, связанные с американскими ракетами-мишенями и ударными беспилотниками, мы первые обозначили перед США еще в 1999 и 2001 годах». http://www. mid.ru/web/guest/foreign_policy/news// asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/ id/3562299
18 «Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами» (англ.). ― Цитата из фильма Джемса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день». ― Примеч. ред.