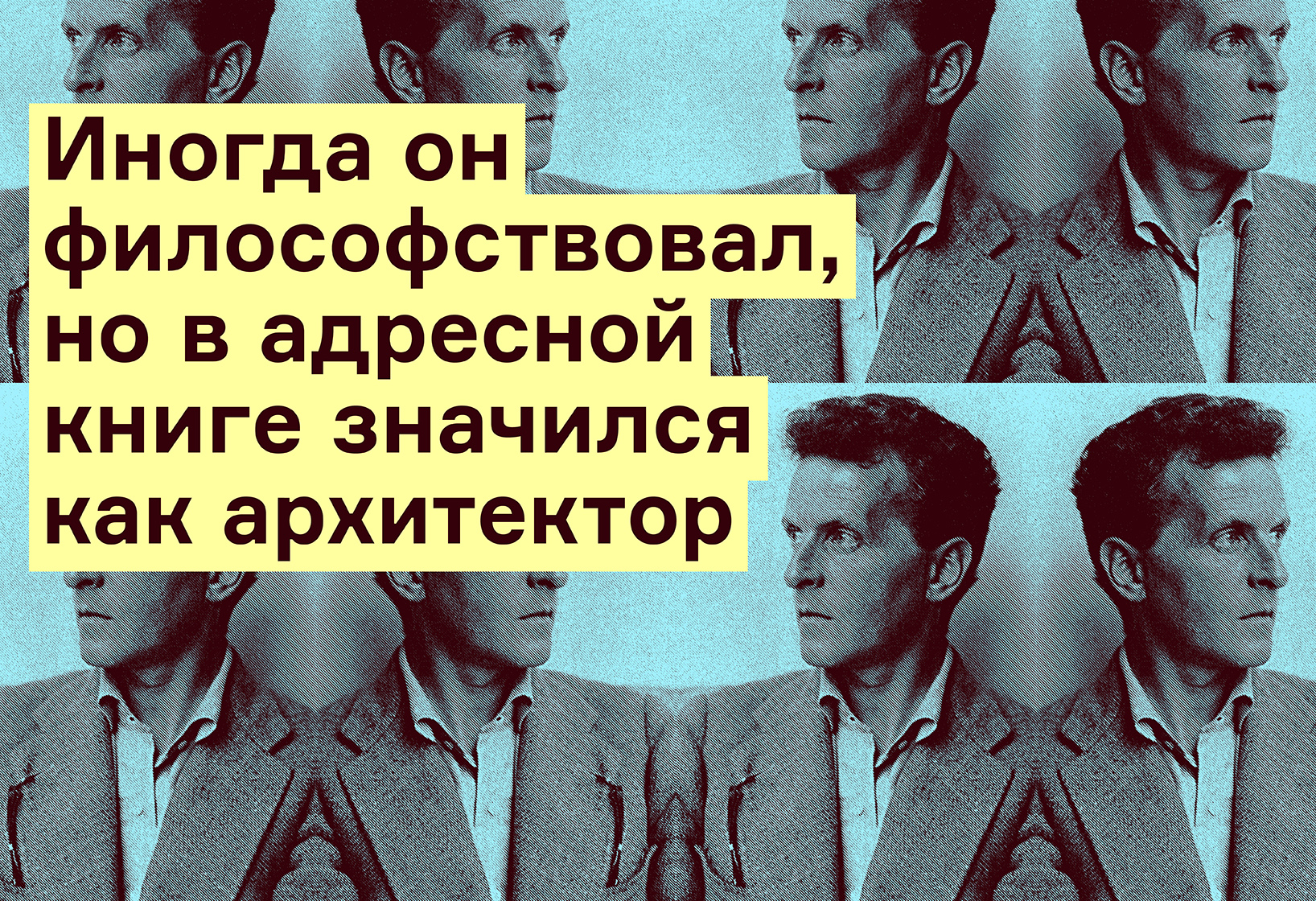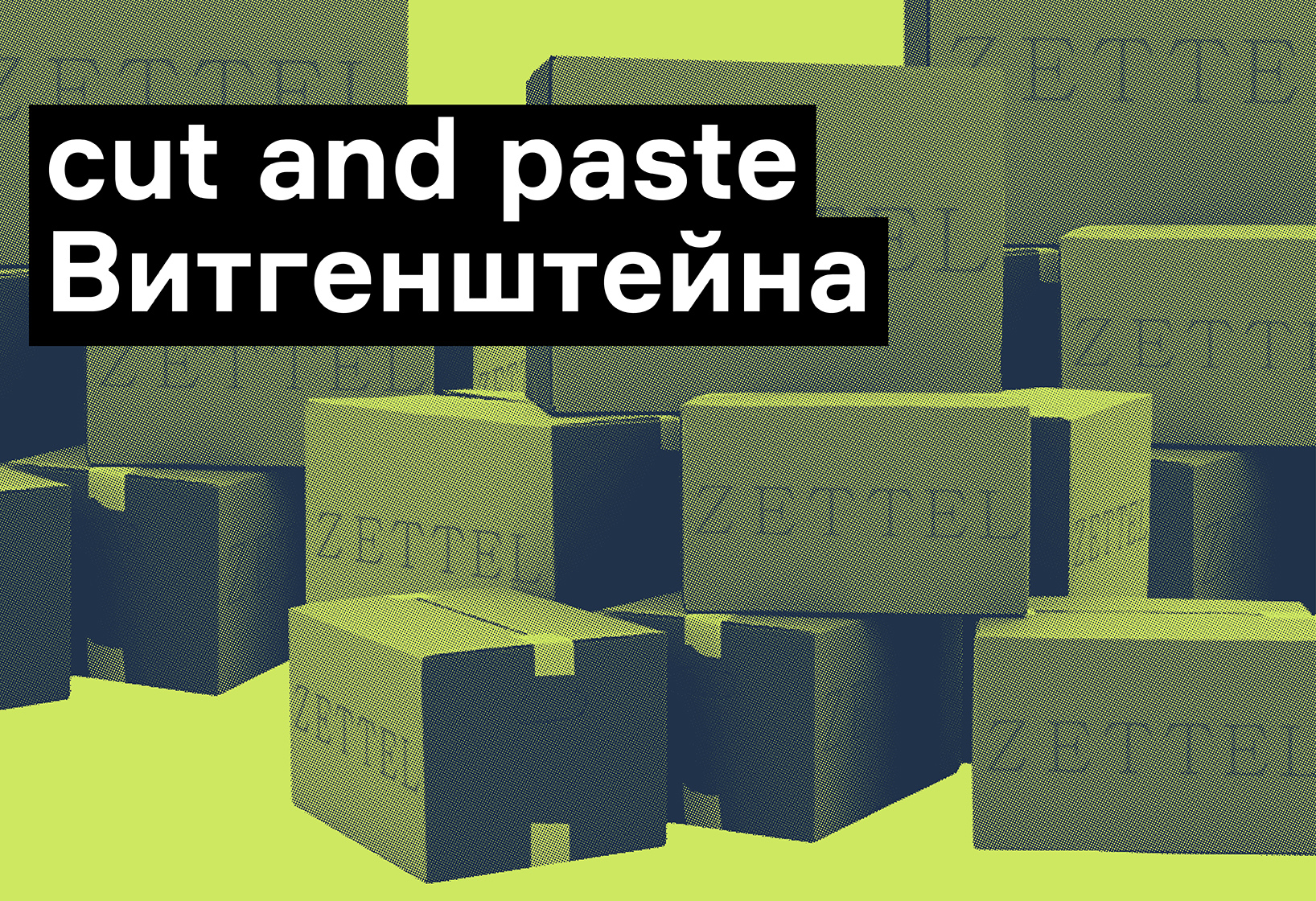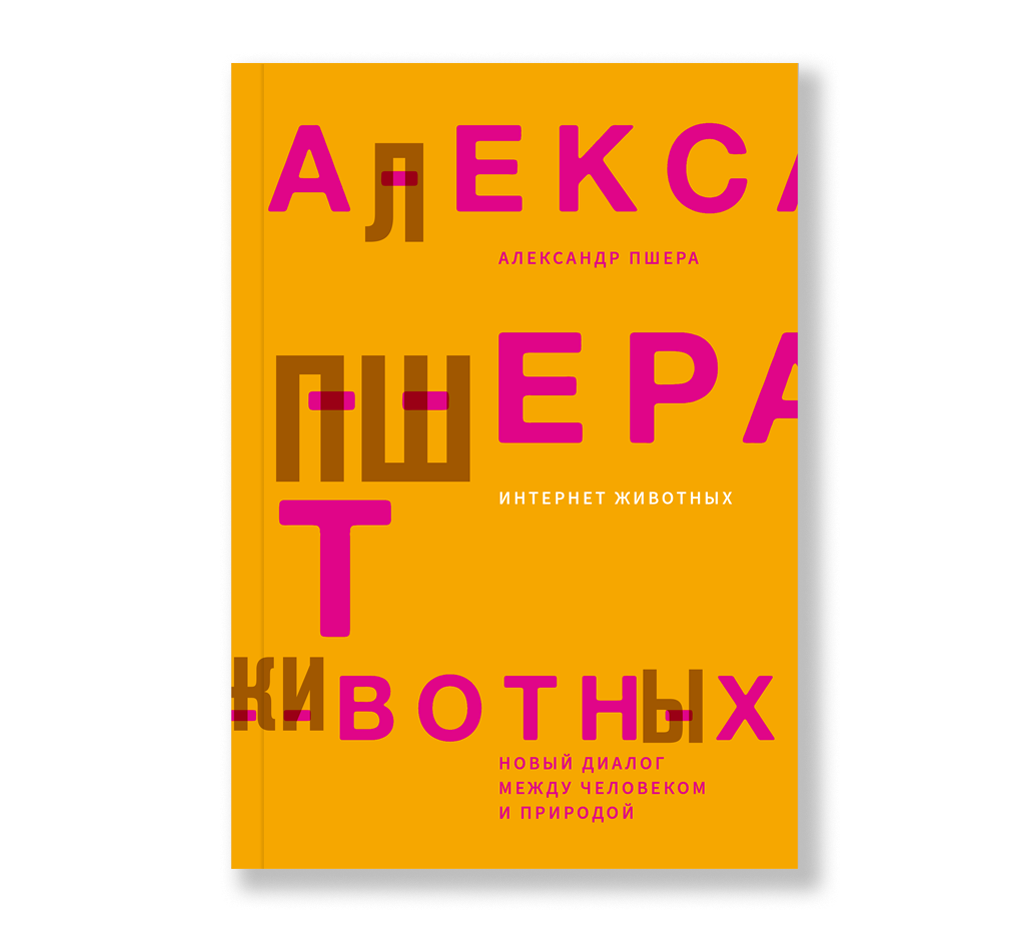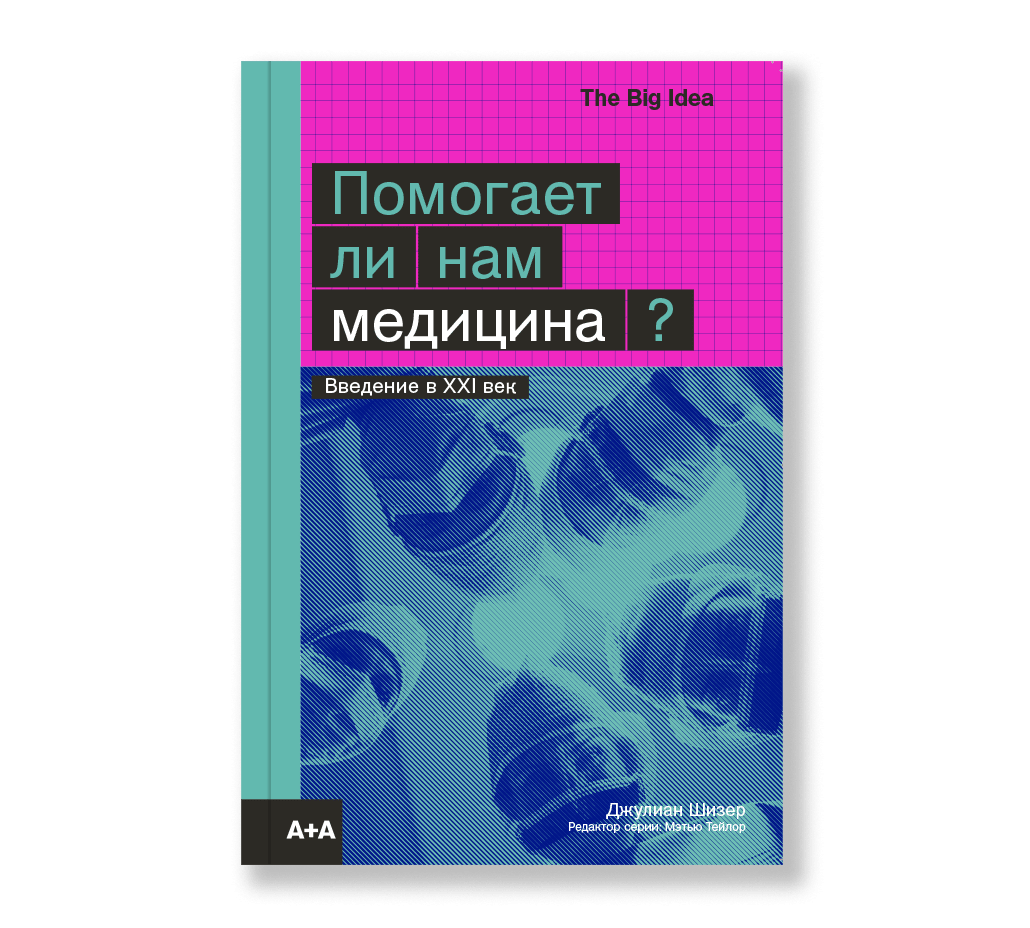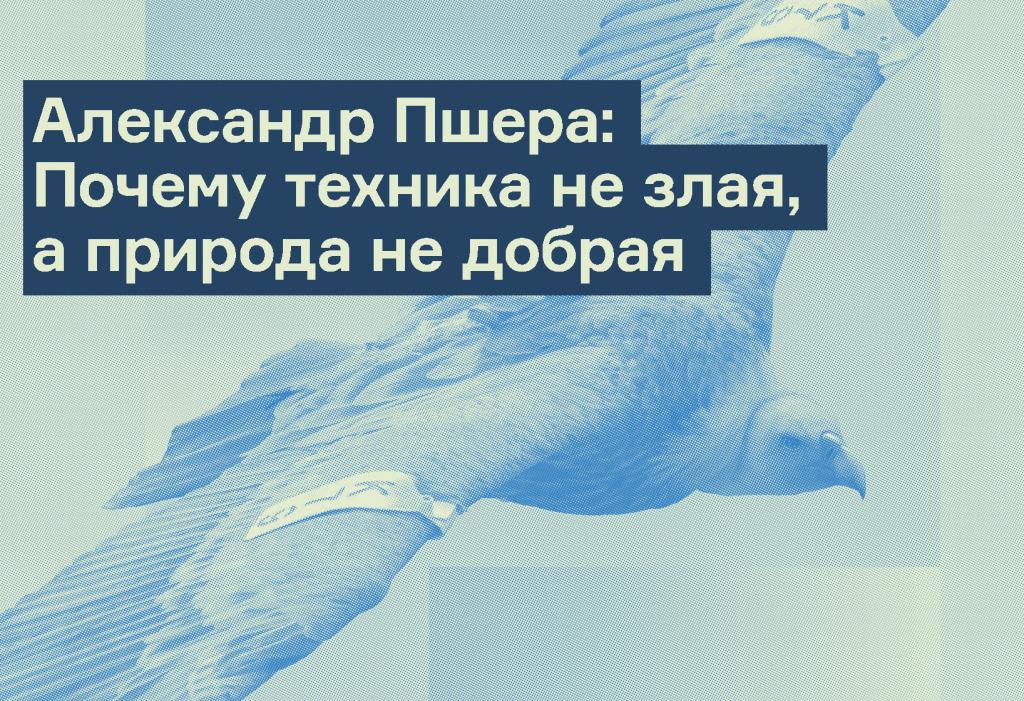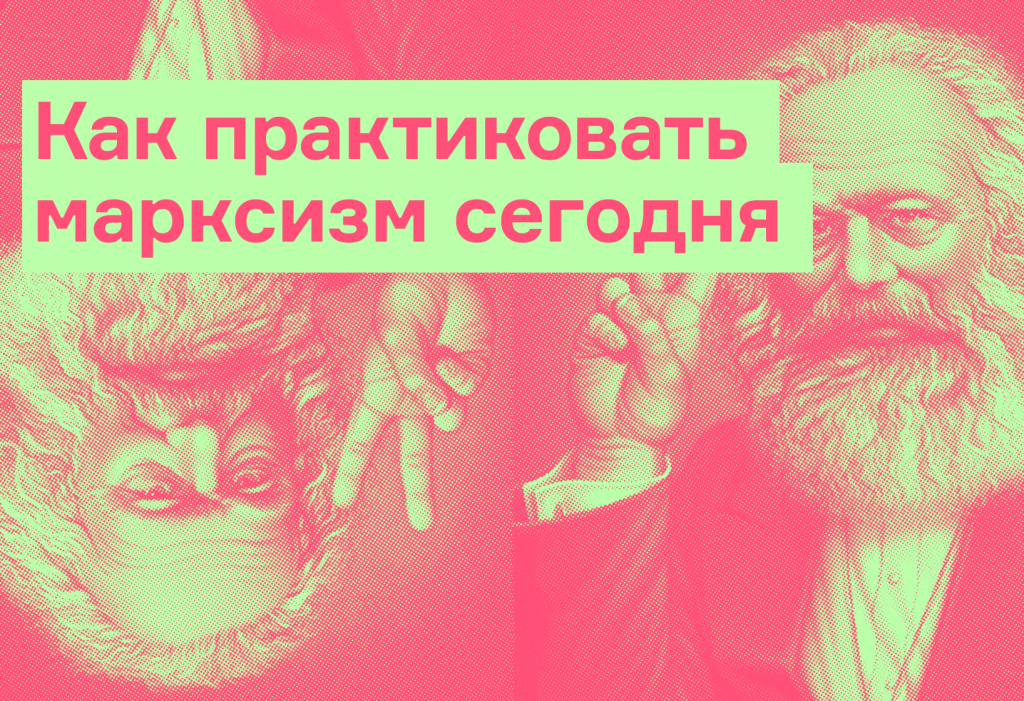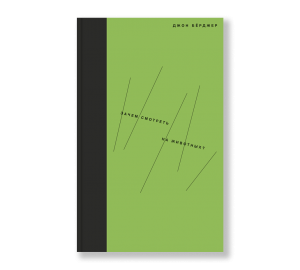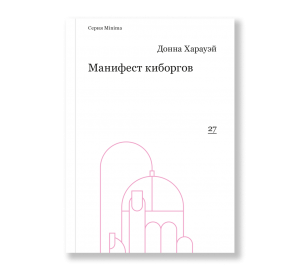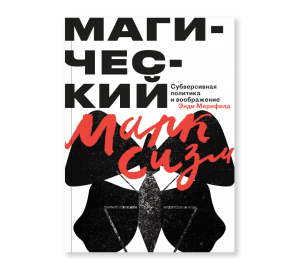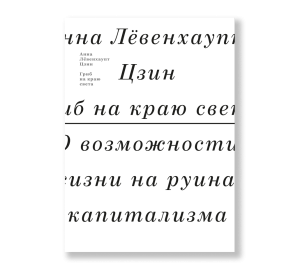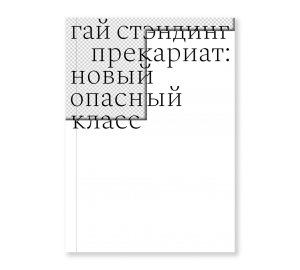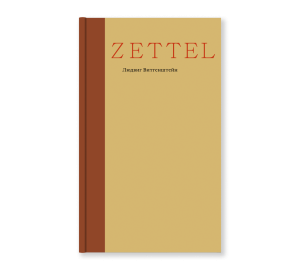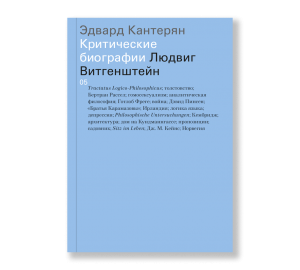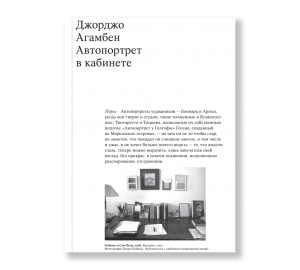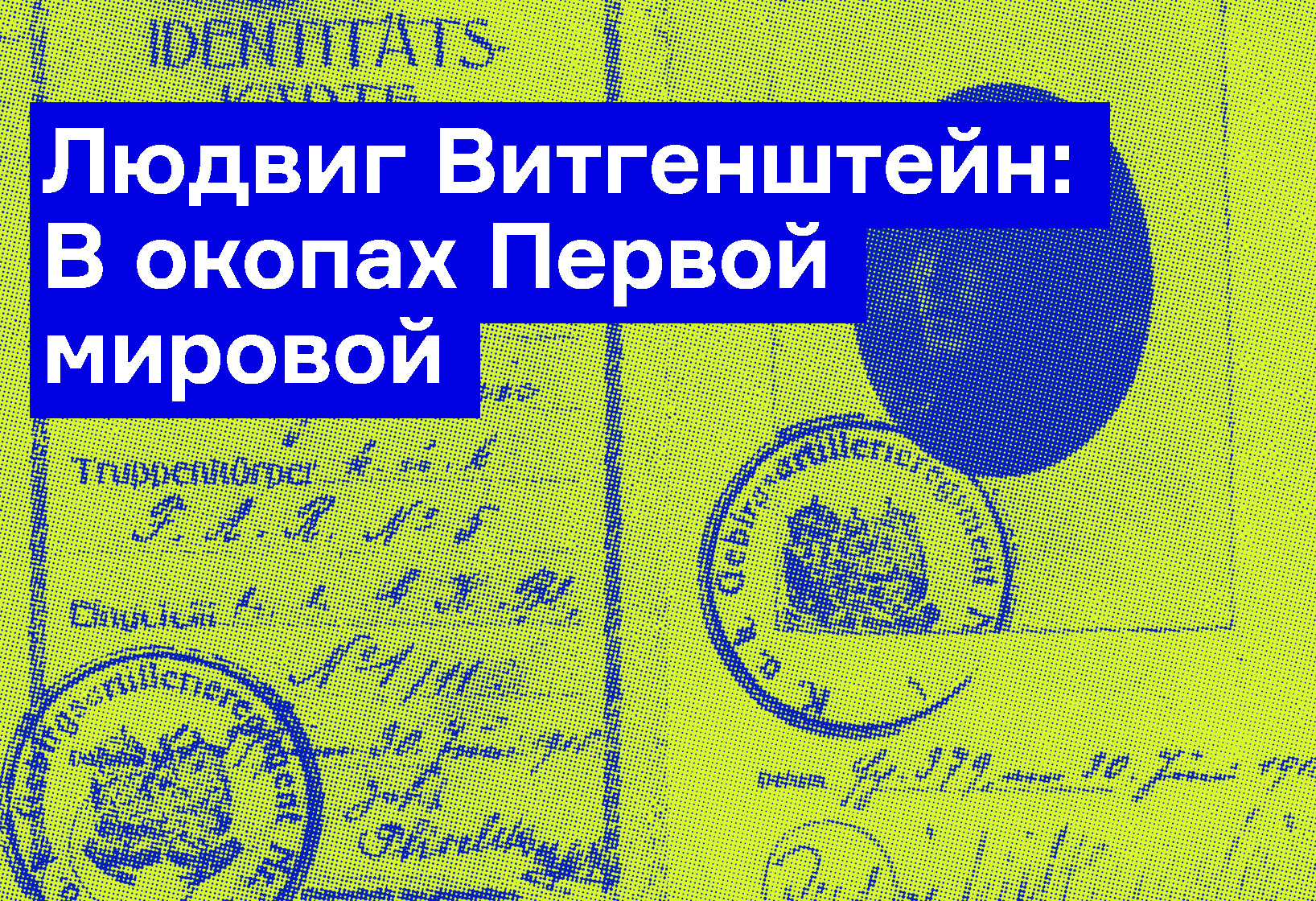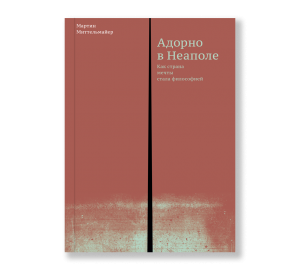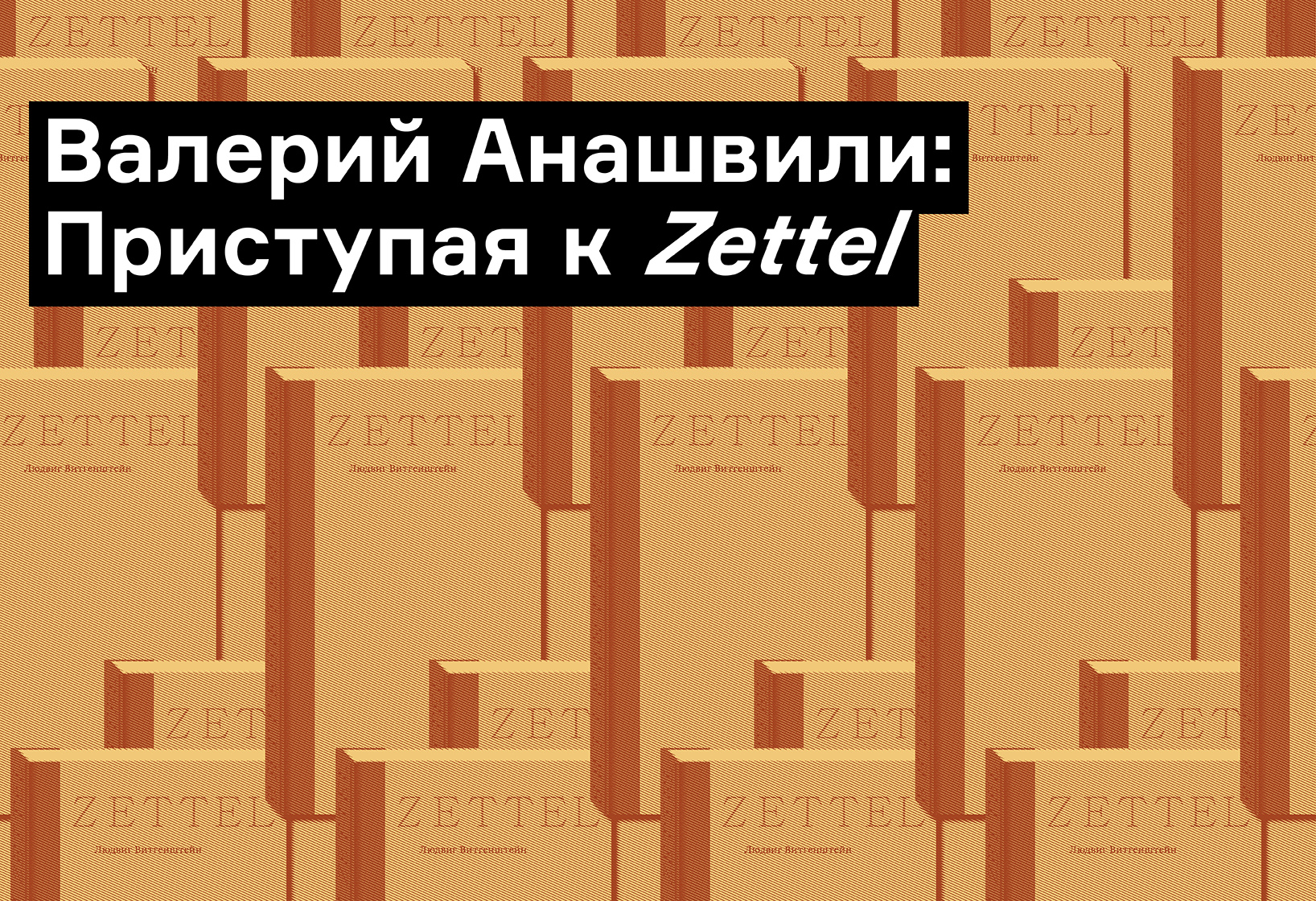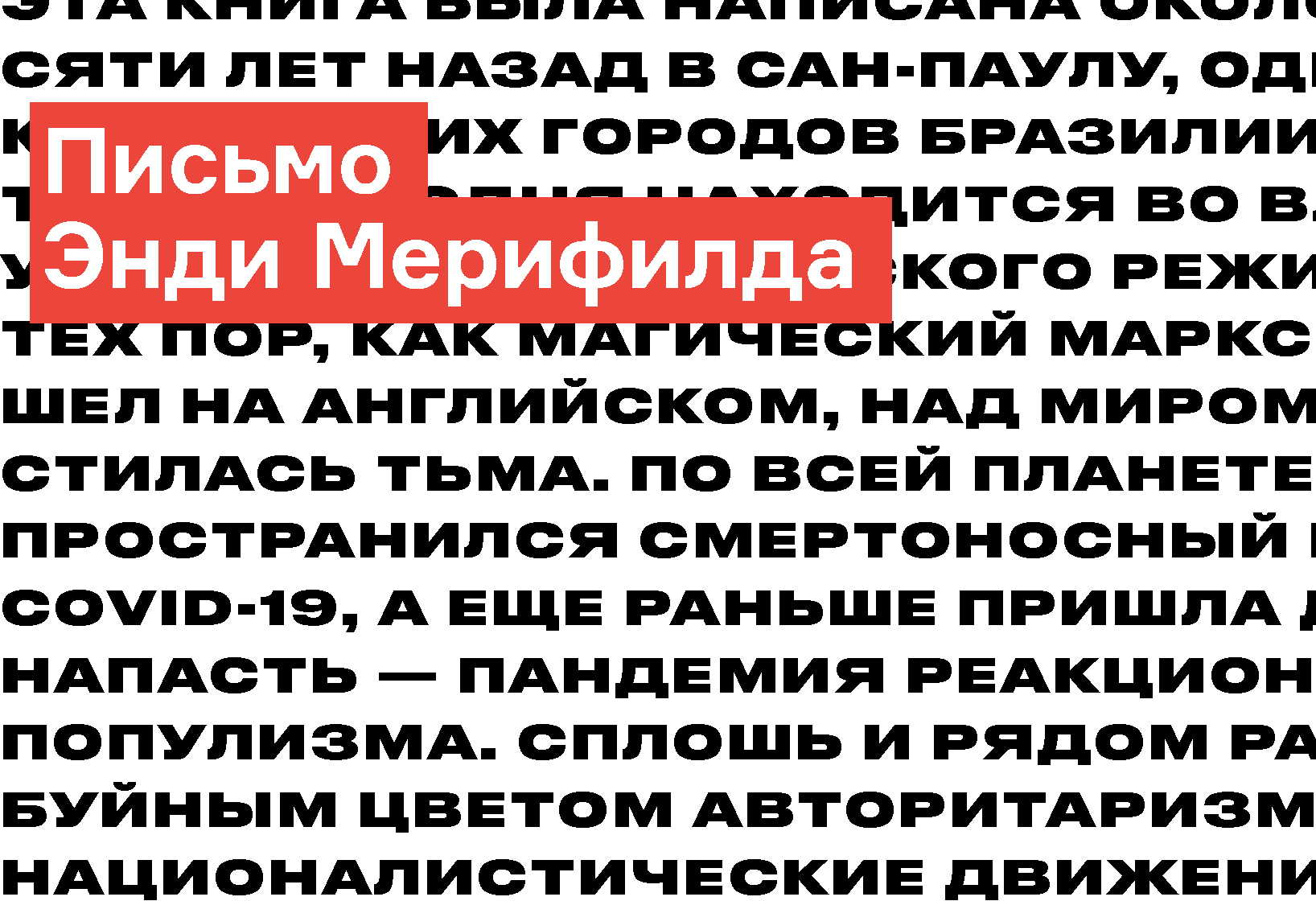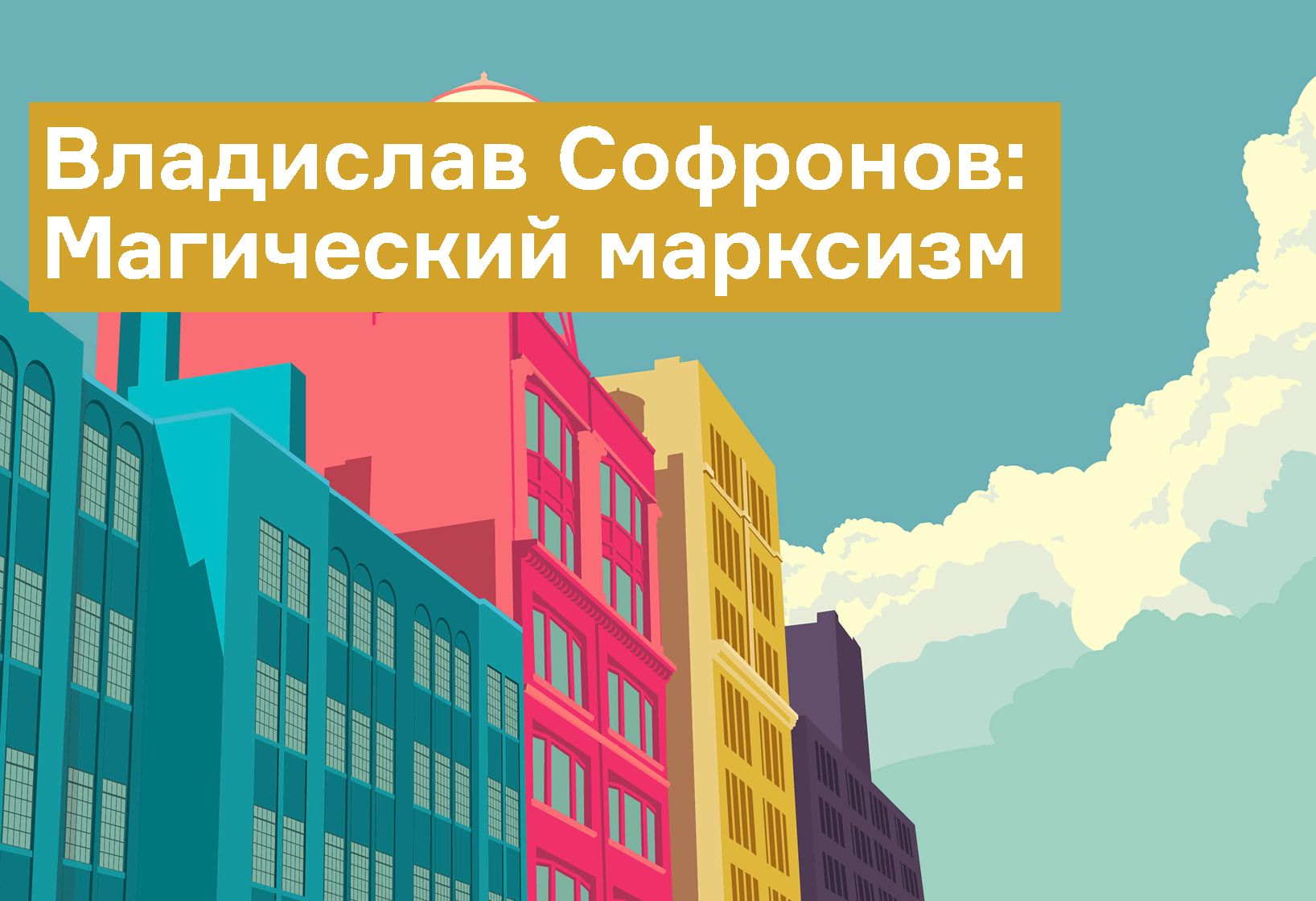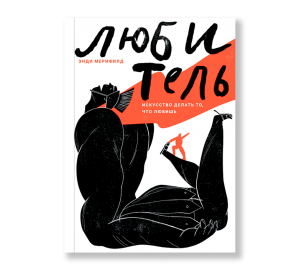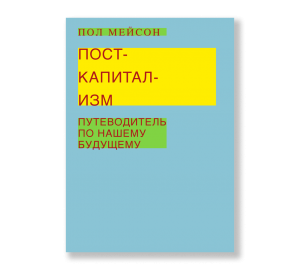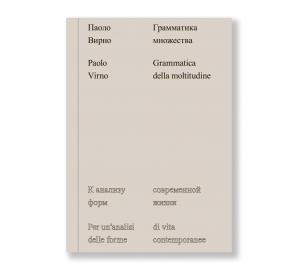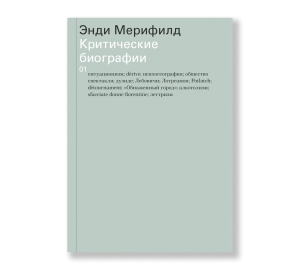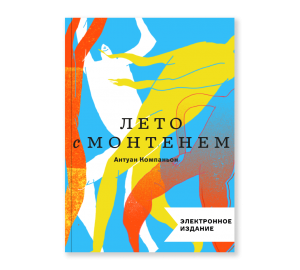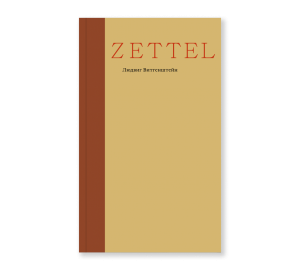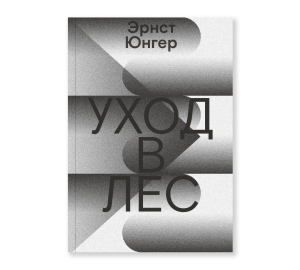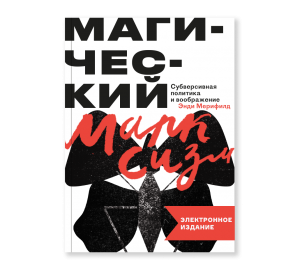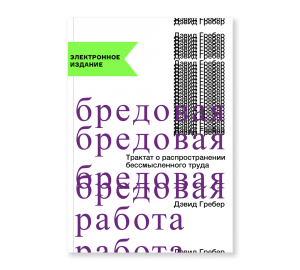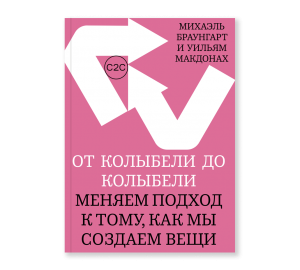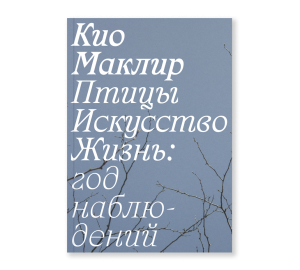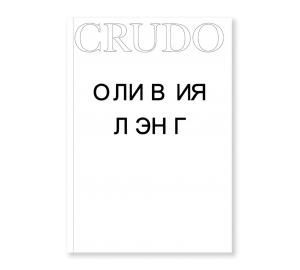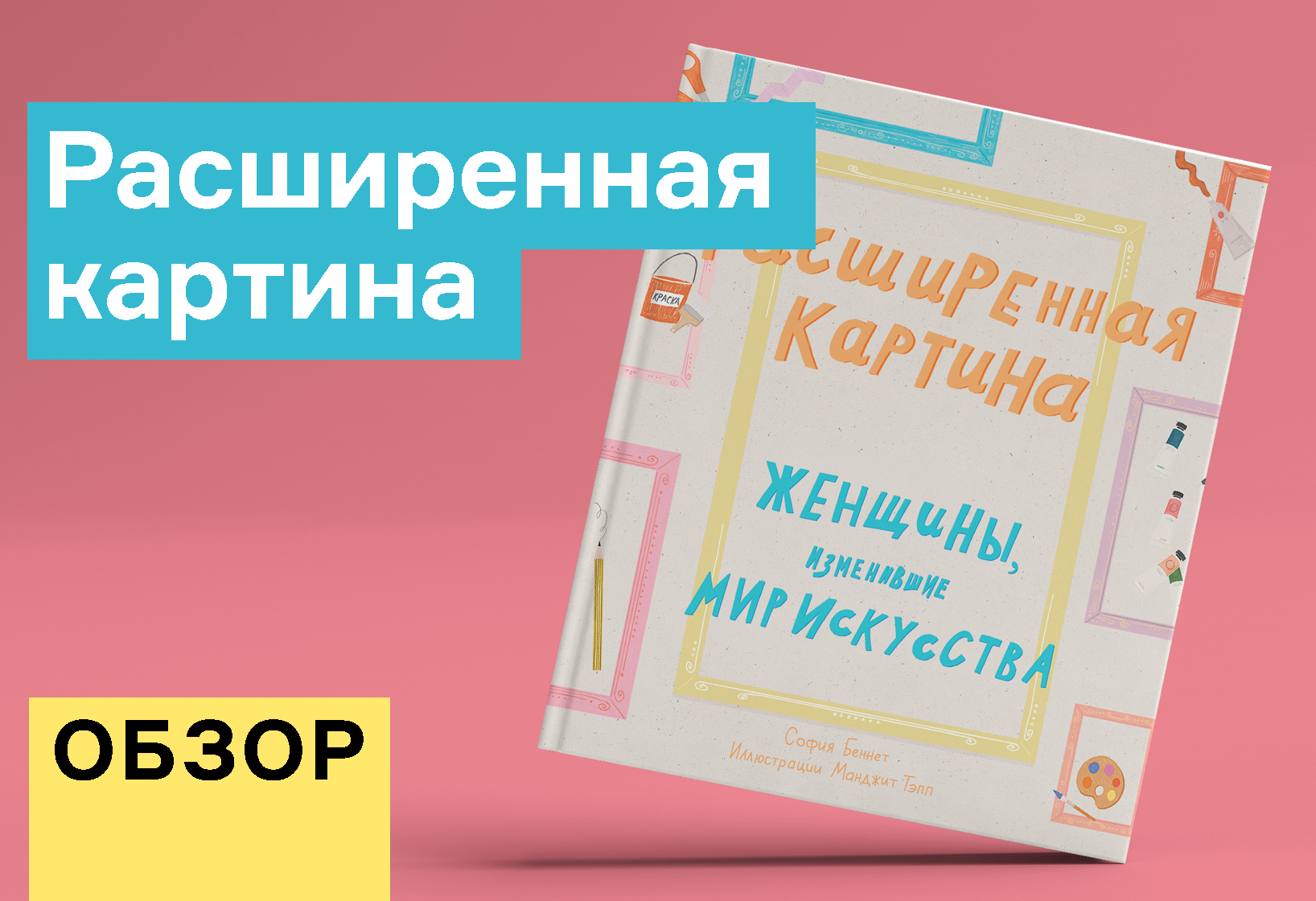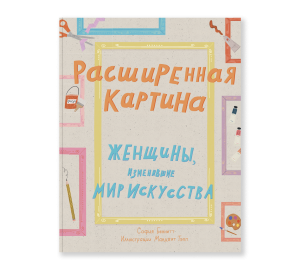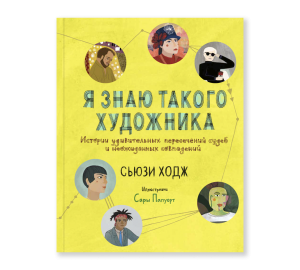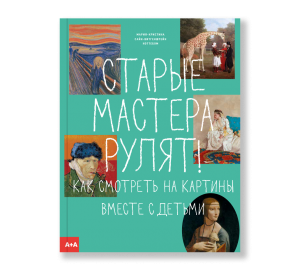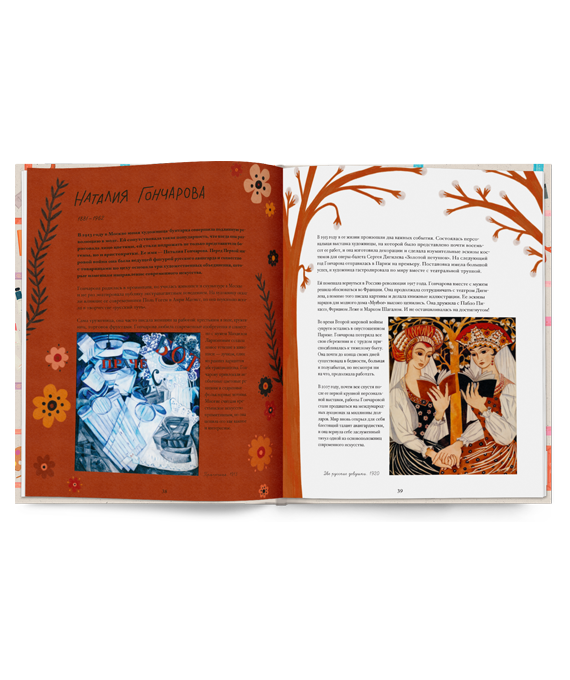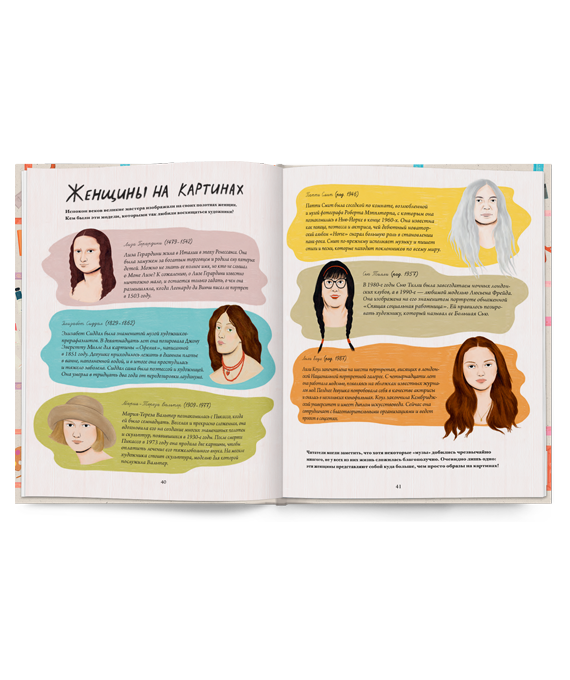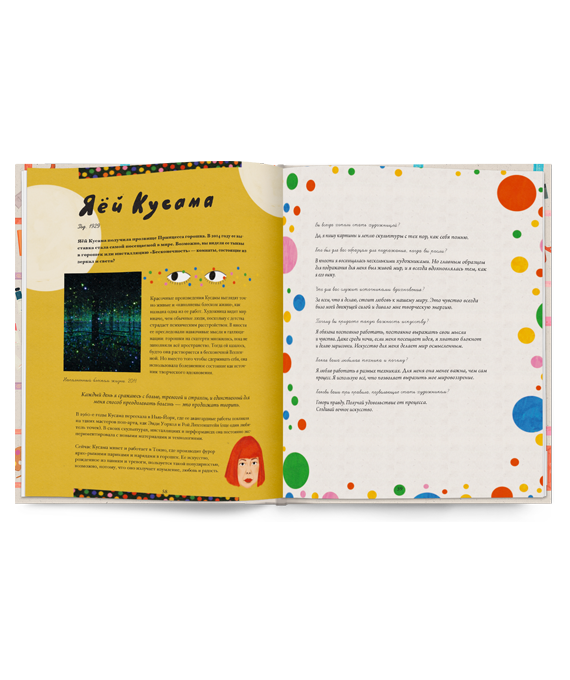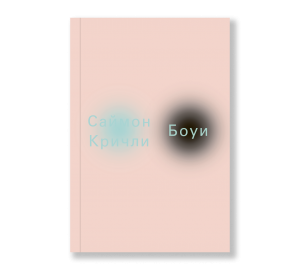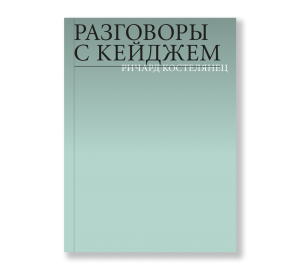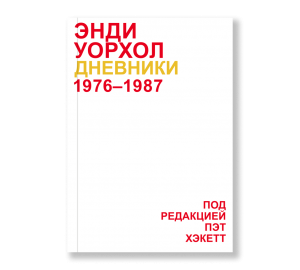17 июля на Bookmate, ЛитРес и других площадках выйдет перевод работы Энди Мерифилда Магический марксизм. Избегая формалистской критики, Мерифилд выступает за пересмотр марксизма и его потенциала, применяя к марксистскому мышлению ранее неисследованные подходы. Это позволяет открыть новые — жизненно важные — пути развития политического активизма и дебатов. Публикуем введение из книги — Круговорот бунта — реальный и выдуманный марксизм.
Жизнь, поставленная на службу опасным убеждениям,
гораздо занимательнее, чем бездумное существование купца,
ожидающего прибытия мешков с мукою.
Алехо Карпентьер (Пер. Я. Лесюк)
Воображение
Представьте себе марксизм, который не ограничивается критическим анализом, марксизм, освободившийся от споров о классах и роли государства, о диктатуре пролетариата. Представьте себе марксизм, который больше не называет себя «научным» и отказывается от различия между формой и содержанием, между явлением и сущностью. Представьте себе марксизм, размечающий контуры новой, похожей на сон реальности, материалистической фантазии, фантастического материализма, марксизм, разочарованный в теперешнем положении дел, но испытывающий сильнейшую ностальгию по мечтам о будущем. Представьте себе марксизм, выступающий за более летучее и эйфорическое политическое видение, за более фантасмагорический радикализм. Представьте себе марксизм, открывающий горизонты утверждения и вырывающийся за пределы сурового реализма критической негативности.
Если представить себе все перечисленное выше, то от марксизма ничего не останется, скажут многие. Я считаю, что они заблуждаются, и с помощью этой книги постараюсь доказать почему. Я хочу показать, как марксизм может стать магическим и как с помощью воображения может высвободиться из формалистской смирительной рубашки, хочу набросать более непосредственную, более позитивную концепцию жизни, которая выводит критику и анализ на новый уровень, отличный от еще одного исследования, показывающего, насколько несовершенен наш мир, насколько выродился правящий эксплуататорский класс и как нелепа экономическая система. Разумеется, все это сегодня воспринимается как данность, умные люди знают, что весь этот мрак и гнет свойственны нашему обществу; им не нужны претенциозные теории, чтобы рассказать, чем они ежедневно дышат на работе и в свободное время. Магический марксизм требует от марксизма чего-то большего, чего-то более интересного, быть может, даже более радикального.
Сказание о двух марксизмах
Задолго до впечатляющего коллапса советского блока люди отвергали марксистскую традицию из-за ужасов советской системы. На какое-то время после падения Берлинской стены вера в марксизм как в идеологию скатилась ниже плинтуса. МГУ быстренько убрал марксистско-ленинскую философию из учебной программы, а профессора, преподававшие марксизм в англофонном мире, были мелкой поживой. Тех немногих, кто этим занимался, вытеснили на второй план, точно стареющих динозавров. Думающие люди — даже люди критически настроенные — низвели сложные умопостроения Маркса до серии карикатур; серп и молот попали на распродажу, которая устраивается, когда бизнес закрывается, а сам Маркс был отправлен на свалку истории.
Но затем мало-помалу, с конца 1990-х, — это время совпало с восточноазиатским и латиноамериканским кризисами, — лед стал оттаивать. Критика Маркса уступила место пересмотру, ревизионизму, и его мысли стали считаться даже более злободневными, чем раньше. Маркс ошибся насчет революционных надежд рабочего класса — последний исчез с исторической арены, а его мечты о революции развеялись с падением гигантских статуй Ленина, — однако он оказался прав по поводу рисков и кризисов капитализма. Такой тип воззрений отражает выходящий в издательстве «Конде Наст» глянцевый журнал New Yorker, еще в 1997 году приветствовавший «Возвращение Карла Маркса». Маркс, говорит опубликованная там статья, продолжает жить как смышленый «ученик капитализма, и именно в таком контексте его надо принимать».
Сегодня преобладает именно этот остаточный вид марксизма, сведенный к анализу буржуазной политэкономии, — марксизм, поддерживающий деятельность Мирового банка и различных финансовых «шишек». До известной степени именно этим марксизмом засоряют себе мозги как скептики, так и его приверженцы. Даже те, кто воспринимает марксизм как теорию социальных изменений, считают, что главное в нем критика, критический анализ, зачастую излишне экономический и технический, который заумные споры его приверженцев делают чем-то безжизненным. В конечном результате, при всей своей систематичности, марксизм получается стерильным, строгим, но напыщенным, слишком скучным для молодежи, для постсиэтловского поколения радикалов — даже постпостсиэтловского поколения, все еще желающего изменить мир. Магический марксизм будет другим: молодо выглядящим и любознательным, возможно, более наивным. Он будет более цельным, видящим возможности и задающим вопросы, мобилизующимся вокруг не только интеллекта, но и инстинкта. У него не будет седой кустистой бороды. Многим молодым людям легко понять, почему рабочие подвергаются грабежу, а капитал накапливается в руках богачей. Они знают, что капитализм редко оправдывает ожидания, реализует свой потенциал. Эта осведомленность означает, что они хотят большего, хотят, чтобы их активистская деятельность нашла в марксизме источник вдохновения.
Мое поколение марксистов — лет сорока с небольшим — интересно тем, что нас очень мало. Видные марксисты много старше, это бывшие хиппи, яппи и студенты — активисты движения за демократизацию общества, — те, кто повзрослел в 1960-е. Люди более молодые, левые ученые-гуманитарии и активисты, принадлежащие к следующему за мной поколению, быть может, даже к поколению, идущему через одно, зачастую не принимают марксизм всерьез. Если они и оперируют критической теорией, то прибегают к Фуко, Деррида и другим постмарксистским мыслителям. Если они занимают активную позицию, то, скорее всего, примыкают к новым «новым левым» — целой куче автономных организаций вроде «Глобального обмена», общества «Рукус», «Критической массы» и «Вернем себе улицы» или к молодым независимым борцам с Мировым банком, Международным валютным фондом, Всемирной торговой организацией. Затем следуют «зеленые»: «Друзья земли», «Гринпис», «Клуб Сьерра», «Сеть по сохранению тропических лесов»; довольно активно идет борьба против генетически модифицированных продуктов и за местную органическую пищу, за защиту прав коренных народов, действуют крестьянские демократические движения, есть еще анархисты в черных масках и независимые борцы за то или иное дело. Тем не менее все эти люди идейно ближе Че Геваре и сапатистам, чем Карлу Марксу.
Мы ясно видим возрастной разрыв между «старыми» (used) «новыми левыми» и новыми «новыми левыми», он затрагивает как организационные платформы, так и идеологические базы. Примирить марксизм с этой новой школой постсиэтловской активистской деятельности остается трудной задачей, в особенности в том, что касается сопротивления неолиберализму и проникновению корпораций в повседневную жизнь. Интересно, но марксизм моего поколения — это сказание о двух марксизмах, поскольку мы и достаточно молодые и достаточно взрослые для того, чтобы состоять в обоих лагерях: мы понимаем и важность чтения «Капитала», и желание запустить кирпичом в окно Starbucks; мы, кому сейчас сорок с небольшим, понимаем политическое значение и трезвой критики, и слегка безумных разрушительных действий.
Против чего ты бунтуешь?
В 1968 году мне было восемь лет. Я продукт 1970-х и унаследовал от шестидесятников скорее пораженческие настроения, чем устремленность к успеху. Я рос в сером рабочем Ливерпуле, слушал панк-рок и в 1976 году окончил школу, после чего мог рассчитывать на унылую и бесперспективную работу клерка в ливерпульских доках. Страна тогда трещала по швам, люди уезжали из города, компании разваливались. Думаю, мне повезло, поскольку у меня была работа. Помнится, я оказался на рынке труда, когда одна новая группа записала пластинку «Анархия в Великобритании». Название звучало занятно, ласкало слух и, казалось, подталкивало в верном направлении. Помимо того, солист группы Джонни Роттен был практически моим ровесником. Он говорил, что не знает, чего хочет, но знает, что надо делать. «Я хочу разрушать!» Припев поразил меня не просто как строчка из песни, это скорее был политический гимн, нечто такое, что я поддерживал, мне даже казалось, это были мои потаенные мысли. 1970-е были десятилетием потерянности, кризисов и распада, и когда Sex Pistols заявили, что НЕТ БУДУЩЕГО! У ТЕБЯ НЕТ БУДУЩЕГО!, я им поверил.
Меня никогда не оставлял анархистский дух неудовлетворенности, радикализм в стиле «чума на ваш дом», и я уверен, что был не одинок, что мои ровесники чувствовали то же самое. Этот импульс и привел меня к марксизму, марксизм давал утешение и облегчение через десять лет после того, как я услышал громкий призыв Sex Pistols: НЕТ БУДУЩЕГО. Читая Маркса во время забастовки шахтеров, когда тенденция «Милитант» сумела прибрать к рукам местные советы Ливерпуля [1], я поверил в будущее, в то, что стихийное разрушение не должно вести к саморазрушению, что оно может быть умно направлено в определенное русло, использовано для демонстрации марксистской мысли и активистской деятельности.
Помнится, одним из первых марксистских текстов, которые я пытался прочесть, преодолеть, была классика 1960-х, книга немецкого эмигранта Герберта Маркузе, гегельянца и фрейдомарксиста, «Одномерный человек». Маркузе описывает людей как объекты «тотального администрирования». Тотальное администрирование искореняет свободомыслие и наделяет людей «счастливым сознанием». В 1964 году Маркузе уверял, что «тотальное администрирование» пронизало всю реальность, но он ошибался. Другое дело — 1980-е или наш 2010 год: оно существует в оборонных лабораториях, исполнительных органах, правительстве, управленческом аппарате, среди контролеров, менеджеров, специалистов по эффективности, в массовой коммуникации, рекламных агентствах, транснациональных корпорациях и наднациональных организациях, в школах и университетах. При помощи этих средств, пишет Маркузе, оппозиция устраняется или поглощается; весь потенциал для сублимации, для превращения сексуальной энергии в политическую (и наоборот) подавлен и десублимирован. Принцип Реальности побеждает Принцип Удовольствия, убеждая людей, что Реальность — единственный принцип.
Другой значимой книгой, которую я прочитал в эти долгие потерянные дни, было «Общество спектакля» Ги Дебора, написанное в 1967 году. Я нашел эту книгу случайно пасмурным дождливым днем в ливерпульском кооперативном магазине News from Nowhere. И хотя поначалу я мало что понял, понемногу, тезис за тезисом, я ее проглотил, а она проглотила меня, помогла мне понять, почему меня воротит от нормальной жизни; этот урок я никогда не забуду. В Деборе мне понравилось то, что нравится по сей день, — его бескомпромиссный радикализм, а также его лиризм.
Только несколько лет спустя я добрался до самого Маркса — я тогда посещал колледж как вольнослушатель, «студент-переросток», и ходил на посвященный «Капиталу» Маркса семинар, который вел известный марксистский географ Дэвид Харви. Открытие Маркса всколыхнуло во мне страсть к обучению, которую прежде я за собой не замечал, в школе у меня не было счастливого случая ее проявить — и теперь запоем учил и читал теорию. Харви был (и по-прежнему остается) замечательным теоретиком, он самым тщательным образом прочесал первый том великого труда Маркса, строчка за строчкой, глава за главой, объясняя его трудный для понимания исследовательский метод и сложную манеру подачи материала, и сделал это, возможно, лучше, чем сам Маркс [2].
Еще через десять лет, в 1999-м, как раз когда улицы Сиэтла окутывал дым во время демонстрации против ВТО и немало окон Starbucks превратились в осколки, я читал лекции о «Капитале» студентам Университета Кларк в США, маленькой группе радикалов, тех, кто унаследовал неудачи моего поколения [3]. На первой странице программы курса я воспроизвел в увеличенном виде изображение Маркса, с его замечательной седой шевелюрой, а сверху наложил кадр из фильма «Дикарь», знаменитый образ Марлона Брандо в байкерской кожанке. «Зачем ты бунтуешь, Карл? Чего добиваешься?» Мало кто из студентов прежде читал Маркса, еще меньше смотрело фильм, выпущенный в начале 1950-х. Но все в аудитории скоро согласились, что анализ Маркса блестящий и говорит о до боли знакомых вещах. Студенты сами знали, что кичливые адепты глобализации делают именно то, о чем говорил Маркс: с одной стороны, на рабочем месте практикуют деспотическое отношение к людям, а с другой — ратуют за анархию нерегулируемых рынков. Кажется, что вся планета пляшет под дудку капитала с его требованиями и капризами, меж тем как «он уродует рабочего… подавляя мир его производственных наклонностей и дарований… индивидуум разделяется, превращается в автоматическое орудие данной частичной работы» . Спросите любого банковского служащего, фабричного рабочего, клерка, изготовителя гамбургеров или наемного работника — каково выполнять эту частичную работу и что на самом деле означают такой деспотизм и рыночная анархия.
Студенты смотрели на Маркса свежим взглядом, а мистификация свободного рынка вызывала у них здоровый скепсис. Они были заражены энергией и вдохновлены протестной деятельностью, вновь набиравшей обороты. Люди вновь объединялись, активизм жил и проявлял себя не только в Сиэтле, но и в Вашингтоне, Генуе и Квебеке, особенно когда применялись полицейские дубинки и слезоточивый газ. Улица политизировалась и радикализировалась, пробел, оставленный институционной политикой, заполнялся; складывалась более воинственная форма борьбы, соединяющая дисциплину и организованность с буйной карнавальной спонтанностью.
Так было до 11 сентября 2001 года, до того, как два самолета влетели в здание Всемирной торговой организации и 2800 человек погибли. Безумие, трагическая потеря и кошмар для Нью-Йорка были подарком для администрации Буша. Внезапно бомбы посыпались на Афганистан, затем на Ирак, на фоне задачи «захватить Усаму бен Ладена» разыгрался новый раунд неоконсервативной реваншистской политики, и все сиэтловские политические страсти потухли практически за одну ночь. Ситуацией воспользовался «новый империализм», для которого характерно то, что Дэвид Харви назвал «накоплением через изъятие», шабаш мародерства и обмана, силы и жульничества, перенесенная в XXI век Марксова теория о «первоначальном накоплении» в интерпретации Буша [4].
Множество примеров не дают усомниться в тезисе Харви, у каждого из них свои особенности, связанные с характером места, однако везде это приводит к появлению новой почвы для выгодных спекуляций и расширения рынка: к выводу активов путем слияния и поглощения компаний, к корпоративному обману, манипулированию кредитами и ценными бумагами, опустошению пенсионных фондов, биопиратству, массовой «корпоратизации и приватизации общественных активов, не говоря уже о прокатившейся по миру волне приватизаций воды и предприятий общественного пользования» [5]. Тем временем отказ от механизмов регулирования, разработанных специально для защиты труда и окружающей среды от деградации, повлек за собой потерю прав. Перевод прав на общественную собственность, добытых за годы упорной классовой борьбы, в частную сферу был одним из самых вопиющих актов политики лишения собственности, осуществляемой во имя неолиберальной ортодоксии [6].
Мы присутствовали при «смерти политики», политики в том виде, в каком мы ее знали, хотя именно тогда казалось, что политическая жизнь выплеснулась на улицы, чтобы выразить недовольство людей, и на агоре слышались споры и крики. Но теперь у несогласных нет своей агоры, и их никто уже не услышит, агора отгорожена стеной, приватизирована, ей управляет частное охранное предприятие, распоряжается безликая корпорация. Не осталось больше места, где люди могли бы обсудить касающиеся их события, где бы они были свободны от давящего присутствия СМИ. Государство и экономика срослись в единое застывшее образование, управляемое политтехнологами, манипулируемое менеджерами. Технократы удовлетворены и успокоительным единодушием, и разногласием посредников — если существует еще что-то, походящее на разногласие. Теперь все зависят от милости эксперта или специалиста, а самый полезный эксперт — это тот, кто лучше служит хозяину.
С подачи правящей элиты в обществе царит согласие, люди не в курсе, что происходит, и немедленно забывают то, что они знали. Имеет значение только настоящее. В моде, в музыке — везде заметен схожий процесс: нужно забыть то, что было раньше, либо превратить прошлое в товар. Отныне запрещено верить в будущее. Все узурпаторы, как говорит Ги Дебор в «Комментариях к “Обществу спектакля”», имеют одинаковую цель: «они хотят, чтобы мы забыли об их приходе». И, видимо, помимо всего прочего, такая идеальная демократия конструирует для собственных нужд непримиримого врага: терроризм. Она желает, чтобы о ней судили по ее врагам, а не по достижениям. История терроризма написана самим государством и поэтому крайне познавательна. Зрители, конечно же, не должны знать всю правду о терроризме, однако обязаны обладать некоторыми познаниями, чтобы их легко можно было убедить в том, что, по сравнению с терроризмом, все остальное является более приемлемым или в любом случае более рациональным и демократичным [7].
Почти полвека тому назад Дебор говорил в «Комментариях к “Обществу спектакля”», что спектакль продолжает наращивать свою силу и СМИ уже сейчас развиты настолько, что целое поколение оказалось окончательно подчиненным их воле. При иных обстоятельствах Дебор удовлетворился бы своей работой 1967 года и предоставил бы другим рассматривать будущие события. Но, как заявлял Дебор, в нынешней ситуации, когда даже самые мрачные прогнозы оказались оптимистичными, вряд ли кто-то другой решит эту задачу.
Больше чем когда-либо еще мы нуждаемся не только в новой политике, но в новой политике с оттенком магии, замешанной на новой радикальной фантазии, в новом эликсире, в котором были бы заново смешаны наши критические понятия, который бы нас пьянил, заставлял мечтать о невообразимом, выводил за рамки реальности, за рамки общепринятых правил и логики, мечтать о политике, которая играет по своим правилам, имеющим мало общего с рационализмом и экономическим мышлением. В романе Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» патриарх Макондо Хосе Аркадио Буэндиа говорит, что «не видит смысла в борьбе между двумя противниками, которые в важнейших вопросах согласны между собой» . Я склонен согласиться: отсутствие разногласий означает подчиненность их условиям, что в свою очередь означает соответствие, введение в законные рамки, крушение надежд; умеренность означает поражение на самом старте. Как было недавно сказано в «Грядущем восстании»: «Сфера политического представительства изжила себя. Как слева, так и справа мы видим одни ничтожества, принимающие позы императора или спасителя… Мы начинаем подозревать, что люди голосуют против самих выборов» . Но почему бы не поставить более амбициозные цели, не достичь звезд, не думать шире и не смастерить что-нибудь более дикое? Быть может, пропасть между профессиональным миром политики и «политическим» удастся преодолеть при помощи магии и сопряженной с ней более смелой деятельности? Быть может это спасет нас от падения в бездну пустоты, распростершуюся перед нами? Или, быть может, уже оказавшись в этой бездне, мы, маги-смутьяны, окажемся способны из нее восстать?
Поэзия будущего
«Книга объятий» еще одного латиноамериканского автора, Эдуардо Галеано, воспевает «беспрестанное возрождение». Эта книга — наводящая на размышления притча для всех прогрессивно мыслящих, поскольку Галеано удается не дать умереть надежде, она живет у него на страницах, в сердце; его герой поднимает стаканчик рома с Мигелем Мармолем в память о его казни фашистами, случившейся пятнадцать лет назад. Мигель в течение своей жизни, проведенной в военных походах, пережил одиннадцать смертей и одиннадцать раз возвращался с того света. Он говорит, что каждое утро встает до зари и, как только открывает глаза, «поет, и танцует, и скачет на одной ножке, что категорически не нравится соседям снизу». По мере того, как уменьшается ром в бутылке, у них складывается авантюрный план: почему бы, говорят они, не основать «магический марксизм, пусть в нем будет доля разума, доля страсти и доля тайны?» «Неплохая мысль», — говорит Мигель.
Действительно, неплохая мысль. Книга «Магический марксизм» попытается превратить три эти доли в нечто целое, делая акцент на страстной и таинственной стороне реальности, вытесненной за пределы разума — или почти вытесненной. «Магический марксизм» открыто обращается к утопии, к эмоциональной политике надежды, и в то же время он движется вглубь субконтинента безрассудной мечты, спящего желания. Это потребует парения и сражения, мы должны стать подобны полковнику Аурелиано Буэндиа, который, как помним, вел с яростной страстью смертельную борьбу во имя магического либерализма. У марксизма и марксистов сегодня выбор невелик, им приходится поступать так, как полковник: скользить по узкой дорожке перманентной субверсии, тропе, которая обнаруживает себя одновременно и в теории, и на практике. Однако у магической возможности и тайны существуют свои тропы, которые мы можем наметить, заставить появиться как по волшебству, вообразить, а затем бороться за то, чтобы они стали реальностью.
Марксизм обладает поразительной магической способностью к изобретательству, к созданию собственных ценностей и этики — этики, стоящей намного выше пустопорожних ценностей, утверждаемых на граните индивидуализма свободного рынка. Если коротко, то марксизм имеет в своем арсенале средства борьбы за изобретение того, что Маркс в «18 брюмера» квалифицировал как «поэзию будущего» [8]. Социальная революция XXI века, перефразируя одну из наиболее важных идей Маркса, «может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого». Те, кто участвует в революции, предупреждает Маркс, должны постоянно критиковать себя, то и дело возвращаться к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это заново, они «с беспощадной основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток, <…> пока не создается положение, отрезывающее всякий путь к отступлению».
Магический марксизм детерминирован и поэзией, и будущим — примеров тому масса. Не только потому, что его главные приверженцы — своего рода поэты-лирики, люди, которые совершенно не обязательно пишут стихи, зато ведут поэтический образ жизни, буквально претерпевают становление поэтами, становятся интенсивностью, как мог бы выразиться Делёз, впитывают в себя сильные чувства и поэтические ценности, непосредственные ценности, которые дают множество возможностей. Но главное — марксизм превращает жизнь в поэму, вырабатывает творческое и критическое отношение к бытию [9]. Вальтер Беньямин, например, видит нечто магическое в том, чтобы найти поворот на улицу с односторонним движением. Для него это «мирское озарение», мысли о новых идеалах, сновидение в состоянии экстатической трезвости, «диалектическая сказка», как он называл это, нечто, нарушающее «склеротические идеалы свободы» и доводящее поэтизацию жизни до самых границ возможного — иначе говоря, до поэтизации политики. Субкоманданте Маркос в джунглях мексиканского штата Чьяпас также выступает за поэтизацию политики; то же самое делали французские и карибские сюрреалисты в 1940-х годах, интеллектуалы вроде Андре Бретона и Бенжамена Пере, а также мартиникский марксист и поэт Эме Сезер, который на страницах журнала «Тропики» уверял, что «истинные цивилизации» — это «поэтические удары: удары звезд, солнца, растения, животного, удар круглого глобуса, дождя, света, удар жизни, удар смерти» [10]. Политика должна быть как поэзия: как нечто жаркое, как пламенный голос из-за края, неумеренность либертена, антинаука, раскаленный докрасна пенящийся альтермарксизм.
Соответственно, поэзия становится для магического марксизма чем-то онтологическим, Бытием-в-мире и Становлениемв-мире, изобретением жизни и избавлением от тирании, властвующей над этой жизнью. Поэтизированные жизни сотрясают общепринятые понятия о порядке и респектабельности, холодном рационализме и сдержанности. Магический марксизм нарушает статус-кво, он провозглашает то, что в 1920-х годах провозглашали Андре Бретон и сюрреалисты: власть абсолютного нонконформизма и чудесной нереальности. Это кредо помогает перенести магический марксизм в будущее, выкристаллизовавшееся из спонтанного наплыва сильных чувств, увлекающего за собой наличную реальность, выкристаллизовавшееся из скачка через онтологическую расщелину между «здесь» и «там», между настоящим и грядущим.
Платон, древнегреческий идеолог, был первым, кто узрел опасность в поэтах-романтиках, подрывающих величественную гармонию «естественно упорядоченного» общества. В десятой книге «Государства» он напоминает нам о том, что поэты пробуждают худшую сторону души и губят ее разумное начало, внедряя «в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй» и ослабляя государство своими выступлениями пред зрителями на площади, способными возбудить массовые беспорядки и гражданское неповиновение. Основным составляющим магического марксизма — желанию, мечте и удовольствию — нет места в государстве Платона: «Если же ты допустишь подслащенную Музу, будь то мелическую или эпическую, тогда в этом государстве воцарятся у тебя удовольствие и страдание вместо обычая и разумения».
Многосерийные сны и эпидемия бессонницы
Магический марксизм будет стремиться подражать фантазийному миру магического реализма и выдвигать интеллектуально-политический проект, в котором сопротивление влечет за собой поэтическое преображение реальности, когда нет прямой атаки на власть, когда общество не столько разрушается, сколько обновляется. Магический реализм находит источник вдохновения в действительности, при этом превращает эту зачастую суровую действительность в фантазию, в фантастические и призрачные субъективные видения, которые становятся более реальными, чем сама объективная реальность. Эти видения подобны домыслам, причудливым образом рассказывающим правду, изобретающим новую правду или предъявляющим голую правду, к которой мы так или иначе имеем отношение, почти инстинктивно, почти ее не видя. Действительно, правду магического реализма невозможно измерить или оценить количественным образом. Кто может поверить, как просят поверить читателей «Ста лет одиночества», что люди рождаются с хвостами или что их преследуют маленькие желтые бабочки? И кто умеет летать или живет больше ста лет?
Эпидемия бессонницы, поразившая в романе «Сто лет одиночества» жителей Макондо, — еще один сверхъестественный, магически-реалистический образ. Она означала не только, что никто не мог спать, но и что никто не нуждался в сне. Сначала люди были рады, что сон пропал, и расстройство суточных биоритмов и галлюциногенное состояние не вызывало ни у кого беспокойства, поскольку дел было невпроворот и на все едва хватало времени. «Не будем спать? Ну что ж, тем лучше, — с удовлетворением заявил Хосе Аркадио Буэндиа. — Так мы успеем больше взять от жизни» (с. 67). Люди занимались всякими пустяками и болтали без умолку, рассказывая друг другу одни и те же старые анекдоты, которые немедленно забывались, иногда по истечении всего нескольких минут. Так продолжалось, пока некоторые жители Макондо не затосковали по сну. Не потому что им хотелось спать и не из-за усталости: скорее из ностальгии по сновидениям. Однако эпидемия бессонницы медленно, но верно приводила к тому, что люди забывали о сне, а затем из их памяти стирались все воспоминания прошлого. Оставалось только вечное настоящее, зараженное настоящее, давящая ситуация, воспринимаемая как естественная реальность, единственная реальность.
В Макондо эпидемия бессонницы передавалась перорально, через зараженные еду и питье. Такое ощущение, что пищевые продукты, подвергшиеся технологической переработке, обладают таким же свойством, умерщвляя нашу способность помнить, откуда что взялось, предлагая нам быстродействующие соленый или сладкий стимуляторы, поддерживающие нас в состоянии дремотного бдения. Меж тем распространяемая СМИ дезинформация засасывает нас в трясину забывчивости, делая нас немощными задолго до того, как мы состаримся, превращая в людей, не помнящих даже недавнего прошлого и не могущих видеть чуть дальше собственного носа и банального двухмерного высокотехнологичного экрана. Наши тела не чувствуют усталости, даже когда наш разум отключается. Мы радуемся бесконечной работе, постоянному пребыванию в сети, бесконечным разговорам по мобильному телефону, телевидению с сотней каналов, бесконечному потоку новостей и фразам из речей политиков, цитируемых по радио и телевидению, бесконечным магазинам, которые никогда не закрываются, бесконечным рядам товаров в супермаркете, пустячным «многосерийным» снам, о которых мы знаем, что они реальны и даны нам не за просто так. Наши сны — холодные кусочки реальности, являющиеся нам наяву, созданные кем-то еще, за наш счет.
Разумеется, у нас всегда есть полковник Аурелиано Буэндиа — вдохновленный странствующими цыганами, упорно боровшийся с эпидемией бессонницы, защищавший власть мечты, мечты о новом будущем, о новом Макондо, избавляющемся от наваждения сырых болот. Невзирая на все это, эпидемия бессонницы не отступала и, возможно, только сейчас, недавно, в наш пораженный кризисом век, эпидемия начала сходить на нет, и мы готовы бороться с потерей памяти, с неспособностью мечтать о будущем. Быть может, наше зараженное настоящее наконец отмирает и мы находимся в точке перегиба, вступаем в новую эру, в которой люди опять научатся мечтать и которая, возможно, станет магической.
Реальный и воображаемый марксизм
В книге «Толкование сновидений» Фрейд говорит, что все всегда выглядит лучше, пока мы спим [11]. Я хочу использовать эту метафору, чтобы сделать акцент на власти сна, фантазировании и политическом исполнении желаний. Для Фрейда психические силы, соперничая с «принципом реальности», действуют в сфере бессознательного, где фантазия и желание сохраняют высокую степень свободы. Нет необходимости говорить о том, что принцип реальности пытается подчинить себе свободную волю, поскольку, как все главенствующие силы, он настаивает на том, что в фантазии и удовольствии нет никакого проку. Реальность слушается только законов разума, а не языка мечты. Однако представьте себе марксизм, написанный языком мечты, марксизм, который возвеличивает ценность табуированных образов свободы. Представьте себе, что в основу магического марксизма положен принцип удовольствия.
До какой степени нечто подобное может быть истинным, реальным? Это зависит от вашего воображения, от того, насколько мысли сновидения и содержание сновидений вписываются в реальность бодрствования, как переваривают эту реальность. А это уже зависит от нашего воображения: веришь ли ты своим глазам или видишь то, во что веришь. Поразительно, например, насколько буржуазный порядок построен на фантазии, мире мечты, в котором главенствующие фантазии сбываются, поскольку власти предержащие искренне верят в них, поскольку они претворяют эти фантазии в жизнь. Посредством активного желания и немалой силы буржуазия превращает экономический принцип удовольствия в принцип политической реальности, и наоборот.
Возьмем величайшую фантазию буржуазии, самую большую когда-либо осуществившуюся мечту: фондовую биржу. Насколько многое там обусловлено фантазией и образами будущего, надеждой и желанием, способностью необузданного воображения создать совершенно вымышленный, перевернутый мир богатых? Здесь участники признают подобную реальность, поскольку верят в нее, поскольку видят то, во что верят. Более того, им не страшны лингвистические различия и национальные границы; они изъясняются на «стандартном» языке, который все понимают, имеют точки пересечения, не поступаясь при этом своим родным языком и часто не отказываясь от собственной валюты. Что за чудесная человеческая утопия, что за эффективное транснациональное местничество! Какая жалость, что левые не могут придумать аналогичной вымышленной формы жизни и осуществить ее на практике.
Действительно, такая финансовая система — реальность, необходимая для функционирования капиталистического общества, для крушения временных и пространственных препятствий к накоплению, для свободного перетекания капитала между различными сферами производства и обмена, для финансирования активов дорогостоящего «основного капитала» (фабрик, складов, офисов и объектов инфраструктуры). Правда, однако, и то, что этот фантазийный мир предсказания финансового будущего и создания воображаемых ценных бумаг до непосредственного товарного производства сопряжен с большим риском. А помимо того, вся система периодически рушится — должна рушиться — и наступают кризисы. Оптимизм по отношению к растущей стоимости ценных бумаг, по Марксу, «порождает всякие извращенные формы» [12]. Маркс знал, что если всякая связь с реальными механизмами возрастания капитала «исчезает бесследно», то «представление о капитале как о стоимости, самовозрастающей автоматически, окончательно упрочивается». Таким образом, «даже накопление долгов может выступать как накопление капитала». И так как «все удваивается, утраивается и превращается в простой призрак» [13], то «со всей полнотой обнаруживается извращение»: если в экономике обращается только огромное количество кредитных денег и фиктивный капитал, то буржуазное здание сотрясается, оказываясь «чисто иллюзорным» .
Но давайте посмотрим правде в глаза: хотя эта призрачная система выходит из равновесия намного чаще, чем следует, но не так часто, как этого ожидают, надеются ее критики. И даже когда она выходит из равновесия, у нее есть способ возвращаться к нему посредством усиления эксплуатации труда. Причина, по которой сбои происходят относительно нечасто, быть может, кроется в таких важных оговорках Маркса, как «всего лишь» и «полностью»: если система становится более или менее призрачной или полностью иллюзорной, тогда рано или поздно она наталкивается на прагматичный принцип реальности, точно так же, как реальность обуславливает магическое воображение, например, Гарсия Маркеса.
Я говорю все это, однако, когда наша финансовая система продолжает расширять до предела кредит доверия к себе и нашу легкомысленную веру в нее: фиктивный капитал определяет поведение капитала реального, создает утопические границы возможного, будущего накопления капитала. Теперь все так и происходит, словно зона фиктивного тащит за собой зону реального. Разве это не великолепная модель магического марксизма? Будет ли магическая сторона марксизма функционировать так же, как фиктивный капитал для буржуазии? Желание (и надежда) «фиктивного» идеализма влечет за собой «реальный» материализм, изобретая новую основу для более продвинутого, более высокого реализма, воздвигая стеклянный купол возможного, вероятного, реальной действительности.
Бунт также может обращаться и обращается, как фиктивный денежный капитал: почти иллюзорно, проходя через границы и продвигаясь через глобальные пространства, часто через киберпространство, обмениваясь, преобразуясь в характерный для того или иного места радикализм. Таким образом, материальности бунта свойственны нематериальные качества: это чувство, структура чувства, далекая солидарность, «пронзительный крик» (по выражению Джона Холлоуэйя), слабое желание, робкая надежда, вдохновляющая, стимулирующая и пробуждающая гнев, которая вызывает у людей потребность организоваться и действовать там, где они находятся, любым возможным способом. Это подобно тому, как слух о борьбе сапатистов в сельве вдохновляет движения в городских джунглях. Так задается ценность фиктивного бунта, так его обращение от одного момента к другому становится будущей материальной позицией, прочным синтезом общности конкретных моментов. У множества отдельных кампаний есть необходимость обращаться в едином процессе глобального бунта так же, как у Маркса обращается капитал, как это описано в предисловии к «Grundrisse» [14]: как уникальные моменты в общем едином процессе, как диалектические движения, подвергающиеся постоянному изменению согласно закону о переходе количества в качество. Этот образ придает новое значение тому пониманию, что капитал — это в действительности труд, что труд — это капитал, производство — это потребление, потребление — это производство и т. д. Обращение нематериального бунта — это производственный фактор в конкретной субверсивности.
Если приглядеться повнимательнее к анализу Марксом кредитной системы либо к любой дискуссии о современной финансовой системе в буржуазной прессе, то можно увидеть, что большая часть терминологии напоминает терминологию Эрнста Блоха, нашего величайшего марксиста-утописта. Везде вы встречаете понятия о «позициях будущего», все предвидится, оценивается, проектируется и обещается, везде фигурируют будущий доход, будущий обмен, все неосязаемо и номинально. В той системе, которую мы помещаем на противоположный конец политического спектра, наш творческий и неутомимый политический импульс — принцип надежды. В 1930-е годы, когда континентальная Европа была объята огнем нацизма, Блох предпринял подробнейшее исследование духа магического марксизма. В наши раздираемые войной времена он завещает нам «желанные образы» будущего, и многое из того, что он написал, звучит как великая эпическая поэма в стиле Гомера, сиеста в гамаке, как у Маркеса, полная Эльдорадо и Эдемов, мюнхгаузенского Макондо с далекой планеты, которую мы зовем Землей будущего, которую мы еще не видели. (Блох любил жонглировать утопическими идеями «еще-не-осознанного».) Волшебное таинственное путешествие (magical mystery tour) Блоха делает акцент на изобретении, это полет на ведьминой метле, он создает, скорее, чем обнаруживает новые концепции, придумывает новый мир, где «предвидимый элемент» гарантирует его будущее осуществление — совсем как на мировых финансовых рынках.
Магия и повседневная жизнь
Марксистам стоит придавать большое значение принципу надежды в наших магических образах желания и в сновидческом мышлении, в области еще-не-осознанного. Это предполагает, что мы не смотрим на вещи трезво. Я имею в виду отказ, отрицание «реального мира», реальности, навязанной людям на нашем земном шаре. Таким образом, магический марксизм, о котором я буду вести речь, больше не является марксистской «наукой», наукой выставлять напоказ правду, прячущуюся под ложной видимостью, это скорее изобретение другой правды, расширение горизонтов возможного, демонстрация того, как люди превращают жизнь в нечто лучшее. Если кратко, тезис, который я хочу раскрыть в этой книге, состоит в том, что магический марксизм имеет дело не с открытиями, а с изобретениями, не с рационализмом, а иррационализмом. Это не фетишизм, не абсолютная правда, скрытая за бесконечными выдумками и фальшивыми образами мира. Магический марксизм означает создание другой фантазии, отталкиваясь от фантазии господствующей; его критическая мощь зиждется не столько на критике как таковой, сколько на способности разрушать и пересочинять, порождать желание и вселять надежду. Здесь марксистский земной дух путешествует за пределы науки, за пределы государства, за пределы споров о «рабочем классе», в область недостоверного, ведя в рай, который, как нам известно, может существовать только как потерянный рай.
«Магический марксизм» переосмысливает роль рабочего класса в социальных переменах и, как я надеюсь показать, делает это не без причины. Достаточно сказать, что Маркс ставил перед собой задачу исследовать возможности низвергнуть экономическую и политическую систему, которую мы называем «капитализмом». Умаление «исторической миссии» рабочего класса не означает умаление исторической миссии марксизма: предполагается, что, помимо всего прочего, марксизм — это теория и практика того, как жить после капитализма, как свергнуть капитализм, как между людьми возникает социальная солидарность вне зависимости от того, принадлежат они к «рабочему классу» или нет. Активисты разных стран, как нас убеждает Андре Горц, не обязательно отождествляют себя с «работой» или с другими работающими. Они не хотят получить власть, захватить контроль над предприятием. Скорее им хочется избавиться от работы, отторгнуть ее природу, содержимое и смысл (или его отсутствие), равно как и традиционные стратегии и организационные формы рабочего движения [15]. Когда-то рядовые члены рабочего движения находили друг друга на фабрике, теперь солидарность и борьба приобрели глобальный размах и занимают все социальное пространство, глубоко проникая в повседневную жизнь. Теперь борьба ведется за возвращение себе жизни вне работы, за повседневную антикапиталистическую и посткапиталистическую общность.
«Магия играет огромную роль в повседневной жизни, — писал в 1947 году марксист и философ повседневности Анри Лефевр, — будь то эмоциональная идентификация и взаимодействие с другими людьми или тысячи мелких ритуалов и жестов, которыми пользуется каждый человек, каждая семья, каждая группа». Для Лефевра повседневная жизнь это — с одной стороны, область, колонизируемая предметами потребления и подтачиваемая всеми типами отчуждения, и в то же самое время это главная арена для значимых социальных изменений — единственная арена — «неизбежная отправная точка для осуществления возможного». «Самые необычные вещи в то же самое время являются самыми заурядными», — говорит Лефевр, сводя вместе две области, выделяя радикальную диалектическую силу «магического» и «повседневного». В ноябре 2008 года французская Служба внутренней контрразведки штурмовала Тарнак, сонную деревушку, примостившуюся на плоскогорье Мильваш региона Лимузен, в которой обосновалась группа юных «ниспровергателей» (subversives), превративших депрессивную местность в процветающую общину, наполнивших энергией общественную жизнь, придавших ей праздничную атмосферу сопротивления. Кто-то может спросить: а не боится ли государство не столько «терроризма», сколько желания людей изменить повседневную жизнь, жить иначе, вне институционных структур, вне капитализма? Не повторное ли завоевание территории обыденного, наложенное на государственную картографию, придает тарнакскому активизму его остроту, угрожающую логику, потенциальную магию?
Лефевр много знал о магической повседневности, так же как и сюрреалисты, видевшие поэтическую силу в повседневных вещах, повседневных соприкосновениях. Однако для сюрреалистов «чудесное» часто таилось в галлюциногенных моментах, вне обыденной жизни, в зонтиках и лобстерах, в швейных машинках и на анатомическом столе. Как однажды сказал Алехо Карпентьер, первый магический реалист и основатель кубинской коммунистической партии, это «бедность воображения» [16]. Когда магическое не сфабриковано, не является продуктом сознательного преувеличения, а содержится в самой реальности, в банальности, думает Карпентьер, — это даже больше будоражит, выглядит более оригинально. «Чудесное начинает быть по-настоящему чудесным, — говорит Карпентьер, — когда оно возникает из-за неожиданного преобразования реальности». Мы находим магическое в неожиданном богатстве реальности либо в укрупнении масштаба и понятий реальности, постигаемой с особой интенсивностью благодаря возбуждению духа, который ведет его к своего рода экстатическому состоянию. Феномен чудесного предполагает веру. Те, кто не верит в святых, не излечится с помощью их чудес, а те, кто не являются Дон Кихотами не попадут, телом, душой и пожитками в мир Амадиса Гальского и Тиранта Белого [17].
Этот отрывок из Карпентьера очень важен для построения магического марксизма, поскольку он делает акцент на конкретности магического состояния, на идеализме, который не является гиперидеализмом, на преобразующей политике, а не просто политике оккультизма: область магического — это грубая, латентная и вездесущая реальность, которую мы видим перед глазами, и она ожидает преобразований со стороны тех, кто в нее верит. Примечательно, например, что в «Сто лет одиночества» практически весь магический реализм ограничен четырьмя стенами дома Урсулы Буэндиа. Все, что происходит, затрагивает это здание: кутежи и разорительные войны, изобретения и любовные приключения, алхимия и магия, история и география Колумбии. (Черновики «Ста лет одиночества» носили название «Дом».) Именно по этой причине Гарсия Маркес считал, что его аппетит к фантазии разжигает обычная повседневная жизнь. Мы, магические марксисты, можем извлечь из этого урок. Магический марксизм сокрыт именно в повседневности, повседневность — это область детоваризации и возрождения магического начала, новая диалектика просвещения XXI века.
Одна из проблем современного капиталистического общества состоит в том, что жизнь на работе вступает в противоречие с повседневностью, попирает ее, расстраивает время бодрствования, дезорганизуя самого человека. Для большей части населения мира работа — это убитая жизнь, бессмысленная потеря времени, область отчуждения и наблюдения часов, ожидания выходных, отпуска, пенсии. Вы работаете, следовательно, вы можете себе позволить оставаться на работе, позволить себе соответствующие издержки, позволить себе быть близко (или далеко) от работы. Законсервированная в своем ничтожестве, работа — это область антимагического, кошмар, давящий на мозг. Каждый играет свою роль в разделении труда, послушно исполняя обязанности как абстрактный труд, труд в общем, как труд количественный, измеримый, безразличный к содержанию, безразличный к природе и способностям каждого отдельного человека.
Магическое конкретно: это арена реальной жизни. Магическое — это воображаемое представление о реальных условиях жизни человека. Оно уводит от суматохи современного капитализма, от его какофонии, от скрежета тормозов и пробок, от сигналов тревоги и сирен, от звонков и технологических приспособлений, которые требуют нашего неотступного внимания, которые разъедают мозг, подавляют воображение и не дают мечтать. Магия процветает, когда вы живете свободно, не связываете себя с работой, с работой за деньги. Как писал молодой Маркс в своих «Экономическо-философских рукописях 1844 года»:
история и география Колумбии. (Черновики «Ста лет одиночества» носили название «Дом».) Именно по этой причине Гарсия Маркес считал, что его аппетит к фантазии разжигает обычная повседневная жизнь. Мы, магические марксисты, можем извлечь из этого урок. Магический марксизм сокрыт именно в повседневности, повседневность — это область детоваризации и возрождения магического начала, новая диалектика просвещения XXI века.
Одна из проблем современного капиталистического общества состоит в том, что жизнь на работе вступает в противоречие с повседневностью, попирает ее, расстраивает время бодрствования, дезорганизуя самого человека. Для большей части населения мира работа — это убитая жизнь, бессмысленная потеря времени, область отчуждения и наблюдения часов, ожидания выходных, отпуска, пенсии. Вы работаете, следовательно, вы можете себе позволить оставаться на работе, позволить себе соответствующие издержки, позволить себе быть близко (или далеко) от работы. Законсервированная в своем ничтожестве, работа — это область антимагического, кошмар, давящий на мозг. Каждый играет свою роль в разделении труда, послушно исполняя обязанности как абстрактный труд, труд в общем, как труд количественный, измеримый, безразличный к содержанию, безразличный к природе и способностям каждого отдельного человека.
Магическое конкретно: это арена реальной жизни. Магическое — это воображаемое представление о реальных условиях жизни человека. Оно уводит от суматохи современного капитализма, от его какофонии, от скрежета тормозов и пробок, от сигналов тревоги и сирен, от звонков и технологических приспособлений, которые требуют нашего неотступного внимания, которые разъедают мозг, подавляют воображение и не дают мечтать. Магия процветает, когда вы живете свободно, не связываете себя с работой, с работой за деньги. Как писал молодой Маркс в своих «Экономическо-философских рукописях 1844 года»:
Рабочий в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развивает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свои духовные силы. оэтому рабочий толлко вне труда чувствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует себя оторванным от самого себя. У себя он тогда, когда он не работает; а когда он работает, он уже не у себя [18].
Однако рабочие, даже когда они не работают, не владеют собой, поскольку работу и дом, производство и воспроизводство — повседневную жизнь во всех ее аспектах — захватила и подчинила себе меновая стоимость. Вне работы трудящиеся становятся потребителями, владельцами денежных средств; так что частная жизнь превращается в объект рекламы, моды, комфорта и полуфабрикатов, поп-звезд и мыльных опер, посудомоечных машин и барабанных сушилок. Границы между экономической, политической и частной жизнью оказываются практически размытыми. Все потребляемое время и пространство — это сырье для новых продуктов, новых товаров, для всеохватывающих товарно-денежных отношений.
По контрасту область магического не приспособлена для homo economicus или homo industrialis. Это царство homo ludens, человека играющего — идея, близкая пониманию Лефевром игры и того, чем повседневная жизнь должна быть. Ежедневная политика тоже предполагает развлечения, сенсации и скандалы; игра питает политику, и политики должны сами быть homo ludens. Эта идея восходит к Йохану Хёйзинге — чей текст 1938 года, неся на себе ту же печать, утверждал жизнеспособность «игрового элемента» в человеческой культуре. Базовое качество игры, говорил Хейзинга, это ее радикальное несоответствие серьезности. Игра одновременно принадлежит «реальной» жизни и находится вне ее. Она отступает от повседневности и входит в эфемерную сферу деятельности, где приобретает собственный магический характер и часто является выражением свободы и радости.
Игра обогащает нашу культуру, считал Хёйзинга, удовлетворяя эмоциональные и психологические потребности, организуя «игровые сообщества» и «игровые площадки», поддерживая эстетический баланс и репродуктивный интерес. В то же самое время игра подрывает (subverts) культуру, действуя за пределами ее «нормальных» границ, в узком мирке, священной области, которая может подточить серьезность повседневной и рабочей жизни. «Сфера священной игры — та самая, где дитя и поэт чувствуют себя как дома, так же как и дикарь» [19], — говорил Хёйзинга. Несмотря на все это Хёйзинга задается вопросом: «В какой степени культура, в которой мы живем, раскрывается в формах игры? В какой мере игровой дух властен над человеком, вовлеченным в переживание культурных феноменов? Минувший век, думалось нам, утратил многое из тех элементов игры, которые были свойственны прошлым столетиям. Выправился ли этот недостаток или стал еще больше?» [20] Ответ Хёйзинга знал наверняка: безусловно, стал еще больше. «Все больше и больше напрашивается вывод, что игровой элемент культуры с XVIII века, в котором мы еще могли наблюдать его в полном расцвете, утратил свое значение почти во всех областях, где он раньше чувствовал себя “как дома”. Современную культуру едва ли уже играют, а там, где кажется, что ее все же играют, игра эта притворна. Между тем различать между игрой и неигрой в явлениях цивилизации становится все труднее» [21]. Потерять игровой элемент, однако, это все равно что потерять часть себя, ограничить свои силы и воображение, отогнать мысли о магическом, урезать его свободу действия. «Чтобы это игровое содержание культуры было культуросозидающим, — настаивает Хёйзинга, — оно должно оставаться чистым», иными словами, чисто магическим [22].
Магический марксизм, как мы это увидим в следующих главах, обитает где-то в пустотах освобожденного времени, освобожденного пространства, между правом на свободное время и правом на свободное пространство, на пространство самоутверждения и «самораскрытия», на пространство-время независимой деятельности, интеллектуальных, артистических и практических усилий. Сегодня мы видим совершенно иные политические ставки; новую радикальную марксистскую политику предстоит пересочинить, волей-неволей придумать заново, и это будет поручено людям различных типов, тем, кто действует сообща, ищет себе друзей и хочет изменить жизнь. Освященная временем Марксова критика политической экономии отходит на второй план, поскольку речь идет не о рабочих местах, а о том, чтобы вернуть себе повседневность целиком — и рабочую жизнь и досуг, наполнить их радостью и магией, игрой и коллективной борьбой, мечтой и фантазией, поэзией будущего.
Может ли марксизм создать из горячечной утопии Макондо магическое настоящее? Возвращаясь к вопросу об утопиях годом позднее, в 1982–м, в нобелевской речи, Гарсия Маркес говорит тем из нас, кто считает наше одиночество предопределенным и вечным:
Мы как сочинители сказок, верящие во все, вправе веритл в то, что еще не поздно начатл создаватл совсем иную утопию. Новую и всепобеждающую утопию жизни, где никто ничего не сможет решатл за других, даже то, как им умеретл, где будет существоватл истинная любовл и счастле станет возможным и где семли, приговоренные к ста годам одиночества, получат — раз и навсегда — второй шанс на земле [23].
И поскольку эпидемия бессонницы, захватившая второе тысячелетие, начинает сходить на нет, за эту повседневную грезу я буду счастлив поднять тост и буду лелеять ее в моих снах — качаясь в гамаке где-то там, где тепло и солнечно, среди желтых бабочек и золотых рыбок…
Примечания
[1] «Милитант» была троцкистской фракцией британской Лейбористской партии, установившей контроль над местными советами Ливерпуля после громкой победы на выборах в мае 1983 года. Депутаты от «Милитант» царствовали в городе практически безраздельно вплоть до 1987 года, установив свой собственный вариант бескомпромиссного и конфронтационного социализма. Они часто конфликтовали с правительством тори, возглавляемым Маргарет Тэтчер, по вопросам бюджета и снижения местных налогов, но также конфликтовали с профсоюзами и Лейбористской партией Нейла Киннока. Для дополнительной информации см.: Peter Taaffe, Tony Mulhearn. Liverpool: A City that Dared to Fight. London: Fortress Book, 1988; Michael Parkinson. Liverpool on the Brink. Hermitage: Policy Journal, 1985.
[2] После почти сорокалетнего преподавания «Капитала» Харви наконец записал свои лекции и издал их в виде книги для всеобщего осмысления. Текст ее — пошаговое пособие как для новичков, так и для людей, знакомых с предметом, и необходимый ресурс для тех, кто хочет понять природу неисчислимых мировых кризисов и нестабильности. См.: David Harley. Introduction to Marx’s Capital. London: Verso, 2009.
[3] Я описал свой опыт в статье: Andy Merrifield. Marx@2000.com // Monthly Review. November 2000. P. 21–35; см. также: Jeff Byles. Dialectical U // The Village Voice.
January 23, 2001. Мое поколение действителлно потерпело поражение, ретроспективно это становится очевидным. Точно так же, как поколение 60-х просмотрело приближение экономического кризиса начала 1970-х, даже если они и были бессильны что-либо изменить, моему поколению не удалось остановить ответный ход «новых правых» в 1980-е и предотвратить долгий марш неолибералов на протяжении 1990-х.
[4] David Harvey. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press, 2003, см. особенно главу 4. Романы Джона Бёрджера тонки и многослойны, и он умеет называть вещи своими именами. Он не для проформы заклеймил нашу современную систему как «экономический фашизм». «Сегодня, в эпоху глобализации, — пишет он, — миром управляет финансовый неиндустриальный капитал, радикально изменилось отношение к преступности и тюремному заключению. Разумеется, тюрьмы существовали всегда, их число постоянно увеличивалось. Однако с некоторых пор тюремные стены решают иные задачи. Изменилось ощущение, связанное с тюремным заключением». (John Berger. Dans l’entre temps: réflexion sur le fascisme économoqie. Montpellier: Indigène editions, 2009. P. 10).
[5] Harvey. The New Imperialism. Р. 148.
[6] Ibid.
[7] Там же. С. 133.
[8] Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта // К. Маркс., Ф. Энгеллс. Соч. 2-е. изд. Т. 8. С. 122.
[9] Гарсия Маркес часто говорил, что литература для него — это поэтизация действительности. Возможно ли взглянуть в том же свете на политику? В первом томе воспоминаний Гарсия Маркес задается схожим вопросом: почему мыслитель наподобие Фридриха Энгельса изучался как скучный политический экономист, а не как вдохновенный лирический поэт? Гарсия Маркес ссылается на работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», называя ее «эпической поэмой прекрасных приключений человечества» (Гарсия Маркес Г. Жить, чтобы рассказать о жизни. // пер. С. Маркова, Е. Марковой, В. Федотовой, А. Малоземовой. М.: Астрель, 2012).
[10] Aimé Césaire. Calling the Magician: A Few Words from a Carribbean Civilization ed. Michael Richardson // Refusal of the Shadow: Surrealism and the Caribbean. London: Verso, 1996.
[11] Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Эксмо-ресс, 2017. См. особенно главу 3 «Сновидение — осуществление желаний».
[12] Маркс К. Капитал. T. 3. Гл. 29 // К. Маркс., Ф. Энгеллс. Соч. 2-е. изд. Т. 22. Ч. 2. С. 8.
[13] Там же, С. 15.
[14] «Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomieа» — произведение Маркса, представляющее собой подготовителлные материалы к Капиталуа. На русском языке издано как «Экономические рукописи 1857–1859 годов». — Примеч.пер.
[15] André Gorz. Farewell to the Working Class. London: Pluto Press, 1982. P. 67.
[16] Alejo Carpentier. On the Marvelous Real in America / eds. Lois Parkinson Zamora, Wendy Faris // Magical Realism: Theory, History, Community. Durham: Duke University Press, 1995. P. 85.
[17] Carpentier. On the Marvelous Real in America. P. 86. «Амадис Гальский» — средневековый кастильский рыцарский роман, написанный в 1508 году, основное чтение молодого Дон Кихота; «Тирант Белый» — валенсийский романтический эпос, очаровавший Сервантеса еще до написания «Дон Кихота». Карпентьера критиковали за его «концепцию независимой американской чувственности» и «презрительные оценки» европейского сюрреализма. В полезном предисловии к Refusal of the Shadow: Surrealism and the Caribbean London: Verso, 1996. P. 12–13 Майкл Ричардсон замечает, что это указывает на отказ Карпентьера идти тем путем, где различные культуры взаимодействуют, обогащают и изменяют друг друга. Другими словами, магия существует повсюду, где есть перцептивный поворот к реальности, она выходит за рамки одной единственной культуры, если таковая вообще существует в природе.
[18] Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е. изд. Т. 42. С. 90.
[19] Хейзинга Й.Homo ludens. Человек играющий / пер. Д. Сильвестрова. Сб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011, С. 56.
[20] Там же. С. 270–271.
[21] Там же. С. 286.
[22] Там же. С. 292.
[23] Гарсия Маркес Г. Одиночество Латинской Америки. Речь, произнесенная по случаю вручения в 1982 году Нобелевской премии по литературе. URL: http://www.marquez-lib.ru/works/ya-zdes-ne-dla-togo-chtoby-govorit-rechi-text5.html.
Перевод: Владислав Софронов