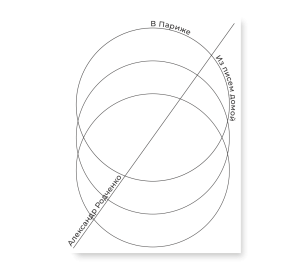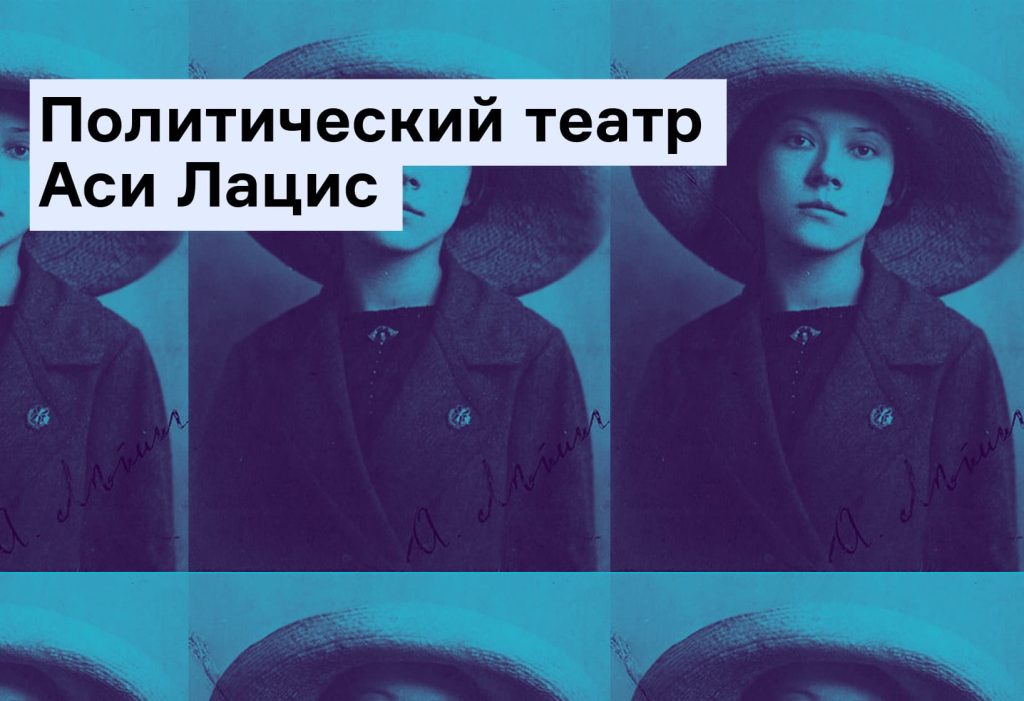Рецензия на книгу Джона Бёрджера и Жана Мора


Хмурое поздне-осеннее утро с черными от дождя ветками, повисшими каплями и успокаивающим запахом воды, который захватывает тебя сразу на выходе из подъезда, роднит с деревенской Британией середины прошлого века, хотя Джон Бёрджер и пишет, что английские утра не похожи «ни на одно другое утро в мире». У нас здесь тоже холодный воздух, а ламинат тёплый, вместо чая кофе, вкус выступает резко и звучно на фоне окружающей погоды. Аллеи больничного парка, по которому я иду до работы — я врач-но-не-тот, работаю в морге — устроены так, что в самом центре на минуту или две можно почувствовать себя далеко от шума и суеты большого города. Я стараюсь каждое утро тормозить и отмечать этот отрезок. Скоропомощной стационар занимает квартал в центре Москвы, высотные корпуса разворачиваются навстречу и отодвигают доктора Сассола и его деревенскую лечебную практику в пределы недостижимого. Сассол выигрывает: здесь сотни врачей и семьдесят тысяч пациентов в год — там две тысячи жителей и один доктор, сотни тысяч приёмов за всю жизнь. В моём детстве тридцать-сорок лет назад была одна и та же врач-участковый, которая оказалась общей со случайным знакомым в соцсетях, давно уехавшим в другую страну, старше меня. У дочери в поликлинике, где она наблюдается с рождения, сменилось восемь врачей.
Невольно иду тем же путём, что и Бёрджер, в анализе пытаясь повторить его художественный метод. Когда минуешь предисловие Гэвина Френсиса, которое объясняет читателю, что за книга перед ним, и настраивает на восприятие, книга начинается как классический конвенциональный роман, с экспозиции — с пейзажа. Экспозиция коротка, да и весь текст, если собрать его в традиционный формат упакованных в строки, абзацы и страницы слов — в книгу-кодекс, — по привычке к толстым томам может показаться на первый взгляд чересчур компактным. Но, конечно, малость книги обманчива. Перед нами эпическое произведение. (Или нет? Каждый, если захочет, решит сам.)
Ландшафты сельской Британии одновременно суровы, бесхитростны, просты и пасторальны. Приступая к книге, уже знаешь, что текст в ней существует вместе с фотографиями Жана Мора, документалиста, трудившегося с Бёрджером над созданием и других книг, и сотрудничавшего с гуманитарными организациями во всем мире. В Москве и Санкт-Петербурге в 2004 и 2014 годах состоялись его выставки. Ландшафты предваряют предисловие и начинают повествование, где первые предложения вписаны в небо на пейзажах, расположенных последовательно по мере продвижения объектива камеры, как будто державший её поворачивается и оглядывает землю вокруг через более надежную «пристройку» к глазу, — такой же небольшой, как глаз, но более чуткий, как кажется человеку, видоискатель, способный запечатлеть всё в своей одновременности. Пространство действия очень важно для героя и авторов и откликнется ближе к концу, сработает, как крючок, в нужном месте. Вообще, в этой книге всё работает и отзывается.
Лидия Гинзбург в «Заметках о прозе» из сборника «Человек за письменным столом» пишет о смене ракурса, плана и масштабировании текста с помощью полета. Полёт позволяет «видеть форму — контуры и пределы вещей», определять «видимую границу». «Полет, сокращая вещи до полной обозримости, смывая оттенки до торжества основных тонов, уплотняет предметность». И Бёрджер летит вместе с Мором, увлекая нас в туман. Фотографии Мора черно-белые, там нет цвета, который для Гинзбург «сам собой образует форму», потому что он — «единственное условие разграничения пространств» с высоты полёта. Мор работает фактически с двумя цветами, точнее с их отсутствием, где контурами становятся блики, истонченные нюансы и слабые или, наоборот, резко контрастные тени, ореолы раннего света, преждевременные сумерки и особенности печати снимков, сейчас принимаемые за дефекты. Ландшафты на изображениях зримо уплотняются на наших глазах, делая нас свидетелями производственного процесса, ощутимая выпуклость заставляет протянуть руку, так что, стремясь дальше, пропускаешь короткие пояснения про хронотоп, которые вернутся и настигнут.
Бёрджер и Мор натягивают упругие струны между словами и изображениями: Как писал Бахтин, «время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории». Применение моделей пространственно-временных отношений, разработанных в художественной литературе, для анализа текста, представленного как образец документальной прозы, открывает возможности интерпретации на пересечении жанров и разных состояний литературы.
За быстрой, скупой и энергичной экспозицией следуют несколько зарисовок в стиле, как заметил Фёдор Катасонов, «записок земского врача», которые не могут обмануть и успокоить даже при быстром и невнимательном прочтении. Истории, называемые Фрэнсисом «серией „тематических исследований“», что означает всестороннее и подробное изучение конкретного случая, в медицине конкретного пациента, не содержат морали и выводов, и в этом их большая ценность. Другая ценность — в художественной точности деталей, подмеченных Бёрджером, и строгости, достоверности найденных образов. Вот человек в тумане машет рукой так, будто протирает запотевшее окно; раздавленная нога напоминает сбитую на дороге собаку; опавшие листья такие же темные и влажные, и похожи на кровь. Здесь у меня сегодня весь день пасмурно, дождь изредка прерывается, но паузы не успевают наполниться просохшим воздухом, и чернота ветвей после обеда покрывается густым зелёным налётом, а листья держатся тяжёлыми пятнами. «И на брусочке сливочного масла — маленькие крупинки хлеба от предыдущего нетерпеливого ножа». Автор — участник событий, очевидец, и описываемые факты, воспоминания — главное средство художественной выразительности: так, по словам Бёрджера из «Блокнота Бенто», «входишь в рисунок… дожидаешься, пока его воздух прикоснется к твоему затылку».
Книга вышла в 1967, но в конце обозначен 1999 год — год ее переиздания через семнадцать лет после того, как главный герой умер. Так, спустя 32 года текст дополнило короткое послесловие Берджера о смерти и нежности. Гэвин Френсис пишет, что книга, несмотря на свой возраст — «„Счастливому человеку“ больше пятидесяти лет», — остаётся свежей и актуальной, и подчёркивает сохраняющееся новаторство работы Бёрджера и Мора, на которое критики обратили внимание ещё при первой публикации. До русскоязычного читателя Джон Сассол добирается только сейчас, спустя те самые пятьдесят лет.
Филолог Зарема Чукуева отмечает некоторые затруднения современного литературоведения в выработке категориального аппарата для разговора о литературе такого порядка — о «документальной литературе», «документально-художественной», «литературе факта», «человеческом документе» etc. Путаница определений не позволяет договориться и рождает споры там, где их хочется избежать. Подлинные свидетельства как базовый, образующий произведение фактор подвергаются обработке: отсеву, анализу и синтезу, — и вступают на территорию художественности, растворяя границы жанров и смешивая стили, позволяя когда-то разным способам воздействия на читателя взаимопроникать друг в друга. Лапидарные метафоры и реальные события вроде эпизода про барсука, встреченного жительницей деревни у дома, переданные через воспоминания записавшего их автора, рассказанные как воспоминания самой пациентки, организуют и держат связь.
Возможности «документального вещества и документального строения», как обозначает их Чукуева, позволяют документировать не реальность и не только реальность, а воспоминания о ней разных участников событий, что создаёт дополнительные пересечения и смыслы. В центре — Бёрджер и Мор, разные голоса которых перекликаются, говорят друг с другом, перебивают и создают, в итоге, прочную и одновременно текучую, растягивающуюся кристаллическую решётку, откуда не вытащить ни одного звена.
Фотографии вклиниваются в текст, разрезают его, предвосхищают то, что будет сказано. Так панорама изгиба реки, наполовину исчёрканной рябью от какого-то быстрого судёнышка, пополняется через несколько страниц абзацем про воду, реальную и метафорическую, божью и человеческую. Художественность поддерживает главную интенцию документальности, а документальная основа усиливает авторские позиции, поскольку авторы очевидцы и в какой-то мере участники событий.
Фигуры фиксаторов чужой жизни умножаются в отражениях друг друга и, если присмотреться, состоят каждая из многих. Здесь несколько Бёрджеров: пациент и знакомый доктора, проживающий в деревне; наблюдательный писатель, который временно поселился в семье врача и участвует в его работе и жизни — ходит и ездит на выезды, присутствует на приемах, операциях, посещает собрания местного Совета и паб, танцы и фермеров; и наконец тот, который пишет — отбирает материал, составляет структуру, подбирает слова. Как минимум две фигуры Мора — снимающего наблюдателя и печатающего карточки фотографа — отражают множество Бёрджеров. Их перспективы должны бы сойтись в одной точке, как хочется ожидать, но никогда не сойдутся — это было бы слишком просто, — оставляя разрыв, каждая развивается по внутренней логике, пересекаясь с траекториями разнонаправленного времени, и Бёрджер документирует и провозглашает этот разрыв, утверждая, что является лишь рассказчиком, который теряет «индивидуальность и открывается жизни других людей». Ему и Мору — ведь фотография, по Сонтаг, «как будто дает мгновенный доступ к реальному» — веришь.
Бесстрастность наблюдателей запечатлевает пациентов в нескольких словах и жестах, которых хватает для объемных характеристик, как будто и Бёрджер, и Мор нарочно скупятся на выразительные средства — скупость подчёркивает и выделяет каждое сравнение, каждое выражение лиц, каждое движение дерева или далекой машины, проявляя «внимание к персональной истории, к биографии конкретных людей, выживших в истории», что составляет суть документальной прозы, как считает Зарема Чукуева. Аскетичность художественных приемов спрятана глубже в ткань текста и изображений, как доктор прячет прямые расспросы в неспешной беседе с пациентом, завоевывая его доверие. История Сассола при всей неспешной простоте использует сильные драматургические ходы, скрытые во внешней обыденности: жесты каждого участника действа, оттенки настроений выверены и закончены — вместе со сказанным и проявленным работают лакуны и умолчания, недостаточности образов, опущенные подробности; диалоги отрежессированы, главный герой умело подбирает стратегию — то смеется, то уходит, то, наоборот, неожиданно задерживается, бывает чересчур откровенен и груб или ничего не говорит напрямую, провоцирует на болтовню, вставляет реплики, продолжая себя и не слушая другого, говорящего о чем-то своем.
Бёрджер смотрит глазами врача, а пишет словами писателя, так же как Мор снимает и переносит на пленку чужой взгляд, медицинский, особенный и отличный от фотографического. И в этом возникает двойная находка и двойная неловкость, по крайней мере, так воспринимается через пятьдесят лет: за Сассола, оценивающего женщину с высоты своей позиции, позволившего резкое обращение к пациентке, хотя и не на приеме — в этой местности все его пациенты, — за Бёрджера, описавшего этот момент, за Бёрджера, разглядывающего женщину, в которой «есть что-то от школьницы: той, что не очень сообразительна, но физически более развита, чем другие, и эта зрелость делает ее медлительной и фертильной, а не подвижной и сексуальной», за Мора, подметившего спущенный чулок на первом плане и задравшуюся после осмотра юбку. При строгом рассмотрении в этих и других эпизодах не находится ничего неприличного, текст во всех форматах течет в контурах этики, но глубокое проникновение в сокровенное вызывает беспокойство, растерянность и чувство вины. Авторская нежность побеждает их, но не даёт забыть.
Хронотопы реки, дороги, леса, маленькой деревни в глуши, отдаленной сельской местности, встречающие нас на фотографиях и в сжатых экспликациях, после заселения описываемого пространства в пространстве книги местными, автохтонами, сменяется большим биографическим хронотопом, который включает в себя менее проработанные, часто просто намеченные штрихами, но бесконечно нужные хронотопы подопечных доктора. Как полет показал с высоты границы, дал увидеть сочетания людей, дорог, машин и крыш, по Гинзбург, так потом он сменился приземлением, новыми ракурсами, движениями зума камеры в оба направления — и вновь авторы перебираются в другой масштаб. Крупный план разворачивается во времени жизни героя, сохраняя единство действия и места здесь и сейчас, несмотря на биографические уточнения вроде неизбежных переездов. Масштабирование подчиняет и перестраивает язык, синтаксис, ритм книги, и «записки уездного врача» подспудно вырастают в живой, изменчивый, подвижный, текучий портрет, который продолжится в философские размышления.
Сообщив отдельные, но значимые факты из официальной биографии героя, которые, как писал Пьер Бурдьё в работе «Биографическая иллюзия», можно уложить в «официальн(ую) модел(ь) самопредставления, удостоверение(е) личности, карточк(у) гражданского состояния, анкет(у)», Бёрджер наполняет пластический слепок простого сельского врача событиями больше имматериальными, хотя и физическими тоже, соответствующими представлениям Сассола об осмысленности, значимости существования и причинно-следственных связях между выбранными эпизодами и явлениями (не-равность героев самим себе в разные отрезки времени и неизбежный хаос вместо хронологической последовательности, отмеченные Бурдьё, выступили позже «Счастливого человека»). История Сассола предстает как история становления врача общей практики, одиночки, отдавшегося служению страданиям и недугам других в обмен на бесконечные знания о человеке, до которых он жаден и ненасытен. Юношеский максимализм, опирающийся на Великих Мореплавателей Джозефа Конрада, всегда в самом сердце внутренней тьмы, эволюционирует от моря, вместителя безграничного воображения, с которым поначалу не справиться, через кризисы самоидентификации к взаимоотношениям с пациентами, определнными Бёрджером как потребность в братстве, скрытую, подспудную, не проявленную больными, но понятую самим доктором. На двух фотографиях крупным планом перед нами разный человек. Врач-воин, борющийся со стихией, вынужденный искать ее в немом покое удалённого поселения, где всех развлечений что и есть, так это чашка чая по вечерам и бар по воскресеньям, герой, нуждающийся в несчастных случаях, поскольку иначе не умеет быть врачом, постепенно затихает, занятый разглядыванием и изучением людей вокруг.
Философия болезней и исцеления, рожденный эмпирически принцип называния как необходимого условия лечения, признание другого как важная часть работы доверия — считываются как будто сказанные и продуманные мной, накопленные в личном опыте. Медицина — социальная наука и кроме нормальной и патологической биологии включает экономические и социальные отношения врача и пациента. Именно сельский семейный доктор, как показывают Бёрджер и Мор, оказывается в самом центре социальности. Один на один с пациентом — один на один с обществом, с биографическими и личностными ориентирами, скрытый занавесом, «за которым происходят их (обитателей) сражения, достижения и несчастья», — мера и идеал сассоловской ответственности. И знакомый прием смены планов, укрупнение изображений и повторяемость лиц. Пять фотографий одной женщины в похожих ракурсах, но отличных состояниях, перетекающих друг в друга: не(до)верие и злость, спор и обсуждение, прислушивание, последние сомнения и облегчение и смех — фигура доктора спиной, вполоборота. Фотографии разрывают фразы, вклиниваются в текст в моменты наивысшего напряжения. Смена медиума для документирования реальности усиливает документализм.
Сьюзен Сонтаг цитировала Уильяма Фокса Тальбота про «раны времени», которые способна зафиксировать камера, присматривая за зданиями и памятниками, и уточняла, что нам «интереснее износ не камня, а плоти». Фотографии следят, как мы стареем, «показывают человека неопровержимо там и в определенном возрасте, соединяют людей и вещи в группы, которые через мгновение распались, изменились, двинулись дальше разными дорогами своей судьбы». Фотографии, говорит Сонтаг, «реестр смертности». Такой же реестр представляют врачебные записи — карты пациентов, журналы вызовов и посещений, истории болезней, когда-нибудь обязательно неизбежно заканчивающихся. Врач — определяет Бёрджер, тщательно подбирает емкое, строгое в своей официальности слово — это делопроизводитель, письменная память общины.
Заурядность и простота Сассола как героя не соответствуют масштабу его личности и силе раздирающих его внутренних противоречий и конфликтов. В страдания других его ведет жажда знаний, противопоставляющая его больным и связывающая их друг с другом. За ненасытность придется заплатить. Механизм взаимодействия доктора и пациента держится на власти, которую дают наблюдения и опыт и которую Сассол осознает и позволяет проговорить в тексте. Фауст и Парацельс, Конрад, а потом и Сартр — не случайный набор имен для эссе. Через концепцию страдания во времени, потерь, случайностей и несправедливости Бёрджер подводит сначала к вроде бы вполне невинному вопросу, что такое есть хороший врач и как измерить его труды — счастье работает мерилом, — а потом огорошивает экзистенциальной проблемой ценности человеческой жизни — кризис отдельного человека в кризисе страны, план стал общим, границы разъехались, личного счастья для меры не хватает.
Фотография позволяет нам овладевать миром (Сонтаг) в любых его размерах и пропорциях, не сопоставимых с размерами нас самих и пропорциями камеры. Интимные моментальные кадры реальности, показывающие не саму реальность, а наши представления о ней, как и размышления о жизни, не могущие поймать жизнь, но могущие выразить мысли о ней, открывают читателям пространства общения, как будто опрокидывают четвертую стену, приглашая внутрь, проверяя, растягивая авторское доверие. Привязывают морскими узлами, от которых невозможно освободиться, пока не бросишь книгу, к иллюзии полного обнажения. Мор заходит в дома, на вечеринки, сидит в машине, снимает изнутри, из кабины, показывает чей-то живот, ноги, заглядывает в дверь. Бёрджер описывает неудовлетворенность, беспомощность и депрессию героя, рефлексирует свое положение автора, признается в трудностях и неудаче.
Власть реальности определяется в смерти.
Послесловие
Третий том «Истории тела» из серии «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение» рассказывает про ХХ век, который создал историю и теорию тела и утвердил — на смену предыдущим приматам сначала тела, а затем души — диалектический типологический подход равных субстанций духа и материи, ни одна из которых не обладает статусом полной автономности. К этому привели масштабные и жесточайшие потрясения века, неудержимый прогресс в разных областях жизни, в том числе в медицине, и развитие различных философских теорий. Медицина к нашему времени вторглась во множество ситуаций, не рассматриваемых ранее как патологии, ставших теперь объектом лечения и профилактики. Изменения условий жизни, открытие асептики/антисептики, улучшение гигиены, канализационных систем, изобретение вакцинации, а главное, обезболивания и реанимации превратили медицину в науку, распространили ее влияние на сферы, не связанные с болезнями, как например, ведение беременности и роды, так что тело благодаря новым методам диагностики стало все более «видимым» и «прозрачным», что позволило придумать новые способы проникновения в него, более агрессивные, сильнодействующие средства и методы лечения. Автоматизации диагностики и лечения отодвинули и почти исключили врача из связки с пациентом, углубив объективацию тела, априори неизбежную в медицине. Семейной практике Сассола пришел конец, последние энтузиасты в условиях унификации и стандартизации, заданных протоколов лечения, скрываются где-нибудь совсем в отдаленных местах, где могут продолжать лечить своих больных, исповедуя принципы братства и признания, описанные Бёрджером, потому что никому не нужны и не интересны настолько, что на них просто нет средств, а значит — замкнутый круг — окончательно никому не нужны и не интересны, и это прячет их и спасает.
Сассол пользовался органами чувств и руками, «знал» тела и умел многие манипуляции и простые операции проводить сам, принимал роды. Различные «графии» вроде рентгена и КТ заменили осмотры, вместо стетоскопов и тонометров работают датчики, пальпация и перкуссия превратились в медицинские атавизмы, совершенно ненужные, когда монитор компьютера покажет изнутри пациента так, как врач видит его снаружи, если найдётся тот, кто умеет смотреть. Преобразование медицины из искусства в науку происходило уже при Сассоле, и он уповал на это и старался участвовать в общем процессе, замечая закономерности, обобщая наблюдения, не зная, что его выводы не понадобятся. Его воодушевление разделял Бёрджер, примеряя к доктору концепцию универсального человека. Автоматизация, по мнению Бёрджера, была залогом длительного отдыха, который позволил бы полиматам вновь развивать себя. Наверняка полиматы ещё появятся, тем более что близкие к ним мультипотенциалы уже здесь, но автоматизация, скорее всего, не будет иметь для них того положительного значения, которое вкладывал Бёрджер.
Я прочитываю все сказанное между строк, через пятьдесят шесть лет после рождения последнего «счастливого человека», через сорок один год после его смерти.
Не зная Сассола, я скучаю по нему. Забывая, что Бёрджер не врач, я верю ему. Черно-белые зернистые фото, местами с размытыми контурами людей и предметов, вызывают ностальгию и скорбь по небывшему утраченному.