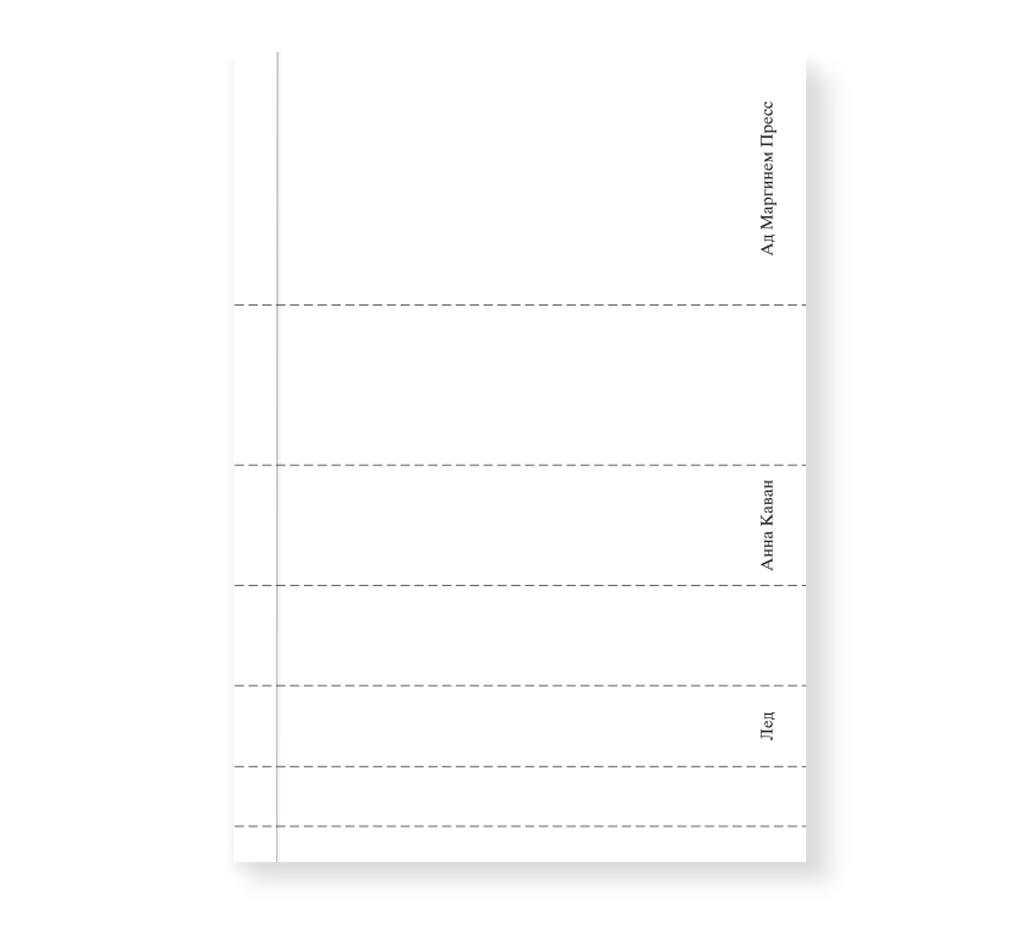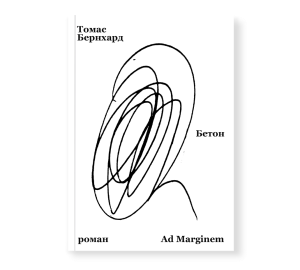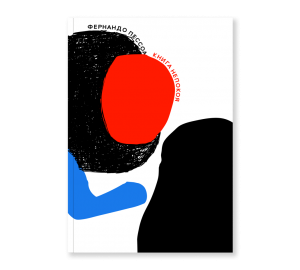О машинерии насилия в романе «Лед»

«Лед» Анны Каван ставит многих читателей в тупик как на уровне сюжета, так и на уровне смысла — что тут происходит и что все это значит? Артем Серебряков рассказывает свою трактовку бесконечного романа.
Артем Серебряков

Читатель, открывающий новое издание «Льда» с предисловия, встречает там самохарактеристику письма Анны Каван как экспериментального. Что мы понимаем под экспериментальностью в литературе и вообще в искусстве? Пожалуй, наиболее распространённый вариант: это попытка автора добавить что-то новое, привнести необычное и тем самым взломать каноны прежде известного, отодвинуть горизонт художественных возможностей. Например: соединить несколько языков, сконструировав новояз («Заводной апельсин» Бёрджесса); опробовать множество разных стилей в пределах одного произведения («Улисс» Джойса); предложить несколько финалов истории («Женщина французского лейтенанта» Фаулза) или создать несколько версий книги («Хазарский словарь» Павича). Такое экспериментирование через прибавление пользуется почетом как среди тех, кто считает себя рядовым потребителем искусства, так и среди тех, кто претендует на экспертность и профессиональную оценку. Оно прекрасно отвечает тому типу любопытства, который связывают с прогрессивностью или креативностью и который распространен также в науке или предпринимательстве.
Существует, впрочем, и другое понимание литературных опытов: как попыток избавиться от всего, что не является для существования текста необходимым, отказаться от императива инновативности и обнажить структуры письма как таковые. Иными словами — осуществить вычитание, открыв не нечто новое, что ожидает любопытствующий ум за границами изведанного, а то, что оказалось заброшено в ходе стремительного движения прогресса и культурного накопления. Такие опыты, как «Лед» Каван, рыскают именно среди руин, пустырей и погостов литературы; они производят странное и жуткое впечатление, словно грубый и смурной бродяга, точно замысливший недоброе. Лишенные не просто богатств, но и вообще какой-либо собственности, они не подходят под определение компаньонов или сообщников, партнёрство с которыми может послужить источником духовного или интеллектуального обогащения.
При прочтении «Льда» в глаза бросается в первую очередь отсутствие: достоверности, объяснений, психологизма, движения сюжета. Текст, представляющий собой многократное, до тошноты повторение однообразных сцен, жестов и положений, отказывается развиваться, рассыпается на отражающие друг друга осколки. Ему некуда ступить: любая его драматическая коллизия упирается в ледяной тупик, пропасть, катастрофу. Он начинается произвольно, как бы уже с повторения, и сразу проговаривает формулу, по которой будет построено дальнейшее повествование: рассказчик ищет девушку, с которой он некогда сблизился и которая покинула его, чтобы обнаружить ее, убедить себя в том, что он ей необходим, а затем потерять ее, чтобы снова приняться за поиски, найти, попытаться спасти, утратить. Роман обрывается, когда рассказчик едет в машине с найденной в который раз девушкой, и читатель, закрыв последнюю страницу, может смело возвращаться к самому началу: «Я потерялся, смеркалось, я был за рулем уже много часов, и бензин был на исходе», — и продолжать чтение. Хотя герой романа постоянно перемещается и продвигается сквозь агонизирующий мир, положение дел от этого остаётся неизменным. Кажется, что единственное существенное отличие последней главы от первой состоит в том, что прежде рассказчик был безоружен, а теперь у него есть револьвер — впрочем, ему ничего не стоит потерять ствол вместе с возлюбленной.
Для обеспечения этой нескончаемой повторяемости, то есть для своего выживания, «Льду» требуется минимум фигур и обстоятельств. Согласно Аристотелю, жанр трагедии приблизился в своём развитии к тому, что изначально лежало в его природе, то есть к адекватности собственной форме, с открытиями Софокла: тритагонистом — третьим актером на сцене, а также росписью фонов. Тех же скудных ресурсов хватает и роману Каван.
Три фигуры занимают свои места: герой – тот, кто ищет, кто движим неугасающим желанием, кто не может остановиться; девушка – та, которую он постоянно находит и теряет, на чьих исчезновениях текст даже не задерживается, так как они происходят как бы сами собой, даже если в очередной сцене она как будто погибает; и, наконец, оппонент – главное препятствие в поисках и обретении девушки, двойник героя. Роль тритагониста сначала исполняет муж девушки; на протяжении большей части романа – синеглазый правитель северного государства, удерживающий ее при себе; в конце эта функция возложена на владельца отеля, в доме которого она теперь живет.
Этими тремя фигурами «Лед» и говорит с читателем; с помощью их специфической конфигурации осуществляется наблюдение за тем, что составляет объект исследования романа, фокус этого литературного опыта, а именно — за насилием и его постоянством. Слабое, тонкое и, как это регулярно подчеркивается, детское тело девушки (или девушек) подвергается бесчисленным истязаниям, словно гуттаперчевые оболочки героинь де Сада: ее тащат за собой, хватают, отбрасывают прочь; она не может устоять на ногах, падает и ударяется; протагонист находит ее измученной, уставшей, обессиленной — а когда она начинает отбиваться от него, сам применяет к ней силу. Муж-правитель, распоряжающийся её жизнью, циничен, агрессивен и безжалостен. Он вызывает у героя отвращение и испуг, но одновременно притягивает, и всё настойчивее дает о себе знать их сходство: «Казалось, я смотрю на свое отражение. Я вконец запутался и уже не понимал, кто из нас кто. Мы были как две половины целого, сочлененные в некоем мистическом симбиозе». Для самой же девушки очевидно, что это не просто сходство, а сродство: «Да вы заодно!» — кричит она во время одной из встреч всех троих.
Потому-то она всякий раз и ускользает от своего спасителя? Такой ответ, очевидный и приятный любому, кто, будучи сторонником прогресса, судит о насилии однозначно и требует его повсеместного искоренения, позволяет навесить на «Лед» какое-нибудь безопасное определение (гуманистический, пацифистский, эмансипаторный) и все-таки выменять у романа какой-никакой моральный урок. В таком прочтении нет ничего предосудительного, однако нужно признать, что экспериментальное наблюдение, которое осуществляется на страницах «Льда», выявляет более сложное этическое хитросплетение: хотя дитя-девушка остается невинной вопреки всем надругательствам над ее телом и достоинством, она в качестве инстанции невинности сама задействована в машинерии производства насилия. Жалость и сострадание, взгляд на нее как на жертву — это всё ещё точка зрения насильника (за пределы которой протагонист не выходит, характеризуя девушку как жертву и в первой, и в последней главах).
Отвергая и разоблачая насилие, пытаясь скрыться от его инициаторов, в моменты столкновения с протагонистом девушка утверждает, что она свободна, а вслед за отвержением его притязаний следует признание: «Я даже не знаю почему… ты всегда так дурно со мной обращаешься… я хотела… гадала, вернёшься ли ты. Ты ни разу не дал о себе знать… но я всё ждала… когда все стали убегать, я осталась, чтобы ты мог найти меня…» В этом жесте являет себя истерическая структура — девушка дожидается героя и затем исчезает именно для того, чтобы он смог ее найти; и чтобы смог разглядеть ее слабость, измученность и чистоту; собственную неотличимость от ее мучителей; и непереносимую истину мира о взаимной обусловленности невинности и жестокости. Одержимый идеей найти и спасти девушку, герой действительно все больше превращает себя в инструмент насилия, становится его апологетом: «Я посвятил себя миру насилия и должен был действовать последовательно». Отсюда возникает возможность предложить еще одну интерпретацию финала — протагонист сам превращается в тритагониста, в очередного хозяина девушки, из рук которого ее будет пытаться спасти следующий рассказчик и прихода которого она будет ждать.
Но вернемся к Софоклу и его другому открытию — сценическим декорациям. Роспись фона должна преобразить, нюансировать и усилить действия фигур, субъективная коллизия — получить объективное отражение. На орхестре «Льда» препарируется насилие, и в описаниях его замерзающего мира образы жестокости умножаются до бесконечности. Тотальная война, разрушения и страдания мультиплицируются и в другом смысле — становятся бессмысленно карикатурными, несобытийными. Насилие денатурализируется, и именно во всей своей искусственности выступает как существо человеческого мира. Даже в предельных формах оно не поражает воображение — став свидетелем очередной чудовищной сцены, герой возвращается в свою комнату и спокойно принимается за работу: он пишет сочинение о поющих лемурах индри — мадагаскарских приматах, которые обретают черты фантастической расы. Мир лемуров, спрятанный в складках освоенного человеком мира, среди декораций «Льда» оказывается той же отрицающей насилие слабой силой, какой потерянная девушка выступает на сцене романа: «Их чарующие потусторонние голоса, их веселость, доброта, невинность стали для меня символом жизни, какой она могла бы стать, если б можно было изжить свойственные человеку жестокость, насилие, страсть к разрушению».
Поиск индри оборачивается для героя радикальным отчаянием: среди джунглей ему приходит видение из будущего, согласно которому ни благую природу, ни противоестественную человечность невозможно спасти, если не начать все заново: «Раса вымирала во всеобщем гибельном порыве, от фатальной жажды саморазрушения, хотя возможность сохранения такой формы жизни, как человек, все еще оставалась. Здесь с жизнью было покончено. Но в другом месте она продолжилась и получила новое развитие. И мы, если захотим, могли бы встроиться в эту новую систему».
Исходя из этого, последняя инстанция насилия в романе — необъяснимый и неумолимо наступающий лед, который вот-вот должен покрыть собой все живое, — получает в глазах протагониста характер искупляющего возмездия: «Скоро вместо привычного мира будет только лед, снег, неподвижность, смерть; не будет ни насилия, ни войны, ни жертв; ничего, кроме мерзлого безмолвия, отсутствия жизни». Насилие действует в логике целеполагания — оно оправдывает себя тем, что осуществляется в погоне за невинностью; постоянная война и перманентная катастрофа оказываются единственной возможностью поиска мирной жизни.
Однако вспомним, что «Лед» не завершается, но стремится вернуться к парадигмальной ситуации утраты и поиска. В этом сопротивлении — сопротивлении конечности со стороны самой материи текста — сквозь ужас насилия просвечивает слабое пламя надежды. Да, мир, в котором человек ищет другого человека лишь затем, чтобы терзать его во имя любви, действительно не только угрожает уничтожить сам себя, но и пытается сделать это, занимается самоистязанием, однако никогда не осуществляет задуманное до конца. Пока плачет последнее измученное дитя и поет вымирающее животное, своей действительной жизнью отрицающие насилие и упоенность смертью, миру не будет конца. Но и конца насилию не будет тоже.
В оформлении обложки использован кадр из фильма Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить», сценарий которого отсылает к роману «Лед»