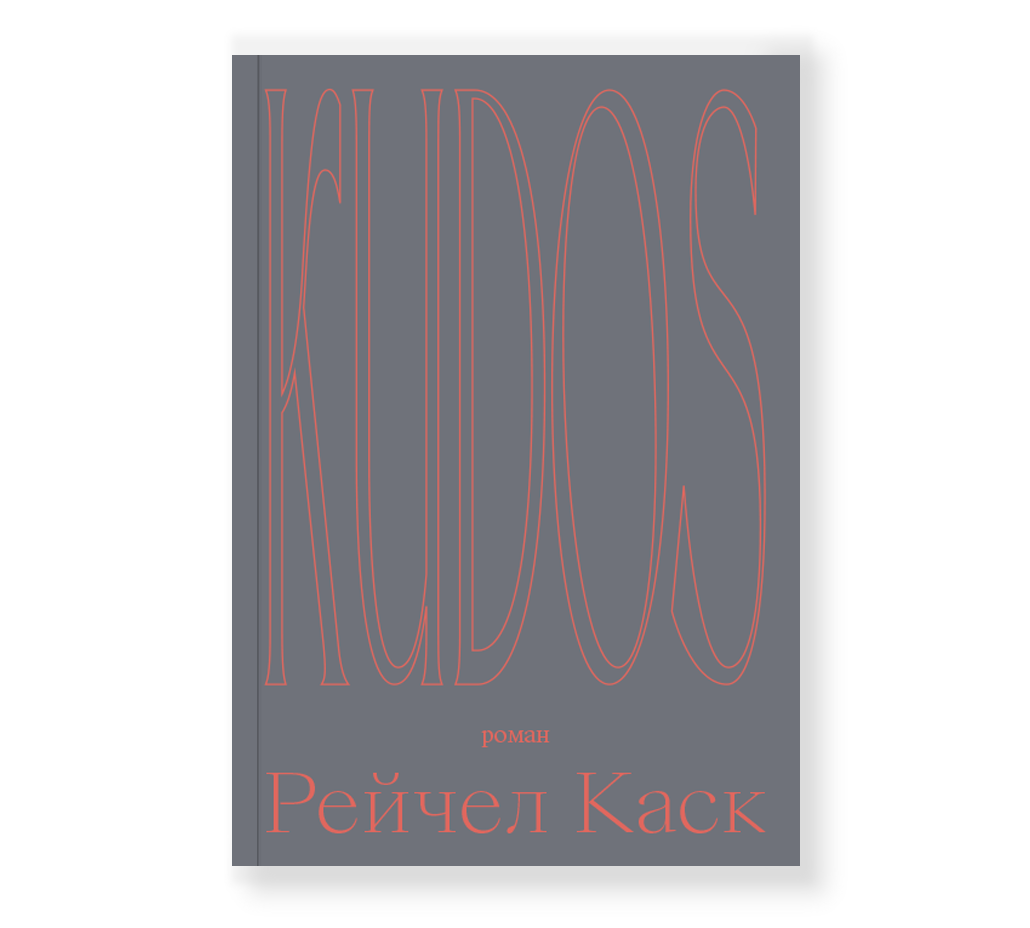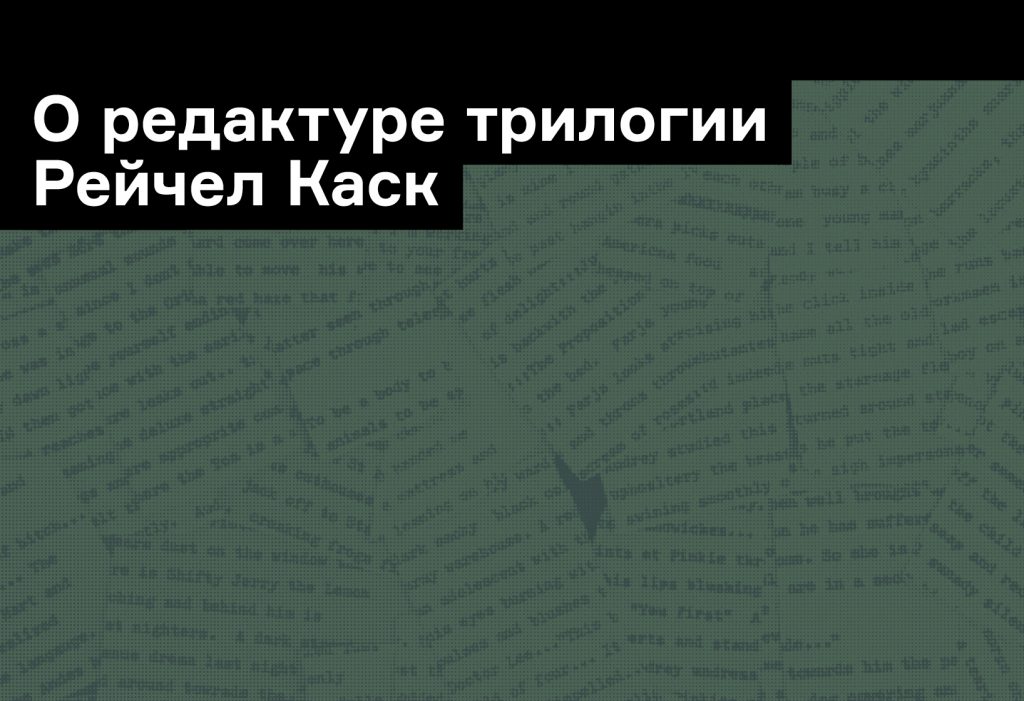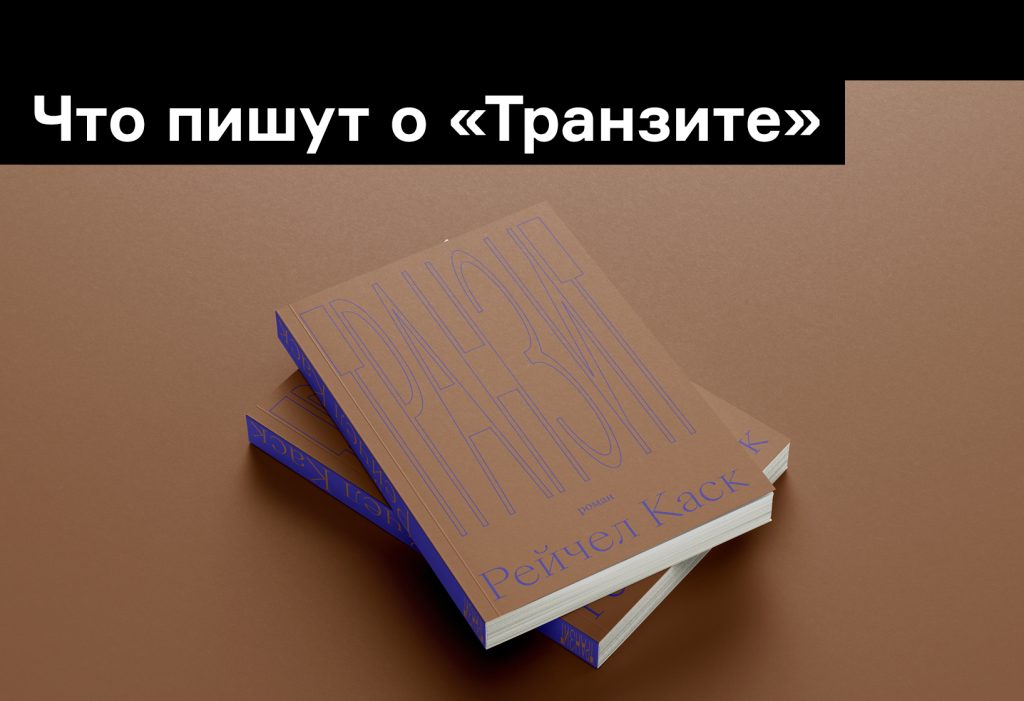«Думаю, персонажей больше не существует»: разговор с Рейчел Каск

В июне 2018 года, после выхода в свет романа «Kudos», журналистка Александра Шварц взяла интервью у Рейчел Каск в бруклинском GreenLight BookStore. Получилась содержательная беседа о том, зачем писательница придумывает новый тип высказывания и почему утверждает, что персонажей больше не существует. Перевод интервью вышел в газете «Контур», а теперь мы делимся им в нашем журнале.
— Для начала я хотела бы обсудить один эпизод из «Kudos»: Фэй, от лица которой идет повествование, находится на литературной конференции в неназванной европейской стране. Ее только что отвели в ресторан, где постоянно обедают участники конференции, она присаживается за общий стол, и к ней подходит журналист. В этом отрывке мне нравится, что журналист совершает дурацкую, но очень понятную ошибку, учитывая особенность книги, о которой он говорит: он полагает, что, просто задав вопрос, он выдаст прекрасно написанный, удивительно красноречивый, захватывающий монолог сразу на несколько тем личной и мировой значимости. Если я правильно понимаю, Фэй, ваша протагонистка, пишет книги в том же стиле, что и вы. Вам задают подобные вопросы? Кто-нибудь принимал мир, созданный тяжким трудом романиста, за своего рода реальный мир, который автор только задокументировал?
Думаю, я сама эти миры путала. Когда я писала «Kudos», в какой-то момент я так увлеклась работой, что появился соблазн немного об этом пошутить, испытать проницаемость границ между романом и реальностью. Что я и сделала в этом эпизоде. Это я так шучу сама с собой. Но на самом деле то, о чем говорит журналист в этом эпизоде, — это вполне уместное наблюдение о морали и устройстве языка. Мысль, что можно найти иной подход к жизни, начав иначе задавать вопросы и слушать, — эта мысль мне близка, книга может произвести такой эффект — не обязательно моя, а вообще любая.
— Это интересно. Я теперь думаю, что я дала этому эпизоду наименее благожелательную интерпретацию, а вы сейчас предложили, наоборот, самое благожелательное прочтение. Потому что я здесь вижу человека, который не обращает должного внимания на работу самой писательницы, а не человека, который задает вопрос о языке, как вы говорите. Мне было бы любопытно узнать, как вы конструируете эти монологи? Полагаю, все в аудитории знакомы со всеми тремя книгами, но для тех, кто нет: эти романы, по сути, представляют собой нанизанные друг на друга монологи людей, которых встречает Фэй. И что поразительно, они часто начинаются с банальнейших наблюдений. В последней книге, например, женщина на писательской конференции замечает, что система раздачи еды по купонам работает бестолково. И это приводит ее к огромнейшим выводам о человечестве. Начинаете ли вы с идеи, которую хотите обсудить, и герои — просто вмещающие ее сосуды? Или вы начинаете с героя и думаете, что именно этот герой может сказать? Или как-то совсем иначе?
Думаю, то, что вы сейчас сказали, — что, читая мою книгу, можно прийти к таким различным заключениям, — это огромный комплимент. Думаю, что все, кто пытаются что-то создать, как я пытаюсь что-то создать, хотят не выдать созданное за действительность, но приблизить к ней настолько, чтобы это ощущалось всеми как правда. Поэтому идея, что написанное мною может быть конструктом, которым каждый способен завладеть и использовать его по собственному усмотрению, представляется мне очень привлекательной.
— Я нашла фразу, которую произносит женщина, жаловавшаяся на фестиваль: «Мы изобретаем все эти системы с целью установить справедливость, и все-таки ситуации, в которые попадают люди, такие сложные, что справедливость всегда от нас ускользает». Я вижу проблему по-другому, но я впечатлена, что она так ее сформулировала. Стиль «Кudos», как прежде «Транзита» и «Контура», был необычен для вас, когда вы только начинали трилогию. Несколько ваших предыдущих романов написаны в более конвенциональном ключе — с сюжетом и персонажами, с которыми происходят вполне понятные перипетии. А почему вы начали писать иначе и каким образом пришли к новому стилю письма?
Я думаю, по сути проблемы письма — это проблемы жизни. И все проблемы творчества — это проблемы жизни. Это наши общие проблемы. Благодаря моему опыту я обращаю внимание на некоторые распадающиеся конструкции и замечаю, что они уже устарели. Например, сегодня я ехала через Бруклинский мост и вспоминала всё, что я читала о плохом состоянии американских дорог и мостов. Я подумала: «А насколько мне безопасно здесь ехать?» Этот мост стоит уже давно, но это не значит, что он будет держаться вечно. Я говорю о чувстве, когда понимаешь, что сознание — которое, кажется, и есть твоя индивидуальность — на самом деле держится на старых, возможно уже заржавелых подпорах.
Я хочу сказать, что все мои размышления о писательстве идут от жизни — от наблюдений за тем, как живу я сама. В основном это потому я такая, как есть, но еще потому, что я знаю, как живут другие люди.
В моем личном опыте, в структуре языка, в структуре высказывания, в самом высказывании есть эти неисследованные крепежи. Все высказываются так же, как едут по Пятой авеню: потому что эта улица здесь, потому что некто решил, что она называется Пятой авеню и что вы должны по ней ехать. Высказывание в художественной прозе кажется мне чем-то схожим. Так и моя жизнь складывается из довольно конвенциональных структур — отношений и семьи. То есть для перемены стиля были две причины. Первая спровоцировала вторую, и так всё началось. Но я много об этом размышляла.
— То есть вам надо было почти услышать новый стиль, чтобы написать высказывание нового типа?
Нет, мне надо было понять, на каких креплениях это высказывание держится. И когда я в этом разобралась, я смогла с легкостью его записать.
— А что за крепления это оказались?
Попытаюсь объяснить. Это размытие личной идентичности и защита идентичности подставной. И если самость убрать, если самоустраниться, то другие вещи меняют свой масштаб и отношения между собой и с тобой.
Я никогда не считала себя особенно субъектным автором. Я никогда далеко не уклонялась от линии собственной жизни, не придумывала чего-то необычайного и не сочиняла сложные сюжеты или любого рода фантазии. Мои книги были больше о жизни, о размышлениях. Почему подобное неизбежно происходит?
Вот так я ушла от своего прежнего стиля, о котором я никогда не думаю как о конвенциональном, как его все называют; каждый раз, когда речь заходит о моих старых романах, всегда говорят: «А, ну да, ее первые книги были очень конвенциональными». Мне кажется, это не совсем так.
— Спасибо, что вы так говорите, потому что это клише, которое я сама как критик иногда использую, но оно не соответствует настоящему впечатлению от чтения тех романов и даже не объясняет, в чем была перемена стиля.
Мне кажется, всё более-менее непрерывно и схоже.
— Любопытно, что вы говорите о субъектности и объектности, потому что, конечно, в каждой из книг трилогии субъектность практически заперта на замок. На вашу рассказчицу Фэй… не хочется произносить «нападают»… но практически нападают люди со своими историями. Все говорят про самих себя, и эта речь звучит очень обезличенно. Думаю, читатели ваших книг почти сразу замечают, что это не те романы, где смешивается множество различных голосов. Здесь все говорят на один манер, вне зависимости от того, родной язык английский для героя или нет. В жизни речь редко бывает такой отчетливой. И тем не менее этими образцово обезличенными голосами люди говорят только о самих себе.
Они берут речь в кавычки, вот что происходит.
— Вы считаете Фэй чистым листом, на котором они пишут?
Ну, она единственная, кто пишет, и она ничего не говорит. Я недавно читала анализ фразы, которую всегда ожидаешь услышать при аресте: «У вас есть право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Это единственная культурно признанная ситуация, когда, произнося что-то вслух, вы переводите сказанное в общественное пользование. Вам оно больше не принадлежит. Это редкий случай, когда так происходит. В нашей повседневной жизни, когда мы кому-то что-то рассказываем, нам ужасно досадно, если это выбалтывают кому-то еще. И писатель всегда рискует угодить в эту ловушку, потому что люди говорят — и перед тобой разворачивается жизнь, и всё это очень даже может попасть в книгу. Это переработка, не совсем уж кража, но использование настоящей жизни.
Она вынесена в безвоздушное пространство, и с проговариванием вслух то же самое. Отчасти этого я и стремлюсь добиться в монологах. Мне не интересны персонажи, потому что я думаю, что персонажей больше не существует.
— Что вы имеете в виду?
Что если они и существуют, то для их существования не могу найти ни одной достойной причины.
— Но что вы имеете в виду, когда говорите, что «персонажей не существует»?
Я вовсе не думаю, что это плохо. Это не конец света. Это одна из тех перемен, которые произошли после заката господства старой, викторианской модели создания романа, когда персонаж был во главе угла. Что персонаж делает в человеческой жизни? Мне кажется, его участие состоит в том, чтобы мы могли ясно увидеть дисфункцию – отклонение от того, чем мы должны заниматься. Поэтому я думаю, что персонажи уже несколько исчерпали себя, особенно учитывая грядущую единообразность в том, что нас окружает, как мы живем и как мы общаемся, которую, думаю, нам всем придется принять; всё это наверняка уничтожит старую идею персонажа.
— Что ж, может, она не случайно устарела. А что насчет тонкости характеров персонажей или тонкости самовыражения или иного человеческого опыта?
Я думаю, они общие. Я не говорю, что их не существует. Я вижу их скорее как океан, как то, куда можно выйти и откуда выйти в различные этапы жизни, которые не до конца определены тем фактом, что вы Джейн и это ваша жизнь. Я стараюсь смотреть на опыт шире, чем его воплощение в персонаже. Как я уже говорила, думаю, что так больше не живут.
— Вы перестали читать романы, где есть персонажи (то есть почти все романы, даже сейчас)?
Мне расхотелось их читать. Даже мои старейшие и вернейшие друзья летят через комнату. Есть целое море книг, которые я больше не могу читать. Но я думаю, это правда; я думаю, сейчас в целом такой момент в культуре, когда люди неожиданно снова обращают внимание на привычное, на голоса, которые вечность звенели в ушах, и неожиданно думают: как меня это достало, я больше не хочу такое читать. Со мной произошло что-то подобное.
— Какие темы вы хотели затронуть, когда начали трилогию, и как они изменились, пока вы ее писали? Несколько тем поднимаются снова и снова, и одна из них — это отношения между мужчинами и женщинами, между мужчинами, женщинами и их искусством и то, как оно воспринимается. В «Kudos» есть много героев, в основном женщин, которые, кажется, переживают один и тот же опыт: чувствуют себя запертыми дома, пока муж — или, как в этой книге, бывший муж — ходит по морю на яхтах, — я даже не думала, что это реальное занятие, но этот человек занят именно им. И женщины чувствуют себя загнанными в тупик и одновременно пытаются найти своеобразную красоту в своем положении. Мне кажется, это отличная, отзывающаяся тема. Но мне интересно, какие еще темы вы могли иметь в виду.
Отчасти это идея своего рода коллективного рассказывания, она легла в основу «Контура». Я размышляла об «Одиссее», и об основополагающих идеях нарратива, и об их взаимоотношениях с психотерапией — люди рассказывают о себе и своей жизни, — о том, как это становится основой терапии и одновременно создает некую общность опыта. Мне казалось, что реалии, определявшие персонажей и место действия в викторианском романе: деревенька, викарий, женщина — или в американском романе: городок, женщина, мужчина, — всё это больше не существует в нашей действительности. И говорить: «Вот это мужчина, он тут живет, и вы все будете себя с ним идентифицировать» — больше не кажется мне правильным. Это стало неправдой. Что же касается темы, с которой я начала, это была жестокость. Мне понадобилось три книги, чтобы ее раскрыть, и только на последних страницах последнего тома я смогла нанести по ней такой удар, как хотела. Жестокость была, наверное, главной темой.
— Здорово, что вы об этом заговорили, потому что мне сейчас хочется совершить непозволительное и поговорить о финале книги. И благодаря тому, как книга написана, это даже не спойлер!
Я не верю в необходимость интриги, так что давайте.
— Финал книги странный и очень тревожный. Как будто тебя вытолкнули в шторм, который уже давно набирал силу, и вот ты наконец в его центре; это не похоже на привычные финалы, в которых проблемы так или иначе разрешаются. У вас, наоборот, мне кажется, финал наносит новую рану и ставит новые вопросы. В конце Фэй наконец отрывается от своих собеседников и идет одна на пляж, и это, кажется, пляж для геев: вокруг одни мужчины. И все они обнажены, и она снимает одежду и заходит в воду, и к ней подходит мужчина, и становится возле нее, ухмыляется, и мочится на нее. Просто мочится в воду, где она плавает. Что всё это значит? Почему так?
На это есть причины. Я вижу это как принятие если не определенной жестокости, то отделенности, отличия, и это ответ на вопрос о мужчинах и женщинах, вокруг которого я кружила всю трилогию и в конце должна была признать, что, кем бы женщины ни были, институционно они всегда в невыгодном положении. Мне было нужно найти не просто образ для этого, но создать что-то вроде его ощущения, понятного для меня ощущения виктимности, которое так глубоко связано с рождением детей, воспитанием детей, обереганием детей, — это ощущение, которое всё больше разделяешь с миром и которое ни в чем не принадлежит никому конкретному, оно всё время меняется. Но это, как я говорила, врожденное различие и есть секс: это не агрессия, но кажется ею. Поэтому финал такой; вероятно, он неприятный и грубый — и он о гениталиях, телах, о которых в первых двух книгах почти ничего не говорится, но вот внезапно они появляются.
— И это возвращает нас к вопросу о персонаже, потому что мне кажется, что в романе есть несколько персонажей, с которыми нам не предполагается идентифицироваться, они там не для того, чтобы мы почувствовали себя на их месте, а просто как узнаваемые типажи. Меня особенно заинтересовал Райан, ирландский писатель. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это единственный персонаж, который возвращается из первой книги. Те, кто читал «Контур», могут вспомнить, что Фэй впервые встречает Райана в Греции, где она вела летние писательские курсы; это был высокомерный писатель, который бесконечно бахвалился. И он был написан так, что мы сразу чувствовали к нему антипатию. И здесь он снова появляется. Он одержим своим фитнес-браслетом и вообще фитнесом, и он очень тощий, даже шокирующе осунувшийся, и он добился огромного успеха. Он написал в соавторстве бестселлер под совместным псевдонимом с женщиной, к которой он, кажется, не очень серьезно относится. Зачем понадобилось возвращение Райана?
Опять-таки, это третья книга в серии, и я добавляла небольшие шутки для себя самой. Говорят — не знаю уж, верят ли в это всё, — что признак хорошего письма или литературного таланта — это вернуть старого героя и показать, как он изменился. То есть, по сути, это то, о чем мы говорили ранее: существует ли персонаж? Ок, давайте скажем, что существует. Вершина писательского мастерства, которую можно достичь в создании романного персонажа, — это показать, насколько он переменился при новом появлении. Я много об этом думала, и думала, что нет, я так не смогу. Наверное, когда я вернула Райана совершенно переменившимся, я поняла, что в моем писательском пути я достигла того момента, когда я могу такое провернуть, даже если я пишу совершенно иначе и руководствуюсь совершенно иными правилами. Я и правда могу вернуть персонажа, и он будет совершенно иным.
— Когда читаешь трилогию, не всегда понятно, как мы должны относится к говорящим. Иногда очевидно, что Фэй думает о встречаемых ею людях, как в случае с Райаном. Читатель испытывает к нему что-то вроде презрения, и мы понимаем, что такого человека нельзя воспринимать всерьез, хотя зачастую такой герой может сказать что-то, что заставит нас поменять свое отношение. В большинстве же случаев герои представлены гораздо нейтральнее, и мне любопытно, как вы предполагали, как читатель будет на них реагировать, и вообще, хотите ли вы подтолкнуть читателя к определенному эмоциональному отклику?
Нет, вся книга написана так, что вы в любой момент можете ее захлопнуть, если она вам не по душе. Захлопывайте и займитесь чем-то еще. Не должно возникнуть чувства, что вы заплатили за особенное впечатление и если вы его не получите, то будете разочарованы. Я хотела, чтобы это было максимально понятно. И когда я писала «Контур», я правда не верила, что кто-нибудь сможет дочитать его до конца.
— А на самом деле сегодня на встрече с вами собралось удивительно много людей, и это только очень малая часть тех, кто восхищается вашими книгами, кого они очень тронули и на кого они повлияли. И мы говорим про книги без сюжета, без привычных ярких персонажей, без привычной эмоциональности. В монологах героев поднимается много разных тем: жестокость, любовь, мужчины и женщины, и одни из высказывающихся паясничают, другие говорят всерьез, и нам бывает трудно отличить их друг от друга. Должны ли мы отнестись серьезно ко всем изложенным идеям, или герои — только сосуды, доносящие их до нас?
Нет. Я стараюсь показать — если я вообще стараюсь что-то показать — в каждом из примеров, о которых вы говорите, что тут дело в том, что больше самой речи, в том, что дано природой, что часть нашей экзистенции, что присуще и принадлежит каждому, — в форме, то есть в литературной форме. Или художественной форме. И мне не интересно, является ли эта речь ложью или преувеличением или задаются ли вопросы для отвода глаз. И мне не важно, меняет ли кто-то что-то в рассказе, чтобы история вышла поинтересней. Смотрите, трехлетний малыш приходит домой из яслей, и мама или папа спрашивают: «Как прошел день?» Это повторяется раза два, и ребенок уже знает, что если он скажет одно — все будут смеяться, а если другое — забеспокоятся.
Если кто-то выходит за рамки формы, все ужасно смущаются. И это, кажется, не меняется; как бы в культуре ни испытывали на прочность рамки и границы, эти вещи никогда не меняются. Я думаю, дело в этом; если я и отмечаю какую-то мысль или сознательно хочу сказать, что нечто существует, и описать это в книгах, то вот это. И когда возражают, что люди так в жизни не говорят, — может, это и не обязательно так звучит, но я так это воспринимаю.
— Вы обходитесь без еще одной формы — разговора. Думаю, я в таком случае должна задать вопрос, который, наверное, приходил в голову всем, кто писал об этих книгах: где сама Фэй? Почему она так пассивна?
Почему она так пассивна? Что ж, если в моей книге и есть нарративная перспектива, то вот она. И это опыт потери идентичности, а значит, Фэй — своего рода нищий без крыши над головой, и всё, что вы о ней, по сути, знаете, — это что ее жизнь рухнула довольно конвенциональным путем: развод и так далее. И эта идея, что герой выброшен на улицу, она идет от древнегреческой трагедии и античного мира: в трагедиях начинаются войны, и герой покидает родной кров — и с этого начинаются беды, и так происходит и с Фэй. Если у нее нет идентичности, то в чем будет состоять ее участие? Потому что человек, участвующий в разговоре, — это распускающий хвост павлин. Разговор — это демонстрация идентичности, поиск общности, поиск компромисса. Вся культура занимается поиском компромисса, и это поразительно хорошая система. Это то, что позволяет признавать вещи, если прошло достаточно времени.
— Фэй как бы отрекается от права возражать, когда молчит.
Да, но, думаю, она в «Транзите» где-то говорит, что ей надоела идея, что одну версию вещей считают лучше другой и что у тебя о каждой должно быть мнение. Это усталость от именно такого отношения. И мне кажется, мы уже слишком привыкли к роману, который ведется от лица индивидуальности, в которую мы верим — верим как в нашу симуляцию или нашего представителя. Мы думаем, что это наш опыт, что это форма, в которой проживается индивидуальность, и я в это не верю. Я не думаю, что это правда. Я думаю, как уже говорила, что опыт — более всеобъемлющая, океаническая вещь, потому что еще ведь есть идея рока и идея, что вы сами становитесь причиной происходящего, и вопрос, кто определяет течение вашей жизни. И Фэй говорит: все решения, которые я приняла, не привели ни к чему хорошему, и возникает идея поступить наоборот: что будет, если покорно, как лист, нестись по волнам? Что с тобой произойдет? Она это и пытается узнать. Потому что главная приманка цивилизации — это внушить человеку, что он сам хозяин своей судьбы. И Фэй от этого отказывается.
— Почему именно трилогия? Когда вы приступали к «Контуру», вы уже знали, что напишете три книги? Была ли разница между тем, как писались «Транзит» и «Kudos» и как писался «Контур»? Выносили ли вы какие-нибудь уроки в каждом случае?
Когда я писала «Контур», я в определенный момент поняла, что это, конечно, прекрасно, все эти разговоры о пассивности и исчезновении, но по факту эта героиня должна была по-настоящему жить. И поэтому, если она не собирается по дороге домой выпрыгнуть из лодки и утопиться, ей нужно где-то очутиться и существовать и воспитывать детей. Я почувствовала, что должна закончить историю. И так появились еще две книги. И да, стиль есть стиль. На протяжении трех книг меняется довольно многое, и последняя, «Kudos», не похожа на первую — «Контур». Я удивлена, что получилось впечатление последовательного движения. Я не знаю, как так вышло, потому что я этого не планировала. Но кажется, история действительно в одном месте начинается, а в другом заканчивается, хотя я представляла ее как вращающуюся кругами, но полностью отчуждающего впечатления добиться не удалось.
— Будет ли четвертая книга в серии?
Думаю, ее быть не может. Я знаю, что мы живем во времена невероятных камбеков и кто угодно может снова вернуться на арену, но нет. Этого не будет. У меня другие планы.
Перевод: Александра Устюжанина