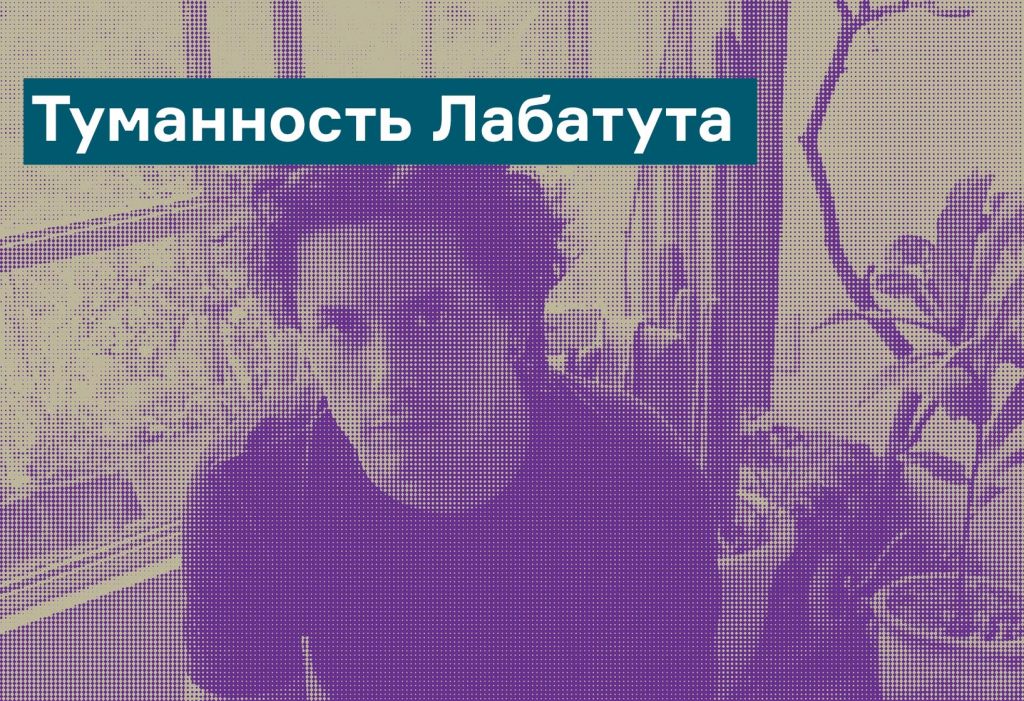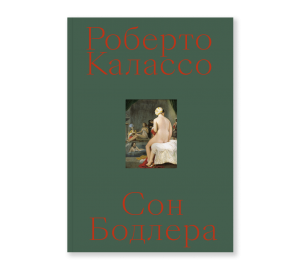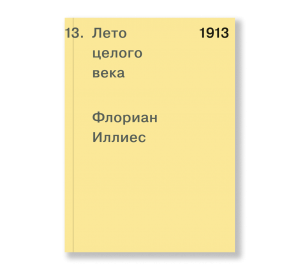«На что способен человек, постигший сердце сердца?»

Переводчик Дмитрий Безуглов о том, почему книга Бенхамина Лабатута «Когда мы перестали понимать мир» успешно сопротивляется попыткам её классифицировать, но от этого становится только лучше.
Дмитрий Безуглов

Книга Лабатута подобна опытному переговорщику: в какую полку в книжном магазине ее ни поставишь, она найдет, что сказать соседям и будет держаться соответственно. Можно представить, как продавцы независимых книжных проводят эксперимент по позиционированию романа. Один подставит книгу в ряд к просветительским талмудам Леонарда Млодинова и Ричарда Фейнмана. Другой притиснет к колким текстам Kolonna publications, и тоже вряд ли прогадает. Почему? Этот текст, как сказала антрополог Мэри Дуглас по другому поводу, — «маргиналия символических классификаций».
Причина этой маргинальности раскрывается не сразу. Разглядывая список действующих лиц, можно заподозрить Лабатута в том, что он работает по схеме Флориана Иллиеса, чье «Лето целого века» превратилось в вечнозеленый бестселлер издательства Ad Marginem. Иллиес распихивает по 1913 году уважаемых художников и общественных деятелей, превращая мучения каждой и каждого в элегантные виньетки; и Лабатут, на первый взгляд, делает то же. Вот, читатель, перед тобой уважаемые ученые, о которых бормочут учебники по истории науки: химик Фриц Габер, астроном Карл Шварцшильд, математик Александр Гротендик, физики Эрвин Шредингер и Вернер Гейзенберг. Их фамилии придутся к месту в любом разговоре, где можно приправить фактоидами свои наблюдения.
Так бы и обстояли дела, если бы Лабатут ставил задачей помочь читателям понять мир.
Это не роман Флориана Иллиеса — к героям Лабатут относится без сочувственного обожания. Это и не бравурные «Инноваторы» Айзексона — автор вывихивает слова, не позволяя им сложиться в коллективную биографию. Роман прикидывается и тем, и другим, но подчиняется иной схеме. Ее устройство Лабатут описывает в нескольких подсказках.
Одна кроется в конце, на последних разворотах, в скупой приписке: «Объем художественного вымысла растет по ходу повествования». Начав с методичных описаний химических красителей, цвет которых напоен смертельными ядами (главка «Прусская синь»), Лабатут строит текст, схема которого привычна для читателей исторического нон-фикшна. Вот государство и его вурдалачьи амбиции, вот талантливый ученый, движимый тщеславием и любовью к родине, вот не менее талантливые прохиндеи, капитализирующие идеи ученого, и вот результат. Их совместные труды проступают пятнами: то зелеными на новехоньких обоях, то синими на политических картах Европы, то трупными на теле Наполеона.
Лабатут начинает в отдалении, его взгляд — «взгляд из ниоткуда»: всевластный писатель уютно объясняет ужасы старого мира и приглашает вместе повздыхать.
Но повествование ускоряется и тянет рассказчика вниз. Безопасная точка вне времени и пространства, из которой видны все причудливые взаимосвязи прошлого, исчезает к концу первой главы. И рассказчик все ближе к своим героям: вместе с Габером переживает вспышки отчаяния и обижается на коллег; через плечо подглядывает за Шварцшильдом, из окопа ведущим переписку о теории относительности; с трудом шагает с Гейзенбергом по скалистому острову и падает, сбитый порывом холодного ветра.
Уместно обратиться к другой подсказке, оставленной в начале. Это эпиграф из Гая Давенпорта, процитируем заключающие строки: «…Мудрость приходит с потерей. Ее узнаешь слишком поздно и только если проиграл». В них — метод Давенпорта. На русском его тексты появлялись силами Дмитрия Волчека, Макса Немцова и уже упоминавшегося издательства Kolonna publications. Философ Сорен Кьеркегор стоит на утесе и беседует с кустом, в котором, как ему кажется, сидит робкий тролль; философ Людвиг Витгенштейн теребит пуговицу на кожаной куртке и немигающе смотрит в прозрачное небо; просветитель Джон Рёскин тянет плуг в Эдинбург, чтобы вспахать пашню вместе со студентами курса по живописи — иначе как они поймут, как пейзажисты видят землю? Этих уважаемых мыслителей можно представить в романе Лабатута, но они спрятаны в рассказах Давенпорта. Последний был заворожен иссушенными мужчинами с непомерным умом. Его трогало мальчишечье упрямство, с которым эти многомудрые существа таращились в непознаваемый мир, чтобы выудить из него смысл, и робость, которая охватывала их, стоило им задуматься о мирской любви. Давенпорт менял героев, но редко отступал от схемы. И она наглядно показывала: если мощный ум попытается отступить от конвенций познания и решится продавить в реальности новый эклектичный узор, то эти попытки приведут ум и его владельца в лучшем случае — в глубокий невроз, в худшем — в землю. Лабатут дорабатывает повествовательную схему Давенпорта и доводит до исступления каждого из своих героев, а вместе с ними читателей.
Математик Александр Гротендик, чьему проклятию Лабатут посвящает главу «Сердце сердца», задается вопросом: «Если прийти к полному пониманию, которого он так искал, какие новые ужасы можно породить?», и решается ответить полным молчанием. Он пытается отменить сам себя, стереть следы своих наработок, мыслей, фраз, действий. Его пример — показателен. Лабатут позволяет подглядеть за мятущимся умом, не вживаясь в его крушение. Он от главы к главе расшатывает структуру текста, заставляет ныть и предложения, и героев, и читателей, а в самом конце отнимает сказанное и дает читателям проиграть, даже не вступив в игру.