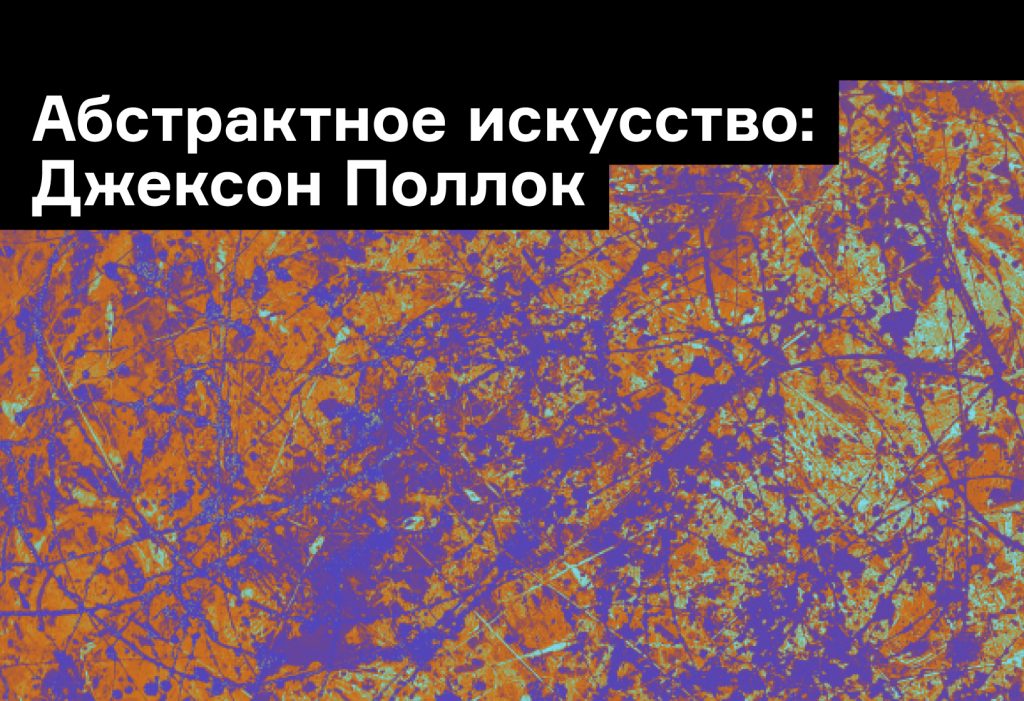«Я сам не знаю, как возникает форма»

Вышедшая в 1975 году книга интервью с Фрэнсисом Бэконом содержит четыре разговора британского художника с арт-критиком Дэвидом Сильвестром. Первый из них, где Бэкон рассказывает об уничтоженных работах, утомлении как способе раскрепоститься и стремлении не рассказывать истории на своих картинах, перевел для журнала Ad Marginem Алексей Шестаков в связи с выходом на русском другой книги о представителях Лондонской школы — «Модернисты и бунтари» Мартина Гейфорда.
Дэвид Сильвестр: Вам никогда не хотелось написать абстрактную картину?
Фрэнсис Бэкон: Мне хотелось создавать формы — вроде тех трех форм, что я расположил у подножия «Распятия». Они возникли под влиянием картин Пикассо конца 1920-х годов. Тогда я подумал, что Пикассо очертил в этих картинах целую область, которая в каком-то смысле осталась неисследованной, — область органических форм, связанных с образом человека, но представляющих собой тотальное искажение этого образа.
Дэвид Сильвестр: После того триптиха вы начали работать в более фигуративном ключе. Чего было больше в этом решении — желания писать человеческие фигуры или непонимания, каким должен быть следующий шаг в этой области органических форм?
Фрэнсис Бэкон: Дело в том, что одна из картин, которые я написал в 1946 году, — та, что похожа на лавку мясника, — возникла по воле случая. Я пытался написать птицу, сидящую в поле. Каким-то образом это перекликалось с теми тремя формами, которые я написал до этого, и вдруг проведенные мною линии подсказали нечто совершенно неожиданное — из этой подсказки и родилась картина. Я не планировал ее такой, какой она вышла: дело решил непрерывный поток случаев, как бы забравшихся друг на друга.
Дэвид Сильвестр: Сидящая птица подсказала зонт или что-то другое?
Фрэнсис Бэкон: Она внезапно подсказала выход в совершенно другую область чувств. И я все это написал — шаг за шагом. То есть едва ли птица подсказала зонт: она внезапно подсказала всю картину. И я очень быстро всю ее собрал — за три-четыре дня.
Дэвид Сильвестр: И часто у вас случается подобная трансформация картины в процессе работы?
Фрэнсис Бэкон: Случается, хотя теперь я каждый раз надеюсь, что дело пойдет более предсказуемо. Теперь я каждый раз чувствую, что хочу написать нечто очень, очень определенное, пусть и при помощи средств, абсолютно иррациональных с точки зрения иллюстрации. Например, портрет, причем портрет конкретного человека, хотя, если вы станете его анализировать, то едва ли поймете (или, вернее, вам очень трудно будет найти зацепки, чтобы понять), откуда вообще взялся подобный образ. Вот почему это довольно изматывающий способ работы: он весь, от начала и до конца, определяется случаем.
Фрэнсис Бэкон. Автопортрет. 1969
Дэвид Сильвестр: В каком смысле вы понимаете случай?
Фрэнсис Бэкон: В том смысле, что я сам не знаю, как возникает форма. Например, я как-то раз написал голову одного человека, и если вы начнете анализировать, из чего состоят ее глазницы, нос, рот, то увидите формы, не имеющие ровным счетом ничего общего с глазами, носом, ртом; однако краска, перетекая из одного контура в другой, создала сходство с человеком, которого я пытался написать. Когда это произошло, я остановился, а до этого просто ждал момента, когда смогу поймать нечто близкое к тому, чего хочу. На другой день я попробовал продвинуться дальше — сделать образ точнее, острее — и в итоге всё загубил.
Потому что этот образ — своего рода путь по тонкой грани между так называемой фигуративной живописью и абстракцией. Он должен исходить из абстракции, но в итоге приводить к чему-то, предельно от нее далекому. Он должен преподнести нечто фигуративное нервной системе с особой резкостью и остротой.
Дэвид Сильвестр: В тех ранних картинах, о которых вы сказали вначале, был яркий красный (или оранжевый) фон, но потом вы перешли к более тональной манере письма и около десяти лет в ваших картинах не было крупных пятен интенсивного цвета.
Фрэнсис Бэкон: Насколько я помню, я решил, что большей остроты образа можно достичь за счет затемнения и обесцвечивания.
Дэвид Сильвестр: А не помните ли вы, что побудило вас вернуться к интенсивному цвету?
Фрэнсис Бэкон: Возможно, я просто соскучился.
Дэвид Сильвестр: К тому же затемнение делает формы менее определенными, смазанными.
Фрэнсис Бэкон: Ну да, в темноте легко потерять форму…
Дэвид Сильвестр: А теперь, в некоторых недавних картинах, вы пишете яркий цветной фон и возвращаетесь к четким скульптурным формам раннего триптиха. Особенно это заметно в правой части вашего нового триптиха «Распятие». Сейчас вам хочется сделать форму более ясной и отчетливой?
Фрэнсис Бэкон. Три этюда для распятия. 1962. Музей Соломона Гуггенхайма
Фрэнсис Бэкон: Конечно: чем яснее и отчетливее форма, тем лучше. Правда, добиться ясности и отчетливости ужасно трудно. Думаю, это проблема для всех нынешних живописцев, по крайней мере для тех из них, кто чего-то стоит и в то же время предан сюжету или фигуративности. Им нужно передать сюжет как можно точнее, причем точность, которой они добиваются, — штука двусмысленная.
Дэвид Сильвестр: Когда вы работали над этим «Распятием», вы писали все три части триптиха параллельно или одну за другой?
Фрэнсис Бэкон: Сначала я работал над каждой частью отдельно, а потом, когда дело шло к концу, поставил их все в одном помещении и дописывал вместе. Этот этап длился около двух недель. У меня тогда был запой, и я работал в жутком состоянии, иногда едва представляя себе, что делаю. Это одна из немногих вещей, которые я написал спьяну. Возможно, выпивка придала мне свободы.
Дэвид Сильвестр: А после этого случалось что-нибудь подобное?
Фрэнсис Бэкон: Нет. Но я постоянно и напряженно думаю, как мне раскрепоститься. В смысле, что для этого нужно — наркотики, выпивка?
Дэвид Сильвестр: Или крайнее утомление?
Фрэнсис Бэкон: Утомление? Может быть. Или воля.
Дэвид Сильвестр: Воля потерять волю?
Фрэнсис Бэкон: Точно. Воля полностью раскрепоститься. Правда, воля тут неудачное слово, скорее это можно было бы назвать отчаянием. Ведь на самом деле всё начинается с чувства невозможности сделать то, что требуется: а если так, то можно делать что угодно и смотреть, что получится.
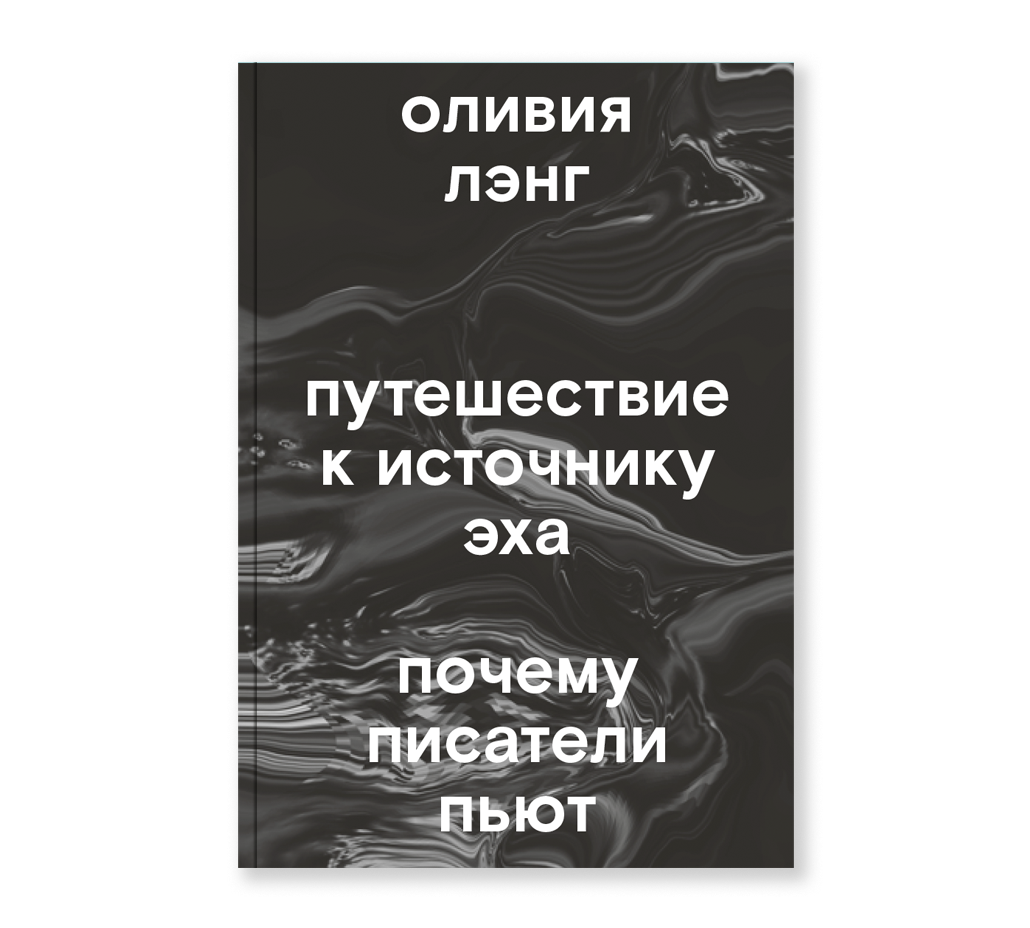
Дэвид Сильвестр: Изменилось ли в ходе работы над триптихом расположение фигур, или вы сразу, еще до начала работы, видели их там, где они должны быть?
Фрэнсис Бэкон: Я видел, но всё равно они постепенно менялись. Впрочем, фигура справа в принципе осталась такой, какой я видел ее задолго до того, как взялся за работу. Вы знаете великое «Распятие» Чимабуэ? Я всегда видел в нем образ червя, сползающего по кресту. А потом попытался в какой-то степени передать чувство, которое вызывала во мне эта картина, — чувство чего-то движущегося, извивающегося на кресте.
Дэвид Сильвестр: Полагаю, вы часто отталкиваетесь от уже существующих образов.
Фрэнсис Бэкон: Да, они пробуждают во мне новые образы. К тому же всегда хочется придать тому, что сделано до тебя, новую жизнь.
Дэвид Сильвестр: При этом образы подвергаются глубокой трансформации. Но можете ли вы сказать, когда эти трансформации существующих образов выстраиваются у вас в голове на предварительном этапе и когда они реализуются в процессе письма?
Фрэнсис Бэкон: Видите ли, каждая моя картина случайна, причем тем более случайна, чем дольше я вынашиваю ее замысел. Поэтому, да, образы выстраиваются у меня в голове и я представляю себе картину заранее, но сделать ее такой, какой она мне виделась, мне всё равно практически никогда не удается. Она сама трансформируется в процессе письма. Я работаю большими кистями и часто просто не знаю, как поведет себя краска, так что многие вещи порой сами собой выходят гораздо лучше, чем мог бы сделать я. По воле случая? Может быть, и нет, ведь происходит некий выбор, определяющий, какая часть этого случая сохранится. Всегда, естественно, хочется не упустить жизненную энергию случая и в то же время сохранить баланс.
Дэвид Сильвестр: Что, собственно, происходит, когда вы пишете? Краска вводит некие двусмысленности?
Фрэнсис Бэкон: Да, и еще дает подсказки. Отчаянно пытаясь написать ту голову, о которой я уже говорил, я взял громадную кисть, щедро обмакнул ее в краску и начал мазать наобум, не понимая толком, что это может дать. Вдруг — щелк, всё разом прояснилось и стало таким, как мне было нужно. Никакой воли, никакого сознательного намерения, ничего похожего на то, как бывает в иллюстративной живописи. О чем никто еще толком не задумывался, так это почему такая живопись позволяет добиться большей остроты, чем иллюстрация. Мне кажется, потому, что в ней есть абсолютно самостоятельная жизнь. Она живет сама по себе — так же как образ, который художник стремится поймать; и поскольку она живет сама по себе, ей удается передать сущность этого образа более остро. Художник оказывается способен снять с чувства препоны или, я бы сказал, отворить его вентили и тем самым более резко столкнуть зрителя с жизнью.
Дэвид Сильвестр: Когда вы чувствуете этот, как вы говорите, щелк, вам дается то, чего вы действительно хотели изначально, или всё-таки то, что вы признаете желаемым в результате?
Фрэнсис Бэкон: Желаемого, боюсь, никогда не удается достичь. Но есть возможность достичь через это случайное стечение обстоятельств чего-то более глубокого, чем то, чего хотелось изначально.
Дэвид Сильвестр: Говоря немного раньше об этой голове, вы сказали, что на другой день вернулись к ней и решили продвинуться дальше, но в итоге всё испортили. Именно такое развитие событий толкает вас к тому, чтобы уничтожать свои произведения? То есть вы сразу уничтожаете картины, которые вас не удовлетворяют, или это происходит тогда, когда, вернувшись к тем из них, которые вам нравились, вы пытаетесь сделать их еще лучше, но безуспешно?
Фрэнсис Бэкон: Мне кажется, я уничтожаю лучшие картины, во всяком случае те, которые были до какой-то степени лучшими.
Дэвид Сильвестр: И вы никогда не возвращаетесь назад, когда вот так теряете всё на пике?
Фрэнсис Бэкон: Сейчас — нет или, по крайней мере, всё реже и реже. Мой способ работы полностью подчинен случаю, причем доля случая в нем неуклонно возрастает; можно сказать, что он не дает результата, когда не является случайным, а как воссоздать случай? Это практически невозможно.
Дэвид Сильвестр: Но вы могли бы дождаться другого случая на том же холсте.
Фрэнсис Бэкон: Пожалуй, но таким же, как предыдущий, он никогда не будет. Думаю, подобное случается только в масляной живописи: это настолько деликатная техника, что одного сместившегося тона или мазка краски достаточно, чтобы характер всего образа полностью изменился.
Дэвид Сильвестр: Вы не можете вернуться к тому, что потеряли, но вы можете поймать что-то новое. Зачем же тогда уничтожать то, что не исключает доработки? Почему вам кажется, что лучше взять другой холст и начать заново?
Фрэнсис Бэкон: Потому что иногда всё уже потеряно, холст засорен вконец, на нем просто слишком много краски. Это чисто техническая проблема: столько уже написано, что дальше двигаться невозможно.
Дэвид Сильвестр: Из-за текстуры краски?
Фрэнсис Бэкон: Я работаю на полюсах: одни участки картины пишу очень тонко, а другие — наоборот, очень пастозно. В итоге местами возникает засорение, и волей-неволей начинаешь писать иллюстративно.
Дэвид Сильвестр: Почему?
Фрэнсис Бэкон: А вы можете разобраться в отличии между краской, обращающейся к вам непосредственно, и краской, которая проходит через иллюстрацию? Это проблема, которую очень, очень трудно выразить в словах. Невероятно темное, невероятно трудное дело — понять, почему одна часть краски действует напрямую на нервную систему, а другая рассказывает вам историю, упорно вдалбливает что-то в мозг.
Дэвид Сильвестр: И всё же случалось ли, чтобы работа над какой-то картиной шла бесперебойно, вы постепенно заполняли ее пастозным слоем краски и не заходили в тупик?
Фрэнсис Бэкон: Да, было такое — например, с одной давней головой на фоне занавеса. Это маленькая картина, и очень, очень пастозно написанная. Я работал над ней около четырех месяцев и каким-то, я бы сказал, довольно странным образом вышел из положения.
Фрэнсис Бэкон. Голова II. 1949. Музей Ольстера. Белфаст.
Дэвид Сильвестр: То есть вы нечасто работаете над картинами так подолгу?
Фрэнсис Бэкон: Нет. Правда, в последнее время мне стало требоваться больше времени. Мне кажется, что я могу инстинктивно написать основу, а потом работать поверх нее, как если бы начал заново. Я недавно попробовал такой подход и полагаю, что он открывает широкое поле возможностей: сначала просто пишешь, а потом, после перерыва, доводишь то, что получилось случайно, до какой-то более дальней точки — уже сознательно.
Дэвид Сильвестр: А бывает так, что вы оставляете картину на время — поворачиваете ее лицом к стене, чтобы вернуться к ней через несколько недель или месяцев?
Фрэнсис Бэкон: Нет, так я не делаю. Картина завладевает мной, и я не могу ее оставить, поэтому мне всегда не терпится — и это ужасно — во что бы то ни стало закончить ее и убрать с глаз долой.
Дэвид Сильвестр: То есть если бы к вам не приходили люди вроде меня и не забирали картины, то они скапливались бы в мастерской и в конце концов вы уничтожили бы их все?
Фрэнсис Бэкон: Думаю, да.
Дэвид Сильвестр: Насколько для вас важно показывать картины другим людям? Если бы их никто не видел, это имело бы для вас какое-то значение?
Фрэнсис Бэкон: Нет, никакого. Хотя, конечно, есть несколько, буквально несколько человек, чья критика может мне помочь и чьи благоприятные отзывы по-настоящему меня радуют. Что касается остальных, то их мнения мне безразличны.
Дэвид Сильвестр: Вы сожалеете о том, что уничтожили какие-то картины, которые считали хорошими? Хотелось бы вам посмотреть на них снова?
Фрэнсис Бэкон: Одна-две таких есть. Да, на какие-то, очень немногие, я, пожалуй, взглянул бы. Видите ли, если в картинах что-то есть, они оставляют следы в моей памяти, но у меня никак не получается вспомнить их целиком.
Дэвид Сильвестр: А вы не пробовали написать их снова?
Фрэнсис Бэкон: Нет. Конечно, нет.
Дэвид Сильвестр: И никаких рисунков, эскизов вы не делаете, никак не «репетируете» картину?
Фрэнсис Бэкон: Я часто думаю, что стоило бы, но нет, я так не делаю. В моем случае это не особенно полезно. Ведь если всё — текущее состояние текстуры, цвéта, движение краски — до такой степени случайно, то какой бы эскиз я заранее ни сделал, он дал бы в лучшем случае каркас того, что может произойти.
Дэвид Сильвестр: Подозреваю, что это касается и масштаба — что планировать большую картину в меньшем масштабе тоже для вас бессмысленно.
Фрэнсис Бэкон: Думаю, да.
Дэвид Сильвестр: Вообще, ваш подход к масштабу кажется очень последовательным. Вы постоянно используете одни и те же форматы, буквально несколько вариантов. Ваши маленькие картины — это головы, а большие — это полноразмерные фигуры, так что голова на большой картине имеет примерно тот же размер, что и на маленькой. А целая фигура на маленькой картине — редкость.
Фрэнсис Бэкон: Что ж, таковы мои ограничения, проявления моей косности.
Дэвид Сильвестр: Причем, масштаб близок к реальному, к натуральной величине. Если вы пишете фигуру, это значит, что картина будет большой. Не очень-то удобно для коллекционеров.
Фрэнсис Бэкон: Согласен, но мои картины не так уж велики в сравнении со многими из тех, что сейчас пишут.
Дэвид Сильвестр: Лет десять назад они казались очень большими, и все просили вас писать что-нибудь поменьше.
Фрэнсис Бэкон: Всё изменилось. Теперь они кажутся скорее маленькими.
Дэвид Сильвестр: Вы часто пишете серии.
Фрэнсис Бэкон: Да, отчасти потому, что я вижу каждый образ меняющимся, можно сказать — эпизодами. Иногда это уводит меня очень, очень далеко от того, что обычно называют изображением.
Дэвид Сильвестр: Работая над серией, вы пишете ее части по отдельности, одну за другой, или параллельно?
Фрэнсис Бэкон: По отдельности. Одна часть подсказывает мне другую.
Дэвид Сильвестр: А когда вы заканчиваете серию, она остается для вас серией? То есть важно ли для вас, чтобы ее части оставались вместе, или они могут существовать и по отдельности?
Фрэнсис Бэкон: В идеале я хотел бы заполнять целые залы картинами, которые имели бы разные сюжеты, но составляли бы серии. Я вижу залы, стены которых увешаны картинами, меняющимися, как слайды, — целый день могу мечтать о залах, набитых картинами. Но смогу ли я когда-нибудь осуществить то, что проходит у меня перед глазами, не знаю, так как эти видения быстро рассеиваются. Вообще, это довольно странно, ведь обычно художники мечтают написать одну картину, которая затмит все прочие, сконцентрирует в себе всё. Однако на деле картины внутри серии перекликаются друг с другом и порой выглядят вместе лучше, чем по отдельности, к тому же я, к несчастью, никогда не чувствовал в себе сил замахнуться на такой образ, который суммировал бы все прочие. Поэтому образы, как-то перекликающиеся друг с другом, кажутся мне способными сказать больше, чем одна картина.
Дэвид Сильвестр: Обычно ваши картины включают в себя одну голову или фигуру, но в новый триптих «Распятие» вы ввели композицию с несколькими фигурами. Планируете ли вы продолжать опыты в этом направлении?
Фрэнсис Бэкон: Написать одну фигуру — уже очень трудная задача, поэтому обычно мне кажется, что этого достаточно. Но, конечно, я мечтаю создать нечто совершенное.
Дэвид Сильвестр: А в чем сложность одиночной фигуры?
Фрэнсис Бэкон: Живопись сейчас находится на такой сложной стадии развития, что как только появляется несколько фигур — во всяком случае, на одном холсте, — сразу завязывается история. А как только завязывается история, возникает скука: история начинает говорить громче краски.
Дэвид Сильвестр: Действительно, люди пытаются найти историю в триптихе «Распятие». А есть ли на самом деле какое-то объяснение связи между изображенными там фигурами?
Фрэнсис Бэкон: Нет.
Дэвид Сильвестр: Значит, тут происходит примерно то же самое, как когда вы писали головы или фигуры внутри своеобразных каркасов и возникало впечатление, что персонажи изображены запертыми в стеклянных ящиках?
Фрэнсис Бэкон: Я использую эти каркасы, чтобы сконцентрировать внимание на образе, только и всего. Но мне известно, что их как только не интерпретируют.
Дэвид Сильвестр: Да, когда Эйхман появился на суде в стеклянном ящике, некоторые увидели в ваших картинах пророчество.
Суд над Адольфом Эйхманом. 1961.
Фрэнсис Бэкон: Я просто уменьшаю масштаб картины с помощью этих прямоугольников: они концентрируют в себе образ и позволяют рассмотреть его лучше.
Дэвид Сильвестр: То есть у вас никогда не было иллюстративных намерений, даже в той картине 1949 года с головой и микрофонами?
Фрэнсис Бэкон: Нет, я просто надеялся, что это поможет увидеть голову и микрофоны более ясно. Впрочем, я не думаю, что нашел удовлетворительное решение, и стараюсь использовать его как можно реже. Но иногда оно кажется мне необходимым.
Дэвид Сильвестр: Может быть, и вертикальные промежутки между частями триптиха выполняют ту же задачу, что и эти каркасы внутри картины?
Фрэнсис Бэкон: Так и есть. Они изолируют образы друг от друга и прерывают историю, которая могла бы завязаться между ними. Размещение фигур на трех отдельных холстах помогает избежать повествования. Разумеется, многие великие картины объединяют несколько фигур на одном холсте, и создать что-то подобное мечтает любой художник. Однако нынешнее положение живописи крайне затруднительно: уже между двумя фигурами заговаривает история, и это сводит на нет возможности написать фигуры, дав волю краске. Вот в чем огромная проблема. Но в какой-то момент появится художник, который продвинется вперед и сможет разместить несколько фигур на одном холсте.
Дэвид Сильвестр: Как бы вы ни противились истории, это, кажется, не мешает вам обращаться к сюжетам большой драматической напряженности, как, например, Распятие. Что побудило вас написать этот триптих?
Фрэнсис Бэкон: На меня всегда производили сильное впечатление изображения скотобоен и мясных туш: в моем восприятии они тесно связаны с темой Распятия. Я помню потрясающие фотографии животных перед забоем; в них есть запах смерти. Конечно, мы ничего знаем тут наверняка, но по этим фотографиям чувствуется, что животные очень ясно осознают свою участь и готовы на всё, чтобы ее избежать. Мне кажется, что подобные изображения основаны на чем-то очень, очень близком к теме Распятия в широком смысле слова. Я понимаю, что для религиозных людей, для христиан Распятие имеет совершенно иное значение. Но для неверующего это просто акт поведения человека, способ поведения по отношению к чему-то чужеродному.
Дэвид Сильвестр: У вас есть и другие картины, связанные с религией: помимо Распятия, к которому вы вновь и вновь возвращаетесь вот уже тридцать лет, есть «Папы». С чем связано это регулярное обращение к религиозным темам?
Фрэнсис Бэкон: Что касается «Пап», то они не имеют к религии никакого отношения. Они связаны с моей одержимостью фотографиями «Портрета папы Иннокентия X» работы Веласкеса.
Дэвид Сильвестр: Чем вас привлек именно этот «Папа»?
Фрэнсис Бэкон: Я полагаю, что это один из величайших когда-либо созданных портретов, и я без ума от него. Я покупаю все книги, в которых воспроизведен этот портрет, потому что он меня преследует — пробуждает во мне все виды чувств, открывает, я бы сказал, все области воображения.
Дэвид Сильвестр: Но ведь есть же и другие, не менее выдающиеся портреты Веласкеса. Почему вас захватил именно этот? Вы уверены, что тут не сыграло свою роль то, что на нем изображен папа?
Фрэнсис Бэкон: Я думаю, дело в потрясающем колорите.
Дэвид Сильвестр: Но также вы написали — по фотографиям — несколько картин с изображением современного папы, Пия XII, как если бы ваш интерес к картине Веласкеса перешел на ее героя, на папу как такового…
Фрэнсис Бэкон: Да, это были отличные профессиональные снимки, сделанные, когда папу несли по коридорам собора Святого Петра. Разумеется, папа по-своему уникален. Он занимает уникальное положение в силу своего статуса и потому, как в греческих трагедиях, возносится на помост, откуда величие его образа является всему миру.
Дэвид Сильвестр: Поскольку та же уникальность свойственна, очевидно, фигуре Христа, не возвращаетесь ли вы к идее уникальности и особого положения трагического героя? Ведь трагический герой — это всегда человек, который возносится над остальными людьми: с этого начинается его история.
Фрэнсис Бэкон: Я никогда не думал об этом в подобном ключе, но, пожалуй, вы правы.
Дэвид Сильвестр: Просто у вас это единственные темы, связанные с религией: распятый Христос и папа.
Фрэнсис Бэкон: Да. Думаю, ваша интерпретация близка к правде. Их обоих обстоятельства ставят в уникальное положение.
Дэвид Сильвестр: Не интересуют ли вас в первую очередь переживания, которые возникают у человека в такой ситуации — в уникальных и, возможно, трагических обстоятельствах?
Фрэнсис Бэкон: Нет. Мне кажется — и с возрастом это ощущение усиливается, — что мне интересно нечто куда более специфическое. Мне интересна фиксация образа. Хотя, конечно, вместе с фиксацией образа появляются и переживания, ведь создать такой образ, который не вызывал бы никаких переживаний, невозможно.
Дэвид Сильвестр: Вы говорите о фиксации образа, увиденного в жизни?
Фрэнсис Бэкон: Да. Это образ человека или предмета — в моем случае почти всегда человека.
Дэвид Сильвестр: Конкретного человека?
Фрэнсис Бэкон: Да.
Дэвид Сильвестр: Раньше это вас не так волновало…
Фрэнсис Бэкон: Согласен, но теперь это становится всё более важным для меня — просто потому, как мне кажется, что, зациклившись вот так на чем-то, получаешь возможность невероятно иррациональной переработки позитивного образа, создать который стремишься поначалу. Возникает одержимость: как сделать то, что ты делаешь, наиболее далеким от рациональности путем? В итоге начинаешь перерабатывать не только внешние черты образа, но и все области чувства, к которым имеешь доступ. Пытаешься открыть как можно больше уровней чувства, что невозможно при… Нет, неверно было бы говорить, что это невозможно при чисто иллюстративном подходе, в чисто фигуративных терминах, потому что это, конечно, возможно, и это делалось. Это удалось Веласкесу в его портрете.
Собственно, именно здесь кроется разительное отличие Веласкеса от Рембрандта, ведь, как ни странно, если вы возьмете великие поздние автопортреты Рембрандта, то увидите, что всё очертание лица меняется с течением времени: лицо было таким, и вот оно уже совершенно другое, хотя и остается, как принято говорить, типично рембрандтовским; меняясь, оно вводит вас в новую область чувства. У Веласкеса куда больше контроля, но в то же время, как я убежден, куда больше чуда.
Дело в том, что, стремясь к чему-то подобному, ходишь по краю пропасти, и поразительно, невероятно поразительно, что Веласкесу удалось практически не отступить от того, что мы называем иллюстрацией, и в то же время с такой силой и глубиной открыть то, что мог чувствовать изображенный им человек. Это и делает его живопись до такой степени загадочной: ведь, глядя на нее, действительно веришь, что Веласкес отобразил королевский двор своего времени, видишь вещи такими, какими они наверняка выглядели тогда, или очень, очень близкими. Конечно, с тех пор все стало ужасно запутанным и фальшивым, но я верю, что мы вернемся к более произвольному и прямому способу достижения верности — к той точности, с которой фиксировал образ Веласкес. Всё, что произошло после него, сделало наше положение гораздо более стесненным и затруднительным. Причин тому множество. Разумеется, одна из этих причин, хотя ей пока еще не было уделено достаточного внимания, заключается в том, что фигуративную живопись глубоко преобразила и полностью изменила фотография.
Дэвид Сильвестр: Это позитивное или негативное изменение?
Фрэнсис Бэкон: По-моему, позитивное. На мой взгляд, если Веласкес мог быть уверен, что он изображает королевский двор своего времени, некоторых людей своего времени, то сегодня любой настоящий художник вынужден искусственно разыгрывать ту же ситуацию. Он знает, что с изображением справится фотопленка, а значит, эта часть его деятельности перешла к другим, и его единственной задачей оказывается открытие чувств через образ. Кроме того, мне кажется, что человек сегодня осознает свою собственную случайность, крайнюю эфемерность своего бытия и необходимость вести свою игру без какого-либо смысла. Подозреваю, что даже Веласкес, даже Рембрандт, занимаясь своим искусством, удивительным образом сохраняли — вне зависимости от особенностей их образа жизни — опору на религиозные возможности, которых сегодняшний человек лишил себя без остатка. По-моему, несомненно, что сегодня у человека есть единственный способ как-то улучшить свое положение: он заключается в том, чтобы как можно дольше отвлекать себя деятельностью, продлевать свою жизнь покупкой временного бессмертия у докторов. Очевидно, что всё искусство целиком и полностью превратилось в игру, которой человек развлекает себя. Вы можете сказать, что так было всегда, но только теперь искусство — это игра от начала и до конца. Полагаю, что в этом суть происшедших изменений и что положение художника значительно усложнилось, так как, чтобы чего-то добиться, он должен углублять игру во что бы то ни стало.
Октябрь 1962