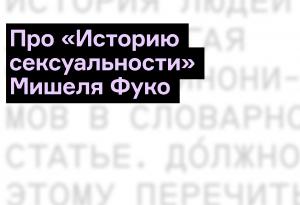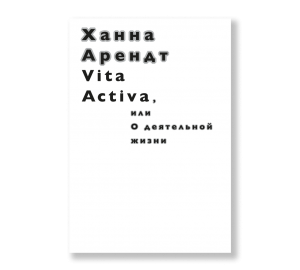Ричард Сеннет и Мишель Фуко: Сексуальность и одиночество
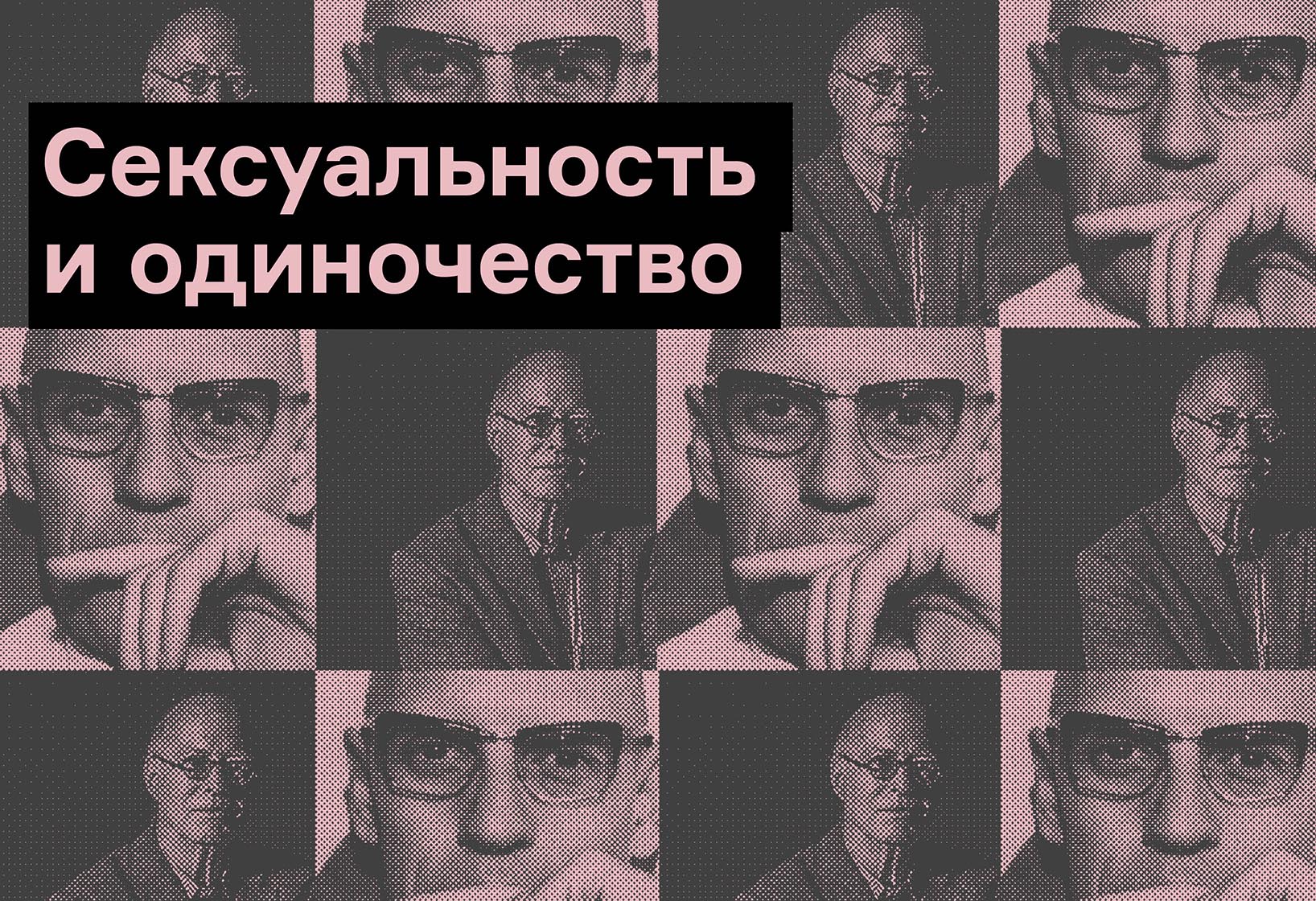
В связи с выходом последнего тома «Истории сексуальности» Мишеля Фуко публикуем две лекции, прочитанные в рамках совместного семинара в Нью-Йоркском университете в 1980 году Мишелем Фуко и Ричардом Сеннетом. О связи между сексуальностью, субъективностью и обязательством истины, а также о влиянии христианства на современную культуру — в приведенных ниже фрагментах.
Ричард Сеннет
Несколько лет назад мы с Мишелем Фуко обнаружили, что интересуемся одной и той же проблемой, правда в разных исторических промежутках. Нас интересует, почему сексуальность стала столь важной для самоопределения людей? Секс так же естественен, как питание или сон, но в современном обществе его рассматривают как нечто большее. Это медиум, через который люди определяют свою личность и свои вкусы. Кроме того, сексуальность — это средство, с помощью которого люди стремятся осознать себя. Это отношение между самосознанием, или субъективностью, и сексуальностью мы и хотим рассмотреть. Сегодня немногие подпишутся под словами Брийя-Саварена «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты»[1], но если применить этот афоризм к сексу, с ним наверняка согласятся почти все: «Познай, как ты любишь, и ты узнаешь, кто ты».
В центре нашего внимания очень разные исторические периоды, когда заявляет о себе тема самосознания в связке с сексуальностью. Фуко присматривается к тому, как христианство в годы своего становления (в III–VI веках) присваивало сексуальности новую ценность и переопределяло ее как таковую. Я же изучаю период второй половины XVIII–XIX века, когда медики, педагоги и судьи начали проявлять к сексуальности совершенно новый интерес. Когда нам стало ясно, что применительно к этим двум периодам мы задаем довольно схожие вопросы, мы решили организовать семинар, чтобы посмотреть, какие мосты могли бы быть наведены между нашими исследованиями. Надеемся, что мы получим приблизительные, предварительные представления о продолжающемся влиянии христианства на современную культуру.
Изучение сексуальности не входило в мои цели. Я исследовал историю одиночества в современном обществе. Мне показалось, что, изучая эволюцию переживания одиночества, я смогу подобраться к такому обширному и аморфному понятию, как субъект, то есть меня интересовало развитие субъективности в современной культуре. Как изменилось представление о «Я» за последние два века? Чтобы охватить эту очень широкую тему, я стремился понять, изменяющиеся условия, в которых люди чувствовали себя одинокими наедине с собой, условия семейной жизни, рабочей и политической жизни, которые побудили людей считать себя одинокими. Поначалу я был сосредоточен на таких конкретных вопросах, как ощущение себя одиноким в гуще городской толпы (непредставимое для человека XVII века) и формирование чувства изоляции из-за изменения производственных условий. Через некоторое время изучение истории обстоятельств, в которых люди чувствовали себя одинокими, показалось мне не соответствующим теме моего исследования. В частности, этот подход не учитывал интеллектуальные механизмы (mental tools), которые люди использовали, чтобы осмыслять себя в одиночестве. В прошлом столетии один из этих механизмов самоопределения становится все более важным — это восприятие собственной сексуальности. Например, к концу XIX века сформировалось представление о том, что человек, который покинул семью и вышел в толпу, открыт всем видам сексуального опыта, тогда как внутри семьи даже мысли о сексуальной близости вызывали стыд. Так появились два вида желания: желание анонимного человека и желание семейного человека.
Позвольте ненадолго остановиться на определении слова «одиночество».
Это чувство, что среди многих ты — один, и что у тебя есть внутренняя жизнь, являющаяся чем-то бóльшим, нежели отражение чужих жизней. Это одиночество отличия. Каждый тип одиночества обладает своей историей. В античном мире одиночество, навязанное властью, было изгнанием [из полиса], во Франции XVII века одиночество, навязанное властью, было изгнанием в деревню. В современном офисе одиночество, порожденное властью, — это чувство одиночества внутри массы. В античном мире Сократ был обособленным мечтателем. Его боялись власть имущие, а законам государства он противопоставлял дискурс высшего закона, установленному порядку власти противопоставлял идеал. Современный homme révolté — это Арто или Жене, он противопоставляет порядку власти истину беззакония. Одиночество отличия, одиночество внутренней жизни, не исчерпывающейся отражением других жизней, также изменялось по ходу истории.
Большинство работ на тему одиночества затрагивают только первые два типа; люди в изоляции часто воспринимаются либо как жертвы, либо как мятежники. Эмиль Дюркгейм был, вероятно, ярчайшим выразителем одиночества как жертвы, а Жан-Поль Сартр — ярчайшим выразителем одиночества как бунта. Чувству обособленности, отличия уделяют меньше внимания, и на то есть понятная причина. В современном обществе это чрезвычайно запутанный опыт, и одна из причин путаницы заключается в том, что наши представления о сексуальности как индексе самосознания затрудняют наше понимание о том, как мы отличаемся от других в обществе. На этом третьем типе одиночества и сосредоточились я и Фуко.
Первые современные исследователи сексуальности думали, что открывают пугающий ящик Пандоры из безудержной похоти, извращенности и деструктивности, обращая внимание только на сексуальные желания людей, без воспитывающих ограничений от общества. Надеюсь, что до некоторой степени их испуг можно будет прочувствовать, когда мы приступим к анализу текстов Тиссо и других авторов о мастурбации. Человек, оставшийся наедине со своей сексуальностью, кажется человеком, оказавшимся наедине с очень опасной силой. В ходе нашего семинара мы попытались понять, что эти позднепросвещенческие и викторианские опасения перед ящиком Пандоры внутри человека являются не просто слепыми предрассудками или аберрациями научного исследования. Эти опасения выражают представления об отношении между сознанием и телом, речью и желанием, о которых викторианские медики даже не подозревали. Их взгляды укоренены в фундаментальных христианских формулах о связи между желанием, дискурсом и политическим доминированием. То, что слепо наследуется, скорее всего так же слепо будет передаваться. Викторианская мораль выступает не только фундаментом правых призывов к социальным репрессиям, появившимся на последних американских выборах: в более безобидных кругах она также является основой убеждения, что созерцание своей сексуальности — это созерцание «проблемы», тайн внутри себя, которые в процессе получения удовольствия могут нанести большой ущерб. Сильный заряд психологической ценности, возложенный на сексуальность, является наследием викторианской мудрости, пусть мы и тешим себя надеждой, что больше не разделяем ее репрессивных предрассудков. Представление о том, что человек обладает идентичностью, основанной на его сексуальности, накладывает огромное бремя на эротические чувства, бремя, которое очень трудно было бы понять кому-либо в XVIII веке.
Вторая проблема, на которой сфокусирован наш семинар, касается дезориентации сексуального самосознания во время процесса, который связывает сознание и тело. Чтобы описать, как сексуальность используется для измерения человеческого характера, мы пользовались выражением «технология себя». Часть современной технологии себя состоит из использования телесного желания для измерения степени искренности человека. «Ты действительно так думаешь?», «Ты честен с самим собой?». Люди задаются этими вопросами, пытаясь понять, чего хочет тело: если тело чего-то не желает, значит, вы не честны с собой. Субъективность сомкнулась с сексуальностью: истина субъективного самосознания понимается в терминах измеряемой телесной стимуляции. Использование глагола «чувствовать» (to feel), когда американцы спрашивают: «Ты правда чувствуешь, о чем я говорю?» говорит о том, что это слово является следствием укоренения сексуальности в субъективности и означает, что если что-то не ощущается, значит, это не истинно. Истоки этого процесса, когда через телесное транслируется истинное, лежат в христианских источниках, как мы уже показали во время наших семинаров. Современное следствие этого процесса состоит в том, что своенравное направление сексуального желания подействовало на уверенность в собственном самосознании, как кислота: по мере того, как изменяются телесные желания, люди вынуждены постоянно сталкиваться с новыми, иными и противоречивыми истинами.
Таким образом, в третий тип одиночества сексуальность привнесла элементы страха и неуверенности в себе. Появились предпосылки к познанию себя как обособленного, отдельного человека. Это психологический трюизм: для человека становится актуальным то, чего он не понимает, и то, что его пугает. Неопределенность, которую создает сексуальность для субъективности, подчеркивает важность переживания: сексуальность становится проблематичной и более важной для нас в определении самих себя. Я считаю, что риторическая и политическая точка зрения, которую разделяем Фуко и я, заключается в том, что сексуальность стала очень важна и непосредственно связана с задачами самоопределения и самопознания, которые она не может и не должна выполнять.
Позвольте мне последнее вступительное замечание. Логичным ответом на вопрос о связи сексуальности и одиночества будет: «Забудьте об этом. Наслаждайтесь сексом и прекратите думать о себе». Я бы хотел высказаться, почему проблема одиночества не может быть решена таким образом.
Существует прямая связь между сексуальностью и социальностью: если человеку некомфортно наедине с самим собой, с другими ему тоже будет некомфортно.
Также хочу добавить, что сегодня мы можем испытывать эту ритмичность так, как это было невозможно в прошлом из-за огромной возможности, которая открылась в западном буржуазном обществе. Это возможность жить во фрагментированном обществе.
В современном обществе существует возможность вырваться из органических уз религии, семьи, работы и общностей, которые раньше скрепляли многие сообщества — если так не было по факту, то по меньшей мере к этому стремились как к общему идеалу. Мы начинаем обходиться без органической любви[3]. Крупные бюрократии не держатся на принципах органической солидарности, как это первым отметил Э. Дюркгейм; семья и рабочее место больше не соединены даже физически в одном доме, как это было в XVIII веке или в сельской местности. Религия больше не играет интегрирующей роли в традиционной жизни католиков или евреев. Вместо того, чтобы оплакивать эти изменения как признаки упадка общества, мы, я считаю, должны их принять и попытаться понять, как они могут послужить нам во благо. Благо, которое вижу в них я, заключается в создании новых возможностей — как для одиночества, так и для социальности.
Ослабление органических связей означает, что социальные отношения все в большей степени могут становиться предметом выбора. Чем меньше социальных отношений встроено в естественный порядок, божественный закон или органическую необходимость, тем более люди способны представлять себя существами, живущими отдельно от своих социальных ролей. Когда мы вступаем в социальные отношения по собственному выбору, тогда они приобретают большую значимость. Но это чувство, что мы выбираем или не выбираем, о ком заботиться, во фрагментированном обществе зависит от умения видеть себя в качестве отдельного, отличного от других, полноправного человека. Утрата сексуальностью функции мерила психологической истины привела к дезориентации этого типа самосознания.
Мишель Фуко
В работе, посвященной моральной терапии для лечения безумия и опубликованной в 1840 году, французский психиатр Лурен рассказывает, как он лечил одного из своих пациентов — лечил и, конечно, как вы можете себе представить, вылечил. Однажды утром он поместил господина А., своего пациента, в душевую. Он заставил его подробно рассказать о своем бреде. «Но всё это, — сказал доктор, — не что иное, как безумие. Обещайте мне больше в это не верить». После некоторых колебаний пациент пообещал. «Этого недостаточно, —сказал доктор. — Вы уже давали мне подобные обещания и не сдержали их». И включил холодный душ над головой пациента. «Да, да! Я сошел с ума!» — кричит больной. Душ выключен, допрос возобновлен. «Да. Я признаю, что сошел с ума», — повторил больной. «Но, — добавил он, — я признаю это, потому что вы вынуждаете меня это сделать». Снова душ. «Ладно, ладно, — говорит господин А., — я признаю. Я сошел с ума, и все это было не что иное, как безумие».
Заставлять человека, страдающего психическим расстройством, признать, что он сумасшедший, — это очень давняя процедура традиционной терапии. В работах XVII и XVIII веков можно найти много примеров того, что можно было бы назвать терапией истины. Но техника, используемая Луреном, совершенно иная. Лурен не пытается убедить пациента в том, что его идеи ложны или неразумны. Лурену совершенно безразлично, что происходит в голове господина А. Он добивается конкретного действия, прямого признания: «Я сошел с ума». С тех пор как я впервые прочитал этот отрывок Лурена, а это произошло около двадцати лет назад, я держал в уме проект анализа формы и истории такой дикой практики. Лурен удовлетворен только тогда, когда его пациент говорит: «Я сошел с ума» или «Это было безумие». Предположение Лурена состоит в том, что безумие, как и реальность, исчезает, когда пациент утверждает истину и говорит, что он сумасшедший.
Таким образом, перед нами обратная сторона перформативного речевого акта. Утверждение разрушает в говорящем субъекте реальность, которая сделала то же самое утверждение истинным. Какая концепция истинности дискурса и субъективности принимается как должное в этой странной и все же широко распространенной практике? Чтобы оправдать внимание, которое я уделяю этому, казалось бы, сугубо специальному предмету, позвольте мне на мгновение сделать шаг назад. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, а особенно сразу после нее, в философии континентальной Европы и во Франции господствовала философия субъекта. Я имею в виду, что философия поставила перед собой в качестве первостепенной задачи обоснование всякого знания и принципа всякого значения, исходя из облеченного всей полнотой смысла субъекта. Важность, придаваемая этому вопросу, обусловлена влиянием Гуссерля, но центральная роль субъекта также связана с институциональным контекстом, во всяком случае во французской университетской традиции: поскольку эта философия началась с Декарта, то с тех пор французский университет мог продвигаться только в картезианском направлении. Следует принять во внимание и политическую конъюнктуру. Перед лицом абсурдности войны, резни и деспотизма казалось, что лишь сам индивидуальный субъект способен придать смысл своему экзистенциальному выбору. После того как война закончилась, постепенно — благодаря времени и дистанции — приоритет философии субъекта перестал казаться столь самоочевидным. Выявились скрывавшиеся за ним до сих пор теоретические парадоксы. Философия сознания парадоксальным образом не смогла послужить основой для философии знания, и особенно научного знания. Философия смысла не смогла учесть формообразующие механизмы означивания и структуру смысловых систем.
Со всей легкостью и ясностью ретроспективного взгляда — как говорят американцы, the Monday-morning quarterback ( задним умом крепок. — Пер.), — позволю себе отметить, что было два возможных пути, ведущих за пределы этой философии субъекта. Первым из них была теория объективного познания как анализа знаковых систем, то есть семиология. Это был путь логического позитивизма. Вторым был путь лингвистики, психоанализа и антропологии, объединенных под рубрикой структурализма. Я не воспользовался этими направлениями. Позвольте мне объявить раз и навсегда, что я не структуралист, и признаться, с должным сожалением, что я не аналитический философ. Никто не совершенен. Но я попытался исследовать другое направление.
Этот общий проект можно продолжить двумя способами. Работая с современными теоретическими построениями, мы имеем дело с субъектом вообще. В этом смысле я попытался проанализировать теории субъекта как говорящего, живого, работающего человека в XVII и XVIII веках. Но можно изучить и более практическое понимание субъекта, обнаруживаемое в тех учреждениях, где определенные субъекты становились объектами познания и господства: в приютах, тюрьмах и т. д.
Я хотел изучить формы понимания самого себя, создаваемые субъектом. Но с тех пор, как я начал с этой последней проблемы, я был вынужден изменить свое мнение по нескольким пунктам. Позвольте мне немного себя покритиковать. В соответствии с положениями Хабермаса, можно выделить три основных типа техник: техники, позволяющие производить вещи, преобразовывать их, манипулировать ими; техники, позволяющие использовать знаковые системы; и, наконец, техники, позволяющие руководить индивидами, предписывать им определенные задачи или цели. То есть техники производства, техники означивания или коммуникации и техники доминирования. Но я всё больше и больше убеждался, что во всех обществах существует другой тип техник: техники, позволяющие индивидам собственными средствами производить определенное количество операций над своими телами, душами, мыслями, поведением, таким образом, чтобы изменить себя, доработать себя и достигнуть определенного состояния совершенства, счастья, чистоты, сверхъестественной силы. Назовем эти техники технологиями себя.
Если мы хотим проанализировать генеалогию субъекта в западной цивилизации, то мы должны принять во внимание не только техники доминирования, но и техники себя. Необходимо показать взаимодействие между этими типами техник. Когда я изучал приюты, тюрьмы и так далее, я, возможно, ставил излишний акцент на техники доминирования. В учреждениях этого типа действительно важно то, что мы называем дисциплиной. Однако это лишь один из аспектов искусства управления людьми в наших обществах. Изучив область отношений власти, взяв за отправную точку техники доминирования, в последующие годы я хотел бы изучать отношения власти, отталкиваясь от техник себя. Я думаю, что в каждой культуре эта технология себя подразумевает набор обязательств по отношению к истине: нужно открывать истину, просвещаться истиной, говорить правду. Все это считается важным либо для формирования, либо для трансформации себя.
Как же понимается обязательство истины в наших христианских обществах? Как всем известно, христианство — это конфессия (лат. confessio — исповедь, исповедание. — Пер.). Это значит, что христианство принадлежит к совершенно особому типу религий — к тем, которые налагают обязательства истины на тех, кто их практикует. В христианстве таких обязательств множество. Например, существует обязательство считать истиной набор положений, составляющих догматы веры, обязательство считать определенные книги постоянным источником истины и обязательство признавать решения определенных авторитетов в вопросах истины. Однако христианство требует и другой формы обязательства истины. Каждый христианин обязан исследовать, кто он есть, что происходит внутри него, какие ошибки он мог совершить, каким искушениям он подвергается. Более того, каждый обязан рассказывать об этом другим людям и, следовательно, свидетельствовать против самого себя.
Эти два набора обязательств — те, что касаются веры, книги, догматов, и те, что касаются самости, души и сердца, — связаны друг с другом. Когда христианин хочет исследовать себя, он нуждается в свете истины. И наоборот, его обращение невозможно без очищения души. Буддист также должен стремиться к свету и открывать истину о себе. Однако отношения между этими двумя обязательствами в буддизме и в христианстве сильно отличаются. В буддизме один и тот же тип просветления ведет вас к открытию того, что вы есть, и к открытию того, что есть истина. В этом одновременном просветлении себя и истины вы обнаруживаете, что ваше Я было только иллюзией. Я хотел бы подчеркнуть, что христианское открытие себя не разоблачает Я как иллюзию. Оно ставит заведомо бесконечную задачу, имеющую две стороны. Во-первых, это задача прояснения всех иллюзий, искушений и соблазнов, которые могут возникнуть в уме, и открытия реальности того, что происходит внутри нас. Во-вторых, это задача освобождения от всякой привязанности к этому Я не потому, что оно — иллюзия, а потому, что оно более чем реально.
Недавно профессор Питер Браун заявил, что мы должны понять, почему в христианских культурах именно сексуальность стала сейсмографом нашей субъективности. Действительно, фактом — загадочным фактом — является то, что в бесконечной спирали истины и реальности, определяющей Я, сексуальность приобретает большое значение с первых веков нашей эры и затем становится все более и более важной. Почему существует столь фундаментальная связь между сексуальностью, субъективностью и обязательством истины? Вот в этом пункте и пересекаются моя работа и работа Ричарда Сеннета.
Отправной точной нашего семинара послужил отрывок из труда святого Франциска Сальского:
Самое достойное из всех животных, которые живут на земле, это слон. Он никогда не меняет самку и нежно заботится о ней всю жизнь. Спаривание происходит раз в три года в течение пяти дней и так незаметно, что никому не удавалось его наблюдать. Но на шестой день можно видеть, как слон идет прямо к реке, обмывает все тело и только тогда возвращается к своему стаду. Он чуждается каких-либо чувственных удовольствий. Так и человек должен омыть не только тело, но и очистить сердце от всякой привязанности и чувственности, и тогда со свободной душой заниматься более возвышенными делами[4].
В этом отрывке каждый может распознать пример подобающего полового поведения: моногамия, верность и деторождение как основное или, может быть, единственное оправдание половых актов, которые даже в этих условиях остаются внутренне нечистыми. Я думаю, что большинство из нас склонно приписывать эту модель либо христианству вообще, либо нововременному христианскому обществу, развившемуся под влиянием капиталистической или так называемой буржуазной морали. Но что меня поразило, когда я начал изучать этот пример, так это то, что его можно встретить в латинской и даже эллинистической литературе. Там обнаруживаются те же идеи, те же слова и даже та же ссылка на слона. Уже признано, что языческие философы до и после Рождества Христова предлагали половую этику, в чем-то новую для своего времени, а в чем-то весьма родственную так называемой христианской этике. В рамках нашего семинара было убедительно подчеркнуто, что в то время этот философский пример сексуального поведения — модель слона — не был единственным известным и применяемым на практике. Он конкурировал с несколькими другими, но вскоре возобладал, так как был связан с социальными преобразованиями, включавшими распад городов-государств, развитие имперской бюрократии и усиление влияния провинциального среднего класса.
В этот период мы становимся свидетелями эволюции в сторону нуклеарной семьи, безоговорочной моногамии, взаимной верности супругов и тревожной озабоченности темой половых актов. Философская кампания в пользу модели слона была одновременно следствием и дополнением этой трансформации. Если эти предположения верны, мы должны признать, что христианство не изобрело свой кодекс полового поведения. Христианство восприняло его, укрепило его и придало ему гораздо более широкое распространение, чем прежде. Так называемая христианская мораль есть не что иное, как часть языческой этики, внедренной в христианство. Можем ли мы тогда сказать, что христианство не изменило положения вещей? Ранние христиане внесли важные изменения если не в сам кодекс половой этики, то, по крайней мере, в отношения каждого к собственной половой активности. Христианство предложило новый тип переживания себя как сексуального существа.
Чтобы прояснить ситуацию, я сравню два текста. Первый из них написан Артемидором, языческим философом III века, а второй — это хорошо известная 14-я книга трактата святого Августина «О Граде Божием». Артемидор, будучи язычником, написал книгу о толковании снов. Три главы этой книги посвящены сексуальным сновидениям. В чем смысл или, точнее, прогностическая ценность сексуального сновидения? Примечательно, что Артемидор интерпретирует сновидения противоположным образом по сравнению с Фрейдом: он толкует сексуальные сновидения в терминах экономики, социальных отношений, успехов и неудач в политической деятельности и повседневной жизни. Например, если вам снится, что вы занимаетесь сексом со своей матерью, это означает, что вы преуспеете в качестве судьи, поскольку ваша мать, очевидно, является символом вашего города или страны.
Важно, что социальное значение сновидения зависит не от характера полового акта, а главным образом от социального статуса партнеров. Например, для Артемидора не важно, с кем человек занимался сексом во сне — с девушкой или с мальчиком. Важно другое: богатым был партнер или бедным, молодым или старым, рабом или свободным, женатым или не женатым. Конечно, Артемидор задается вопросом о половом акте, но он видит его только с точки зрения мужчины. Единственный половой акт, который он знает или признает таковым, — это проникновение. Причем проникновение для него — не только половой акт, но и часть социальной роли мужчины в городе. Я бы сказал, что для Артемидора сексуальность является отношением, и что сексуальные отношения не могут быть отделены от социальных отношений.
Теперь обратимся к тексту Августина, чье значение — это та точка, к которой мы хотим прийти в нашем анализе. В «Граде Божием», а позднее и в трактате «Против Юлиана» Августин дает довольно пугающее описание полового акта. Он воспринимает половой акт как своего рода спазм. Все тело, говорит Августин, сотрясается страшными толчками. Человек полностью теряет контроль над собой. «Похоть эта овладевает всем телом, причем не только внешне, но и внутренне, и приводит в волнение всего человека, примешивая к плотскому влечению и расположение души; наслаждение же от нее — наибольшее из всех плотских наслаждений, отчего при достижении его теряется всякая проницательность и бдительность мысли»[5]. Стоит отметить, что это описание не является изобретением Августина: то же самое можно найти в медицинской и языческой литературе предшествующего столетия. Более того, текст Августина практически совпадает с отрывком из диалога языческого философа Цицерона «Гортензий»[6].
Удивительно не то, что Августин приводит традиционное описание полового акта, а то, что, дав столь пугающее описание, он затем допускает, что половые отношения могли быть в раю еще до грехопадения. Это особенно примечательно, поскольку Августин — один из первых Отцов Церкви, признавших такую возможность. Конечно, секс в Раю не мог быть таким эпилептическим по своей форме, каким мы его, к сожалению, знаем сейчас. До грехопадения тело Адама в каждой своей части было целиком и полностью послушным душе и воле. Если бы Адам хотел произвести потомство в Раю, он мог бы сделать это таким же подконтрольным себе образом, как, например, посеять семена в землю. Он не мог возбудиться непроизвольно. Все части его тела были подобны пальцам, жесты каждого из которых можно контролировать. Половой орган был чем-то вроде руки, аккуратно сеющей семя. Но что произошло с грехопадением? Совершив грех, Адам восстал против Бога. Он попытался уклониться от воли Бога и обрести собственную волю, не понимая, что само существование его воли полностью зависит от воли Бога. В наказание за этот бунт и в результате появления этой независимой от Бога воли Адам потерял контроль над собой. Он решил приобрести автономную волю и потерял онтологическую опору для нее. В итоге воля Адама неразделимо смешалась с непроизвольными движениями, и это ее ослабление вызвало катастрофические последствия. Тело и его части перестали повиноваться приказам, восстали против него, и первыми восстали половые части тела. Знаменитый жест Адама, прикрывающего свои гениталии фиговым листком, объясняется, по Августину, не тем простым фактом, что Адам устыдился их наличия, а тем, что его половые органы начали двигаться сами по себе, без его согласия. Эрегированный половой орган — это образ человека, восставшего против Бога. Дерзость полового органа — это следствие дерзости человека и наказание за нее. Неконтролируемый половой орган — это ровно то же самое, что и человек по отношению к Богу: это бунтарь.
Почему я так настаиваю на том, что, возможно, является лишь одной из тех экзегетических фантазий, на которые так щедра христианская литература? Я считаю, что этот текст свидетельствует о новом типе отношений, которые христианство установило между сексом и субъективностью. В концепции Августина по-прежнему доминирует — как тема и как форма — мужская сексуальность. Но центральной является уже не проблема проникновения, как это было у Артемидора, а проблема эрекции — и, следовательно, не проблема отношения к другим людям, а проблема отношения к самому себе или, вернее, отношения между своей волей и непроизвольными движениями. Принцип автономных движений половых органов Августин именует либидо.
Оно — не проявление мелких желаний, а результат воли человека, когда эта воля выходит за пределы, изначально установленные для нее Богом. Следовательно, духовная борьба с либидо заключаются не в том, чтобы, согласно платоновской модели, обратить взор к небу и вспомнить реальность, которую мы прежде знали и забыли. Напротив, она заключается в том, чтобы постоянно обращать взор вниз или внутрь, чтобы выследить среди всех движений души те, которые происходят от либидо. Эта борьба бесконечна, так как либидо и воля не могут быть отделены друг от друга по существу. И, кроме того, эта борьба есть не только вопрос мастерства, но и вопрос диагностики истины и иллюзии. Она требует постоянной герменевтики себя.
В подобной перспективе половая этика накладывает очень строгие обязательства истины, заключающиеся не только в усвоении правил полового поведения, но и в постоянном изучении себя как либидинальных существ. Можно ли сказать, что после Августина у нас появляется умозрительный опыт секса? Скажем, по крайней мере, что в анализе Августина происходит подлинная либидинизация секса. Моральное богословие Августина — это в определенной степени систематизация многих предшествующих рассуждений, но вместе с тем и совокупность духовных техник.
Читая аскетическую и монашескую литературу IV–V веков, нельзя не поразиться тому, что эти техники не имеют прямого отношения к практическому контролю сексуального поведения. О гомосексуальных отношениях почти не говорится, хотя в большинстве своем аскеты жили в постоянно действующих и многочисленных общинах. Техники, о которых идет речь, были связаны преимущественно с потоком мыслей, вливающихся в сознание, нарушающих самой своей множественностью необходимую цельность созерцания и обманом передающих человеку образы или внушения Сатаны. Задача монаха не была задачей философа: добиться господства над собой путем окончательной победы воли. Она состояла в том, чтобы постоянно контролировать свои мысли, исследовать их, чтобы выяснить, чисты ли они, не скрывается ли в них или за ними что-то опасное, не несут ли они в себе нечто иное, чем кажутся на первый взгляд, не являются ли они формой иллюзии и обольщения. К этим данным всегда нужно относиться с подозрением, их нужно тщательно изучать и проверять. Так, согласно Кассиану, человеку нужно исследовать себя по примеру меняльщика, который проверяет получаемые монеты. Истинная чистота заключается не в способности лечь с молодым и красивым юношей и даже не прикоснуться к нему, как это делал Сократ с Алкивиадом. Монах истинно целомудрен тогда, когда в его сознании не возникает никаких нечистых образов, даже ночью, даже во сне. Критерий чистоты состоит не в способности держать себя под контролем даже в присутствии самых желанных людей, а в способности открыть в себе истину и победить в себе иллюзии, искоренить образы и мысли, постоянно производимые умом. Вот где проходит линия духовной борьбы с нечистотой. Центральная проблема половой этики сместилась от отношения к людям, от модели проникновения в сторону отношения к себе и модели эрекции, то есть в сторону совокупности внутренних движений, которые ведут от исходного, едва различимого помысла до полного — причем совершаемого в одиночестве — осквернения, поллюции. Какими бы ни были разными и в конечном счете противоречивыми эти явления, в них можно выявить общий вектор: сексуальность, субъективность и истину, которые оказываются тесно связаны друг с другом. Такова, как я полагаю, религиозная рамка, в которой находится проблема мастурбации — и которой греки практически не знали или, во всяком случае, которой они не придавали значения, считая, что мастурбация — это занятие рабов и сатиров, но не свободных граждан, — Так мастурбация становится одной из ключевых проблем сексуальной жизни.
Ричард Сеннет
В заключение я бы хотел показать, как некоторые христианские понятия исследования самого себя через исследование своей сексуальности вновь появились в современном обществе. Для этого мне понадобится проследить историю мастурбации с середины XVIII века до конца XIX века.
Выражение «вновь появились» я использую здесь намеренно. В начале XVIII века аутоэротизм не представлял особого интереса для медицинских и образовательных учреждений. Конечно, онанизм считался грехом, но существовал разрыв между христианским предписанием и медицинским диагнозом. Аутоэротизм причисляли к одному из многих расстройств, которые могли возникнуть вследствие половой несдержанности. Герман Бурхаве в «Institutiones medicae» («Медицинских установлениях»), опубликованных в 1708 году, так описывает общие проявления полового излишества: «слишком обильное выделение семени вызывает усталость, слабость, недомогание при движении, судороги, худобу, сухость, жар и боли в оболочках мозга, притупление чувств, особенно зрения, спинную сухотку, слабоумие и другие расстройства подобного рода». К моменту выхода работы Рихарда фон Крафт-Эбинга «Сексуальная психопатия» в 1887 году все эти симптомы связывались с мастурбацией. Более того, их причиной считалось уже не «слишком расточительное исполнение полового акта», а сексуальное желание. Сексуальное желание, регулярно испытываемое в одиночестве, приводит к мастурбации, затем к гомосексуализму и, наконец, к безумию. За время, прошедшее от Бурхаве до Крафт-Эбинга, сексуальность смещается от поведения человека к его самочувствию.
Возможно, самым важным медицинским документом в этой области является работа франко-швейцарского врача Самюэля Тиссо «Онанизм, или Исследование о болезнях, вызываемых мастурбацией», вышедшая в Лозанне в 1758 году. Книга Тиссо была не первой книгой на эту тему в XVIII веке: сомнительная честь первопроходца принадлежит безымянному англичанину, опубликовавшему в 1716 году труд под названием «Онания». В этом труде было впервые заявлено, что мастурбация — это особая болезнь со своей клинической картиной, но текст был подан в такой гротескной и в то же время расплывчатой форме, что, несмотря на успех среди коллекционеров эротики, научная публика не восприняла книгу всерьез. Тогда как книгу Тиссо оценили: он взялся объяснять с физиологической точки зрения, почему мастурбация приводит к безумию.
Тиссо утверждал, что мастурбация — это самый мощный сексуальный опыт, который человек может получить физиологическим путем, так как она заставляет кровь приливать в мозг интенсивнее, чем во время любого другого полового акта: «Усиленный приток крови объясняет, как эти излишества приводят к безумию. <…> Кровь расширяет нервы, истощает их, они теряют способность сопротивляться впечатлениям и впоследствии ослабевают». Учитывая тогдашние представления о связи между кровью и нервами, это казалось вполне логичным. Новым, шокирующим и, казалось, научно подтвержденным теорией Тиссо, было то, что удовольствие, которое человек может доставить себе сам, является эротически более сильным, чем удовольствие, которое он может получить от сношения с представителем противоположного пола. Любой, кого не сдерживают социальные ограничения и кто может наедине с собой следовать чистейшему диктату удовольствия, находится в опасности: он может полностью отдаться аутоэротизму и в конце концов сойти с ума.
Оспаривая клиническую картину, установленную Бухааве за полвека до, Тиссо приводит восемь причин того, почему мастурбация опаснее сексуальных излишеств с женщинами. Последняя и самая серьезная из этих причин — психологическая. Мастурбатора снедают «стыд и жуткие угрызения», неведомые Дон Жуану. Это внутреннее психологическое осознание своей проблемы посылает в мозг столько крови, что возникает настоящий потоп из нервных импульсов. Для современников Тиссо физиологическое объяснение имело решающее значение: описанный им шокирующий факт доказывал, что безудержным желанием душа может в буквальном смысле свести себя с ума. У Тиссо появляется представление о том, что человек способен сам свести себя с ума, и это внутренний процесс. Возникает полностью внутренняя система желания, осознания и разрушения. Тиссо очертил контуры ужасной замкнутой в себе внутренней эротической жизни — более страстной, более важной, более опасной, чем любая другая форма эротического опыта. Мы должны спасти человека от этого одиночества, — заключал он.
Важно, что к конкретному сексуальному феномену Тиссо применил кальвинистский пуританизм. Он провел различие между беспристрастным, научным отношением врача к другим половым расстройствам, как, например, чрезмерное потворство своим желаниям, и моральным отношением врача к мастурбации. Мастурбация — это «преступление», и «более справедливой» реакцией на него является «презрение окружающих, а не жалость с их стороны». Бурхаве стремился к созданию научного дискурса о сексуальности, свободного от христианской морали. Тиссо вернул эту мораль, но выборочно: только аутоэротизм заслуживает — если это правильное слово — христианского порицания.
Тиссо предложил три принципа аутоэротизма, которые оказали определяющее влияние на медицинские и педагогические воззрения конца XVIII и всего XIX века. Во-первых, сексуальность в одиночестве обладает мощной возбуждающей силой; во-вторых, аутоэротизм — это состояние, в котором человек максимально себя осознает; в-третьих, одновременно быть сексуально возбужденным и осознающим себя в одиночестве опасно: тело находится на пути к безумию, а душа — на пути к погибели.
Вооружившись тремя описанными положениями, они пытались понять сексуальность. Вместо того чтобы строить область знания, доступную медику, вокруг людей, занимающихся любовью вместе, они изолировали индивида и изучали его в отдельности, исходя из того, что именно в изоляции человек наиболее остро ощущает свою сексуальность. Так выразилось приложение к изучению секса индивидуализма XIX века, в основе которого лежал принцип рассмотрения человека как изолированного индивида.
На протяжении XIX века подход Тиссо к аутоэротизму стал методом постижения сексуальности вообще. Во-первых, в силу существовавших тогда представлений об аутоэротизме врачи и педагоги привыкли думать, что сексуальное желание существовало до сексуального влечения, и их можно было отделить друг от друга. Считалось, что желание обычно переживается как тайна. Несмотря на то, что желание всецело принадлежит телу, оно является чем-то предшествующим желанию кого-либо другого и достигает наивысшей силы тогда, когда держится в секрете. Такое сексуальное желание находится во владении индивида: влечение к другому человеку — скорее удовлетворение этого желания, чем его исток. Поскольку желание было скрыто внутри индивида, проблема для врача или наставника состояла в том, чтобы о нем узнать. Широко известны причудливые симптомы, которые викторианская медицина приписывала мастурбаторам: внезапный рост волос на ладонях мастурбирующей руки, распухание языка, расширение зрачков или, у женщин, резкое увеличение клитора. У викторианских медиков была причина для изобретения этих симптомов: поскольку сексуальное желание само по себе было тайным, скрытым внутри индивида, врач или другой облеченный авторитетом человек мог получить контроль над индивидом не иначе, как придумав симптомы, выдающие это желание. Крайним проявлением этой фантазии-изобретения стало описание женской мастурбации в тексте Тезе Пуйе 1876 года, в одном из первых примеров медицинской литературы на эту тему. Картину женской мастурбации составляют раздражительность, грубость по отношению к незнакомцам и лживость. Это неизменные признаки того, что женщина мастурбировала. Наконец, говорит Пуйе, «есть определенный аспект, je ne sais quoi[8], который легче распознать, чем выразить словами». Тиссо утверждал, что аутоэротизм вовлекает человека во внутренний, замкнутый мир. Ко времени Пуйе сексуальное желание как таковое стало рассматриваться как нечто замкнутое, сугубо приватное. Кто-то другой может получить власть над этим желанием, только обнаружив на теле признаки, выдающие его присутствие. Желание должно быть заметным, чтобы по отношению к нему могло осуществиться отношение власти.
Второй путь, который привел к тому, что аутоэротизм стал призмой для понимания эротики, касается связи между сексуальным желанием и воображением. Напомним, что Тиссо считал аутоэротический опыт самым мощным сексуальным опытом, который возможен у человека. В XIX веке это представление распространилось и на сексуальное воображение. Считалось, что в изоляции сексуальные желания человека становятся дикими. В одиночестве, пишет Клод-Франсуа Лаллеман в 1842 году, человек изобретает эротическую жизнь, которую мир никогда не сможет удовлетворить в достаточной мере. Врач должен подавлять огонь сексуального желания внешними репрессивными мерами. Кроме того, великим карателем желания является, согласно Лаллеману, супружеский секс. Цель этих внешних, социальных технологии контроля, — это противодействие влиянию воображения. Существует фундаментальный антагонизм между фантазией и социальным порядком.
Наконец, и это самое важное, урок аутоэротизма заключался в том, что сексуальность сама по себе может быть инструментом измерения человеческого характера. Хотя физиологические взгляды Тиссо в течение XIX века утратили влияние, установленная им связь между аутоэротизмом и моральным характером индивида стала еще сильнее. В одном популярном справочнике по половой гигиене для молодежи, вышедшем в 1917 году (это книга Роберта Уилсона «Воспитание молодежи в области половой гигиены»), говорилось: «Мальчик, который может смотреть отцу и матери в глаза прямо и с улыбкой, который может расправить плечи и глубоко дышать, который считает отца своим товарищем, а мать — своей лучшей подругой, не мастурбирует». Мальчик может с улыбкой смотреть родителям в глаза, потому что ему нечего скрывать: у него нет личной, приватной тайны о сексе. Именно такое представление становится наиболее влиятельным. Открытость, правдивость в общении с другими людьми всё теснее связывается с тем, как человек управляет своей сексуальностью. Это управление осложняется тем, что сексуальность стала восприниматься как мощное, центростремительное, замкнутое переживание желания. Таким образом, сложность заключается в том, чтобы говорить правду о сексе, которая становится запутанной, когда произносится правда о себе, которая в свою очередь сопротивляется обнаружению.
Августин полагал, что в центре определения сексуальности находится чувство, а не действие или социальное положение, как считал Артемидор. То же самое происходит и здесь.
Медицинские и христианские тексты были едины в том, что подлинной основой самопознания служит изучение того, что желает человек, а не того, что он делает.
В этом узле правдивости, сексуальности и личного самопознания заключено отношение власти. Узел завязан таким сложным образом, что для того, чтобы распутать его, человеку необходим внешний авторитет: христианин исповедуется священнику, мы идем к врачу. Викторианская медицина вернулась к христианским корням культуры не в своем стремлении к подавлению сексуальности, а в придании особой психологической важности познанию себя через совет и контроль другого, более осведомленного человека.
Этот анализ наследия Тиссо можно соотнести с вопросом об отличии, который я поднял в самом начале. Сексуальный опыт есть у каждого человека, но медицинские и педагогические теории прошлого века передали нам представление о том, что путь к постижению того, в чем состоит наше отличие, наша индивидуальность, проходит через понимание нашей сексуальности. Универсальное используется для определения частного. Однако в викторианском наследии есть элемент, который затемняет этот процесс: я имею в виду определение сексуальности в терминах желания, а не активности. «Каждый человек занимается любовью, — сказал один из испытуемых Крафт-Эбинга, — но каждый думает при этом о чем-то своем». Действительно, вывести из личных сексуальных желаний способность человека к верности, мужеству или правдивости с другими очень трудно, если вообще возможно. Само то, что сексуальные мысли, желания, фантазии должны рассматриваться как особо важные, принципиальные для определения всей личности индивида, окружает индивидуальное отличие ореолом таинственности. Привилегированный статус желания — это наследие христианства. И сегодня мы еще далеки от того, чтобы справляться с тем, что унаследовали.
[1] Жан-Антельм Брийя-Саварен (1755–1826) — юрист, философ, а также известнейший гурман и знаток кулинарии. Как депутат Генеральных штатов выступал в защиту смертной казни. Особенно знаменита его книга «Физиология вкуса, или Трансцендентальная кулинария». — Все примечания принадлежат переводчику.
[2] Бунтующий человек (франц.), понятие, появившееся после одноименного эссе Альбера Камю.
[3] Термин Э.Дюркгейма.
[4] Св. Франциск Сальский. Руководство к благочестивой жизни / пер. свт. Феофана Затворника. Брюссель: Жизнь с Богом, 1994. — Фуко приводит текст а английском переводе XVII века, а перевод Феофана Затворника выполнен двумя столетиями позже.
[5] Бл. Августин. Творения. Кн. 4. СПб.: Алетейя, 1998.
[6] «Гортензий, или О философии» — утраченное сочинение Цицерона, целью которого было побуждение к занятиям философией.
[8] Я не знаю, что (франц.); нечто неописуемое.
Перевод: Дана Смолякова