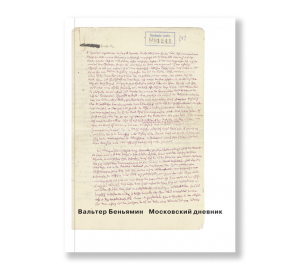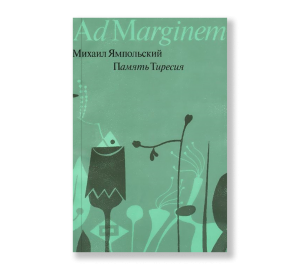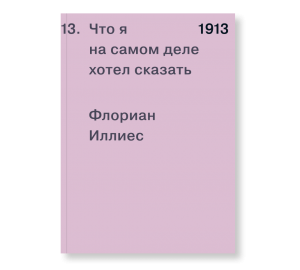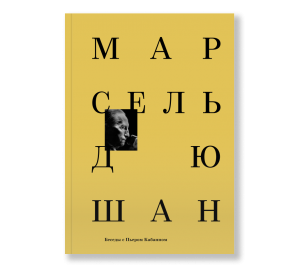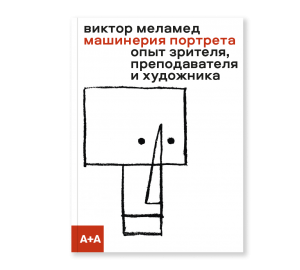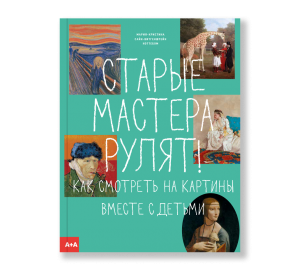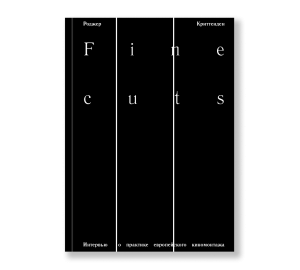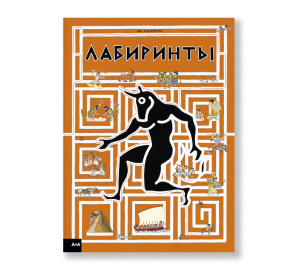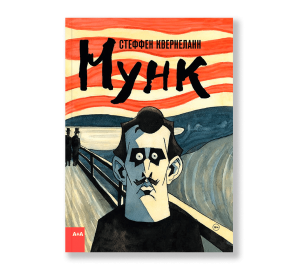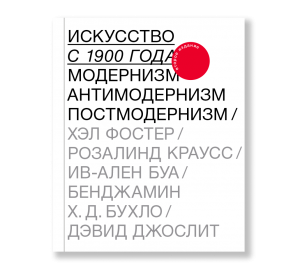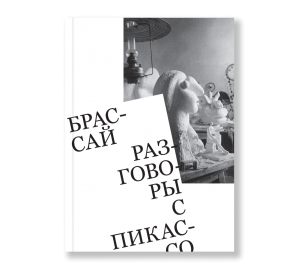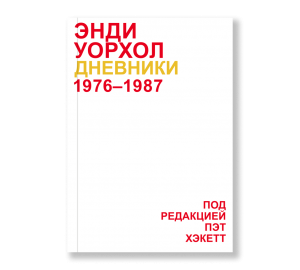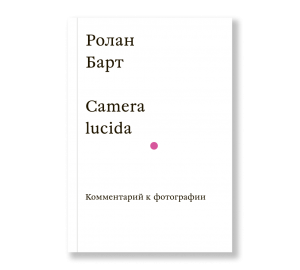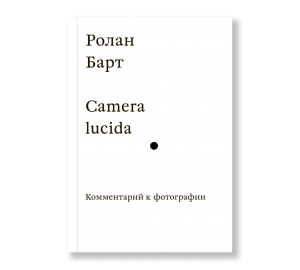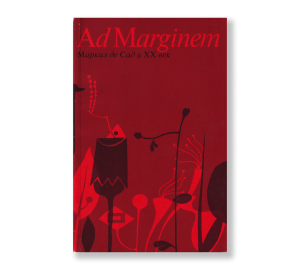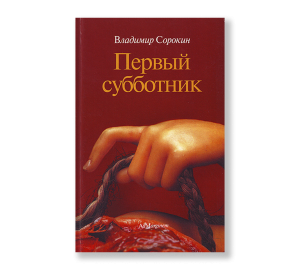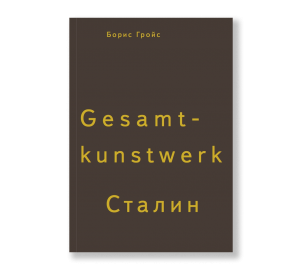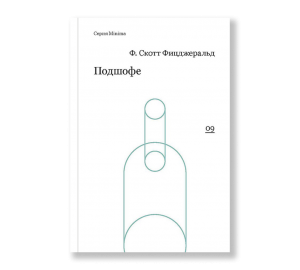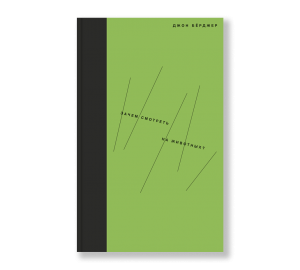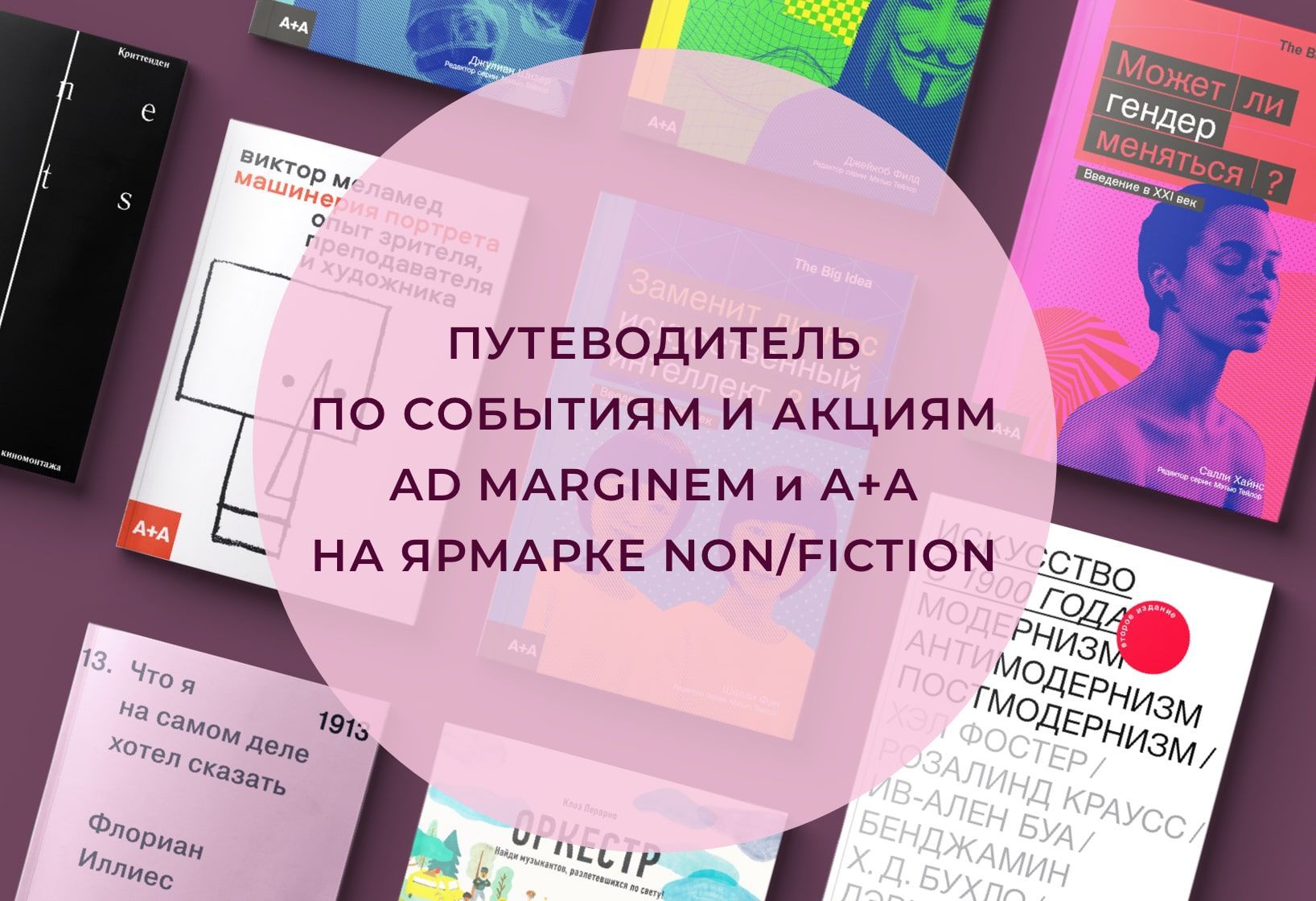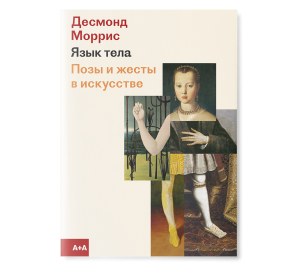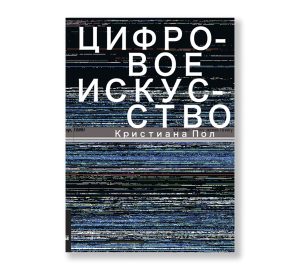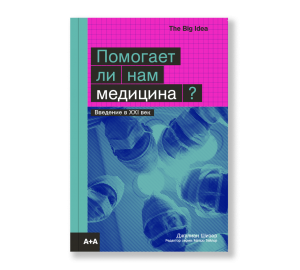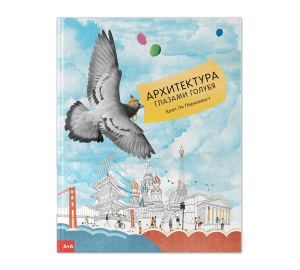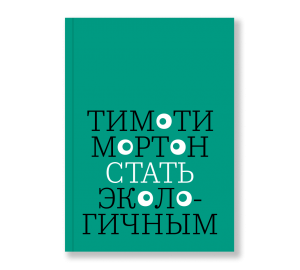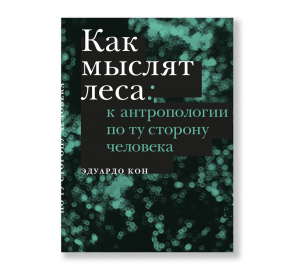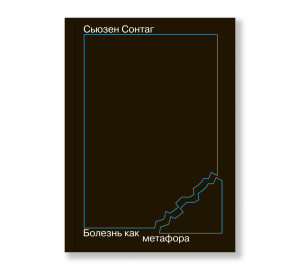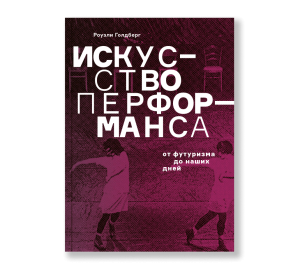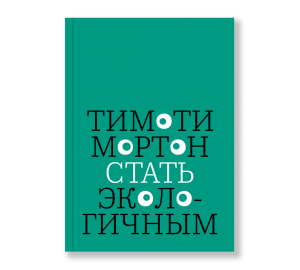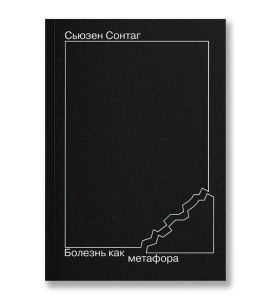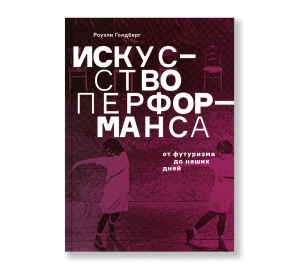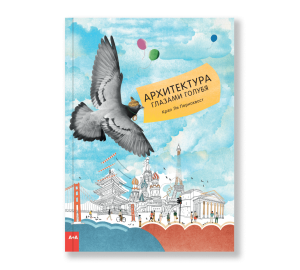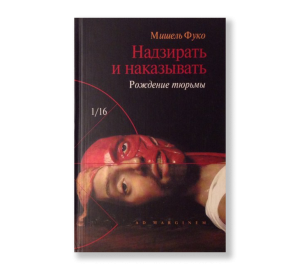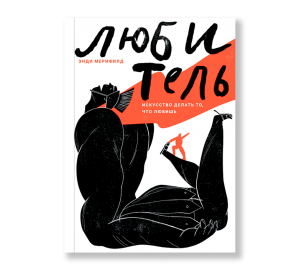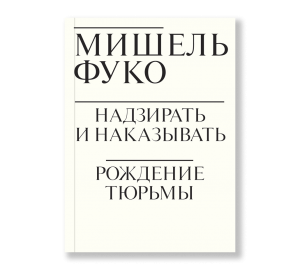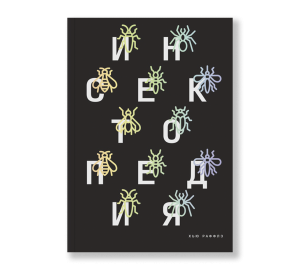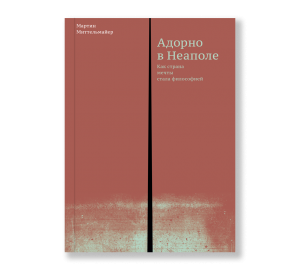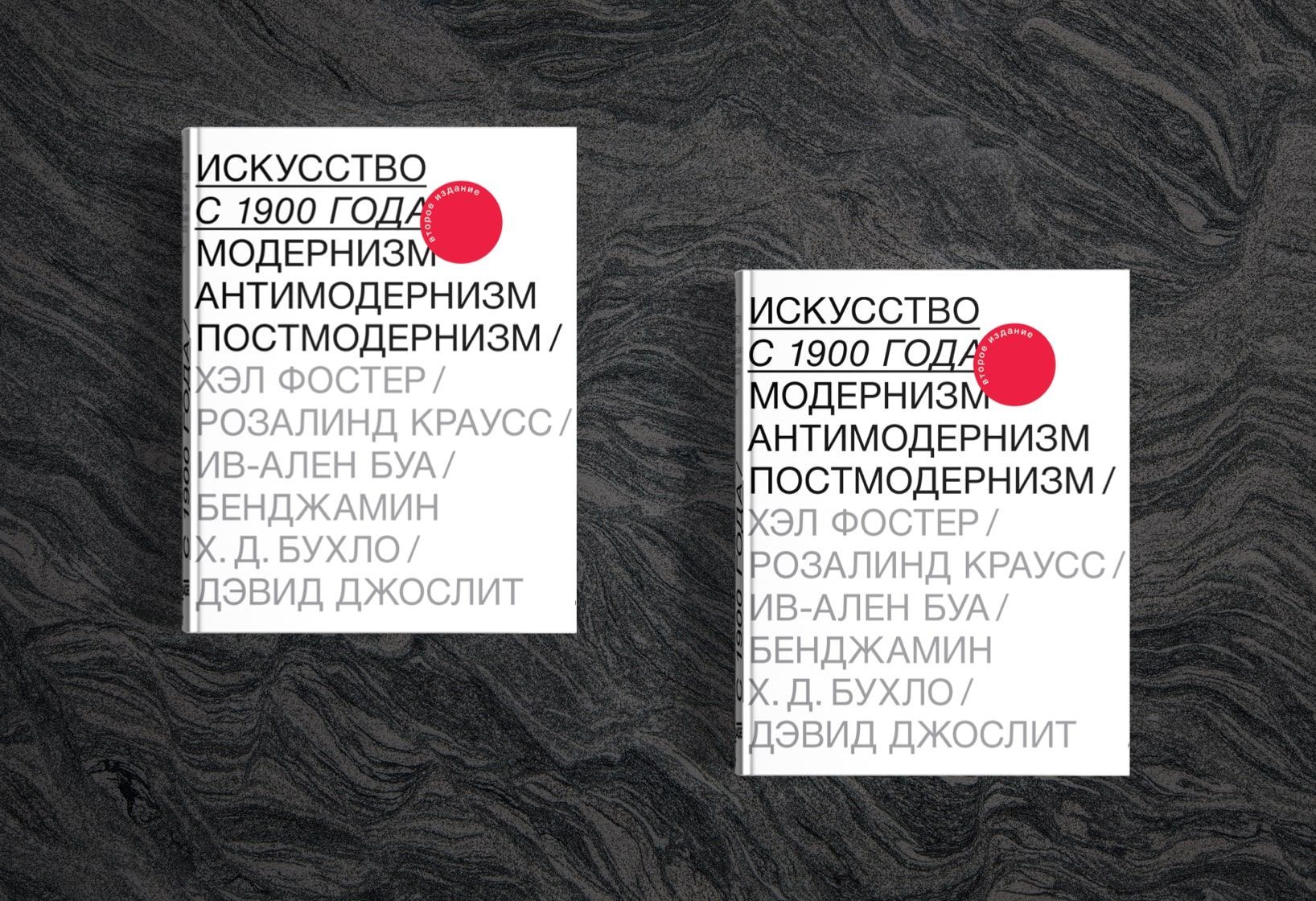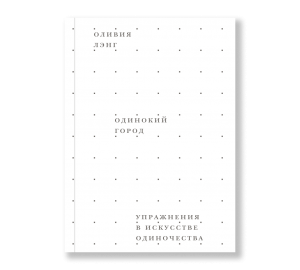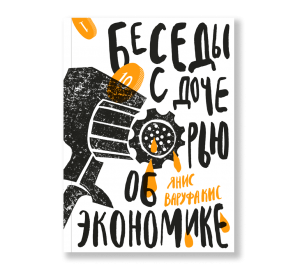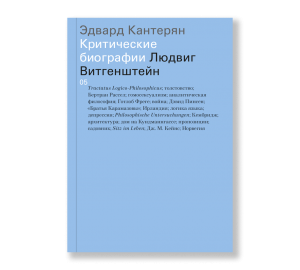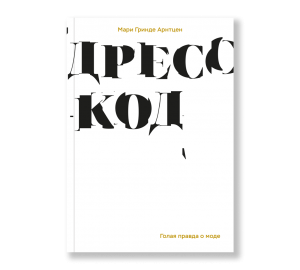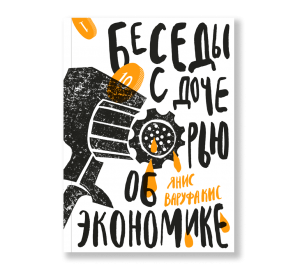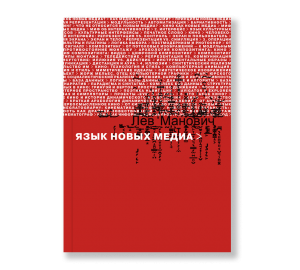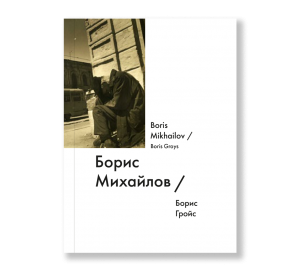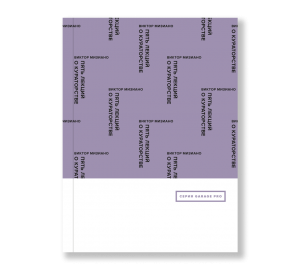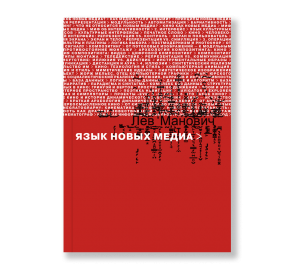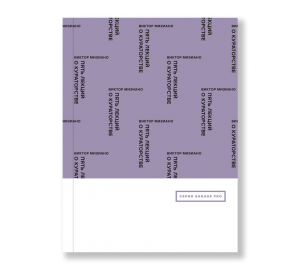Публикуем отрывок из дополненного издания книги «Искусство с 1900 года». Ведущие историки искусства и критики нашего времени уточнили и расширили свои первоначальные тексты.
Против пустого официального дискурса
Здесь нужно сказать несколько слов о московском концептуализме в целом. В каталоге знаменательной выставки «Тотальное просвещение: концептуальное искусство в Москве. 1960–1990» (2008) Екатерина Бобринская обозревает широкий спектр подпадающих под это понятие художественных практик: повествовательные аллегорические работы вроде альбомов Кабакова; живопись, обыгрывающая и перекодирующая официальные традиции социалистического реализма (Эрик Булатов, дуэт Виталия Комара [род. 1943] и Александра Меламида [род. 1945]); а также недооцененные «поездки за город» — акции в пустынных предместьях Москвы, проводившиеся группой «Коллективные действия». Явление, известное как московский концептуализм, начало складываться в конце шестидесятых годов в работах Кабакова и к середине следующего десятилетия стало важной тенденцией неофициального искусства СССР. В конце семидесятых центр влияния сместился на перформативные работы группы «Коллективные действия», и впоследствии проекты новых художников и групп развивали темы и стратегии, предложенные в рамках этих трех новаторских тенденций, расширяя сообщество независимого экспериментирования и диалога. За счет акцента на советской жизни и идеологии как своего рода «дискурсе» — наборе институциональных и идеологических установок и верований — московский концептуализм оставался живой и актуальной практикой вплоть до распада Советского Союза. Как пишет Борис Гройс, теоретик московского концептуализма с первых его шагов и куратор упоминавшейся выше выставки «Тотальное просвещение», «официальный дискурс о том, что такое искусство, играл определяющую роль во всех сферах советской культуры. Основной modus operandi московского концептуализма заключался в том, чтобы использовать, варьировать и анализировать этот официальный дискурс частным образом, иронически и профанически».
Мысль Гройса обнажает самую суть отличия между московским концептуализмом и концептуальным искусством в англо-американской традиции, сосредоточенным на том, что Бенджамин Бухло определил как эстетику администрирования, отсылающую к бюрократическим и/или техническим языкам (словарные определения у Джозефа Кошута; процедуры заполнения документов и регистрации в практике группы «Art & Language»; стратегии исследовательской документации у таких разных художников, как Ханна Дарбовен и Ханс Хааке). В то же время западный концептуализм тесно связан с провозглашенной критиком Люси Липпард «дематериализацией объекта искусства», которая проявляется в отказе от произведений в «традиционных» медиумах вроде живописи и скульптуры ради языковых предложений, которые могут исполняться или не исполняться (как в работах Лоренса Винера), или ради совершения и документации эфемерных действий (как в практике Эдриан Пайпер). Гройс вместе с рядом других критиков утверждает, что московские концептуалисты реагировали скорее на «публичный» язык советской идеологии, чем на технический язык бюрократического дискурса, одинаково свойственный как политическим, так и коммерческим формам администрации. В итоге в Москве возникли очень своеобразные концептуальные стратегии. Так, повествование и заочная характеристика персонажей в альбомах Кабакова резко разводят их с работами англо-американских концептуалистов, всячески избегавших рассказа, предпочитая ему «нейтральные» серийные процедуры определения, заполнения или составления документов. Вместе с тем за счет отсылок к детской педагогике — через придуманные советские «сказки» — и за счет введения в альбомы разных «голосов», варьирующихся по тональности от исповеди до анализа, но неизменно, как мы видели, сконцентрированных на образе «дематериализованного» советского государства как пустоты, Кабаков ломает господствующий язык советской власти, подобно тому как западные концептуалисты ломают господствующий язык власти бюрократической.
Если Кабаков анализировал подобный официальный дискурс, сочиняя пикантные истории из советской жизни, то Булатов, Комар и Меламид обращались к его формам более непосредственно — через отсылки к социалистическому реализму, который с середины тридцатых годов обладал статусом официально санкционированного советского искусства. Одна из самых известных картин Булатова, «Горизонт» (1971–1972), изображает пляж с купальщиками вдали, по направлению к которым слева на первом плане движется внушительная группа из пяти фигур в обычной городской одежде: они обращены к зрителю спинами, а их взгляды, судя по всему, устремлены к морю. Историк искусства Евгений Барабанов приводит в статье, написанной для каталога произведений Булатова, слова художника о том, что эти фигуры были взяты с открытки, которую он нашел на прибалтийском курорте. Как выразился Булатов, «это была большая удача, потому что как раз накануне я понял, что для этой картины мне нужны „правильные“ советские люди». Но эти «правильные» советские люди, шагающие к воде, словно к светлому будущему (если вспомнить расхожий троп советской риторики), оказываются визуально заблокированы: посередине картины, на месте ожидаемой линии горизонта, Булатов написал широкую красную горизонтальную ленту с двумя тонкими золотыми полосками по бокам, остановив воображаемое углубление зрителя в пейзаж вместе с уверенным маршем советских людей в будущее. То, что эта полоса изображает ленту ордена Ленина — высшей советской награды, вносит в ее функцию оптического заграждения иронически-политический аспект: решению идеологических задач, которые ставит перед собой советская культура, мешают ее же собственные бюрократические механизмы (печально известные своими непреодолимыми барьерами).
Живопись Булатова в целом характеризуется ощутимым двойным движением: с одной стороны, его картины вызывают желание войти в их воображаемое пространство, а с другой — запрещают вход с помощью различных оптических приемов, например плоских ярко-красных элементов, расположенных в духе супрематизма или позднего конструктивизма. В картине «Опасно» (1972–1973) тот же эффект достигается с помощью текста: лаконичное эмоциональное предупреждение «Опасно», скопированное с железнодорожного объявления, повторяется в композиции четырежды, образуя прямоугольную внутреннюю раму для идиллической сцены пикника на природе.
Булатовский намек на опасность в повседневном пространстве напоминает слова Кабакова о советском государстве как пустоте, сила которой всеохватна и непредсказуема, как погода. Участники пикника на картине Булатова не замечают угрозу, окружающую их в форме ровных ярко-красных букв, которые уходят в пространство, словно титры кинофильма. Это оптическое наложение выталкивает взгляд зрителя из манящей пасторали, оказываясь визуальной аллегорией вмешательства государства в жизнь людей. Ранние картины Комара и Меламида развивают другой аспект альбомов Кабакова: повествовательность и создание типологии советского человека. В «Двойном автопортрете» (1973) Комар и Меламид представили себя, сымитировав технику мозаики, в которой выполнены помпезные панно станций московского метро (и заодно оглянувшись на традицию византийского церковного убранства, перешедшую в русскую православную церковь). Но еще важнее то, что композиция «Двойного автопортрета» живо напоминает другую пару, широко распространенную в визуальной культуре Советского Союза, — легендарных вождей Владимира Ленина и Иосифа Сталина. В этой и других подобных работах Комар и Меламид намекают на то, что советский человек вынужден следовать заготовленным моделям жизни, и в то же время низводят героев советского пантеона с небес на землю с помощью жеста, в котором сразу узнается форма пародийной критики. Принято считать, что их творчество в СССР и США (после эмиграции в 1978 году через Израиль) воплощает в себе ироническую ностальгию по советскому «идеологическому китчу». Поэтому его связывают не только с московским концептуализмом, но и с соц-артом — смежным направлением, в котором многие видят аналог западного поп-арта, иронически обыгрывающий не потребительскую культуру, а визуальную культуру советской идеологической машины.
У Комара и Меламида, как и у Булатова, образ публичного пространства в живописи соцреализма — счастливые и уверенные в себе граждане за работой или во время досуга — предстает либо зловещим, либо фальшивым. Их картины, подобно изображению пустоты у Кабакова, вносят элемент сомнения и даже угрозы в окружающую обстановку и в распорядок повседневности. Группа «Коллективные действия», организованная в 1976 году Андреем Монастырским (род. 1949), буквализировала пустоту, выбирая «пустые» пейзажи в качестве среды для своих перформансов. Считанные зрители-участники персонально приглашались в «поездки за город», на пустынные поля, до которых нужно было добираться на электричке, чтобы стать свидетелями простых и в то же время многозначительных событий, которые затем интерпретировались и обсуждались присутствующими. По мнению Гройса, не столько непосредственный опыт, сколько именно документация была главной целью Монастырского в процессе организации этих «пустых» действий. В своей приверженности простоте происходящего и самым элементарным формам текстовой и фотографической документации акции «Коллективных действий» были, пожалуй, наиболее близким к формальным стратегиям англо-американского концептуального искусства явлением московского концептуализма. И все же политическое измерение деятельности группы — указание на пустоту там, где могло возникнуть гражданское общество, — полностью созвучно подходам Кабакова и Булатова. Вот как описывается в каталоге выставки «Пустые зоны: Андрей Монастырский и „Коллективные действия“» (2011) перформанс «Появление», прошедший 13 марта 1976 года:
Зрителям были разосланы приглашения на акцию «Появление». Когда приглашенные собрались (тридцать человек) и разместились на краю поля, через пять минут, с противоположной стороны, из леса, появились двое участников акции, пересекли поле, подошли к зрителям и вручили им справки («Документальное подтверждение»), удостоверяющие присутствие на «Появлении».
Одной из важнейших сторон искусства «Коллективных действий», особенно во взаимосвязи с современными ему проектами Кабакова и Булатова, следует признать способность группы вызывать перцептивную пустоту: ее акции-события происходили, по словам Монастырского, в «полосе неразличения», теряясь в силу своей незначительности («Появление» состоит лишь из пересечения поля) и в то же время не воспринимаясь как «означающие» что-то конкретное. Как заключает Гройс, цель «Коллективных действий» состояла именно в том, чтобы возбудить дискуссию по поводу того, что могло или не могло произойти в их акциях (а подобный сдвиг от эстетики объектов или даже действий к эстетике дискурса является одной из главных характеристик концептуального искусства во всем мире).
Особенно характерно это для последнего по времени заметного коллектива в московском концептуализме — для «Инспекции „Медицинская герменевтика“», основанной в 1987 году Павлом Пепперштейном (род. 1961), Сергеем Ануфриевым (род. 1964) и Юрием Лейдерманом (род. 1963). Как и «Коллективные действия», ориентированные на активную интерпретацию вместо создания объектов (и иногда применявшие критерии, типичные для советской оценочной системы), «Инспекция „Медицинская герменевтика“» инспектировала художественные мастерские или другие места собраний художников, стремясь осмыслить искусство как симптом или болезнь. Джексон рассказывает об одной акции, во время которой диагностике подверглась советская поп-культура: Пепперштейн «предлагал кому-нибудь из московских зрителей надеть стетоскоп и послушать „сердцебиение“ младенца, изображенного на пустой коробке из-под советского детского питания».
После распада СССР работы Кабакова, Булатова, Комара и Меламида (все эти художники сегодня живут в эмиграции) успешно вышли на международные художественные рынки. Особенно успешную глобальную карьеру построил Кабаков, ныне работающий совместно со своей женой Эмилией. По словам историка искусства Маргариты Тупицыной, «на Западе текстуальные параметры [московского концептуализма] <…> были в значительной степени утрачены, что привело к преимущественно визуальному восприятию советской культуры западными зрителями». И хотя это, безусловно, верно, одна из самобытных черт московского концептуализма — его связь с узким, тщательно оберегавшимся от вторжения со стороны кружком художников, которые активно обсуждали друг с другом особенности советской повседневной жизни и идеологии,— как ни парадоксально, приобрела долгое и возрастающее влияние за пределами Москвы. Несмотря на кажущуюся герметичность, это искусство о многом говорит, и благодаря тому, что ему удалось выработать сугубо локальную интерпретацию интернационального языка концептуального искусства, оно пошатнуло упрощенные представления о советском опыте, которые сформировались на Западе в рамках манихейской картины мира времен холодной войны.
Перевод — Ольга Гаврикова