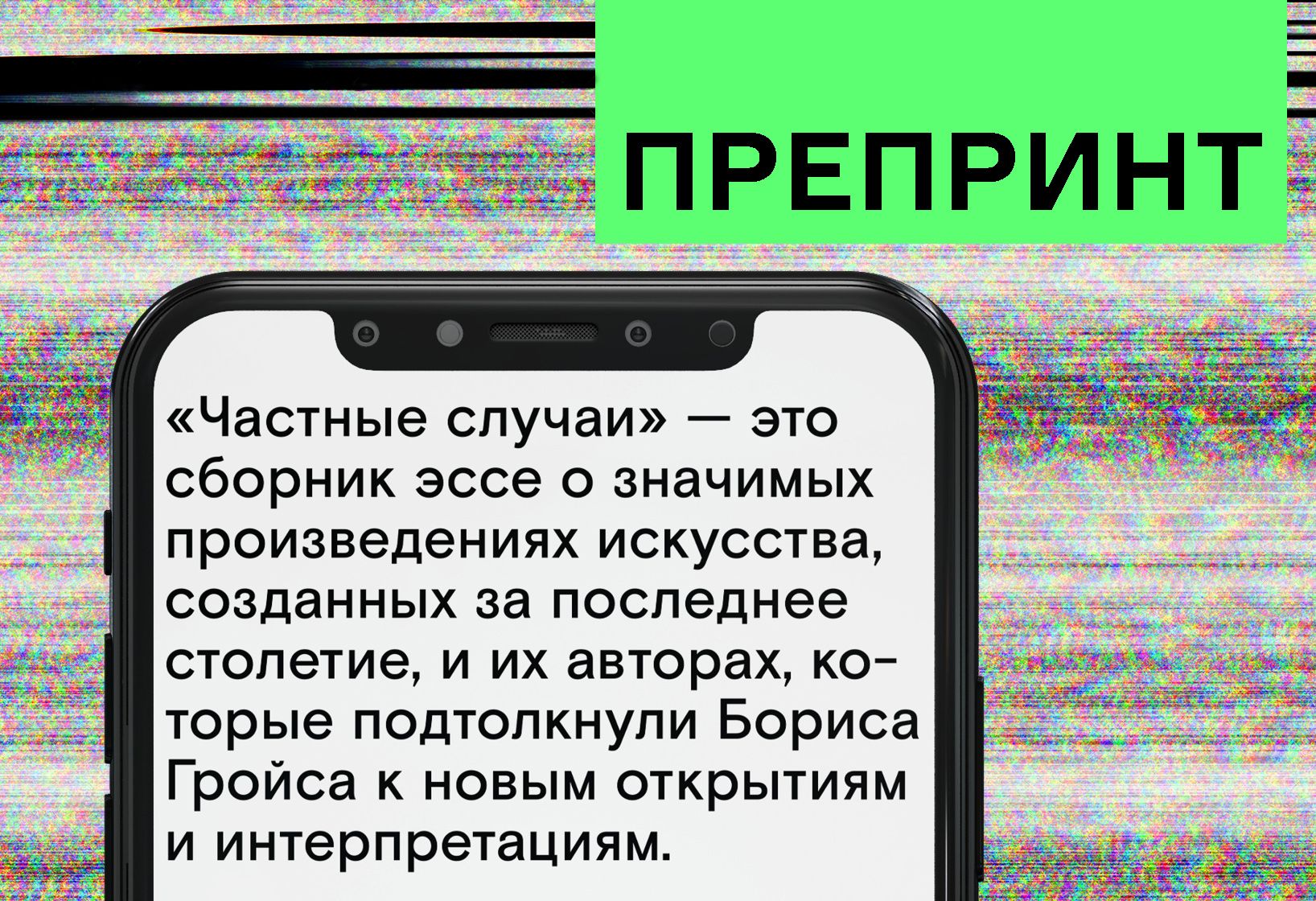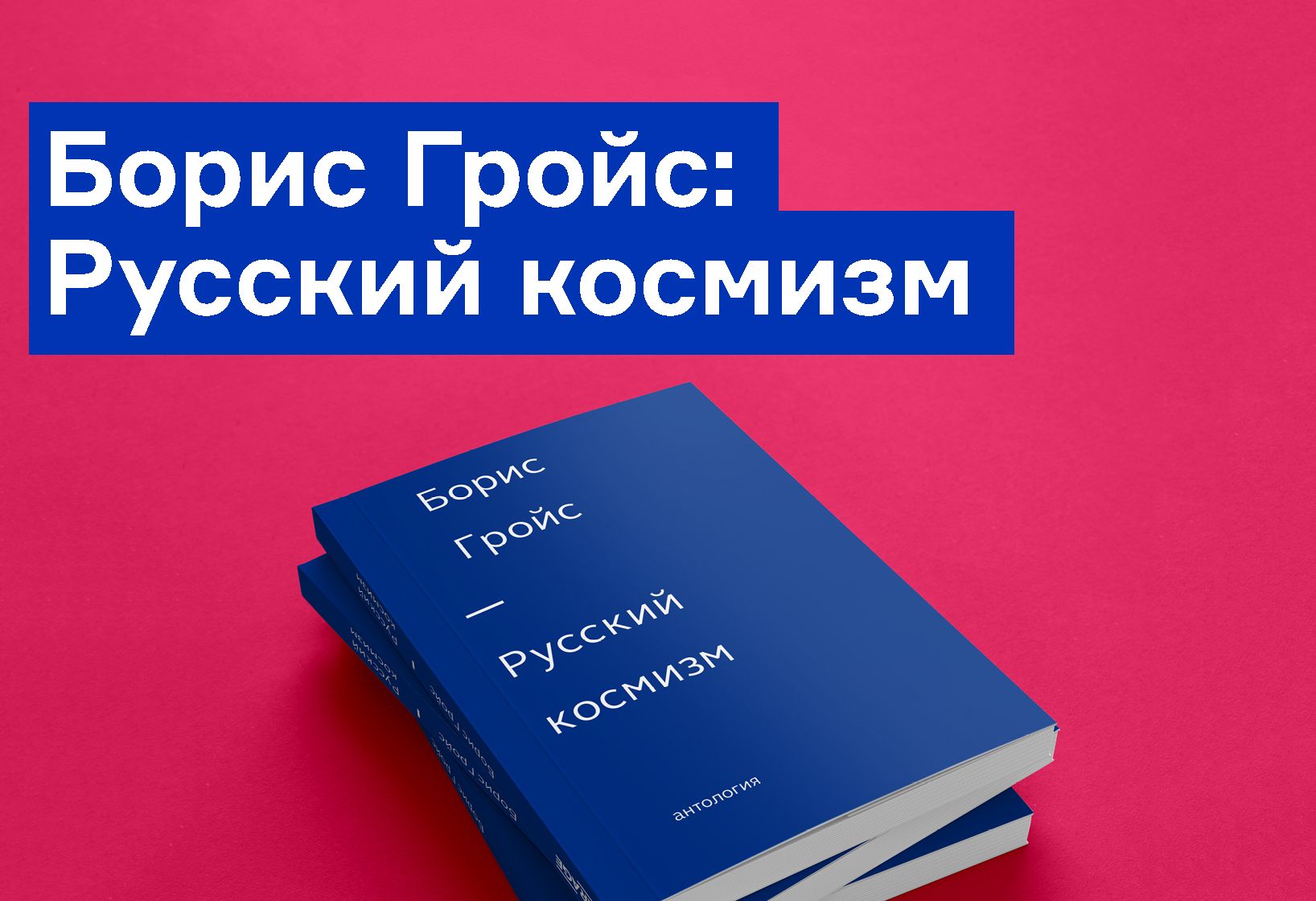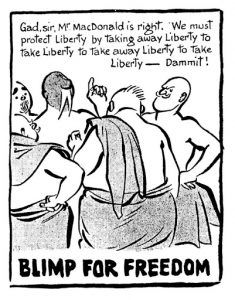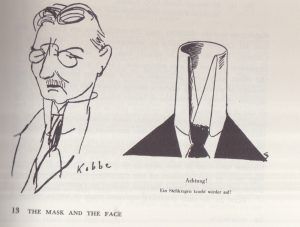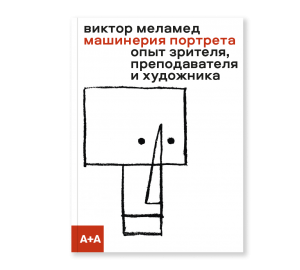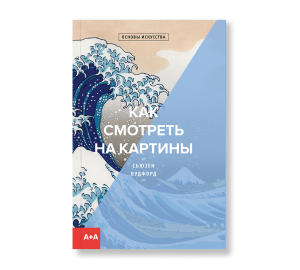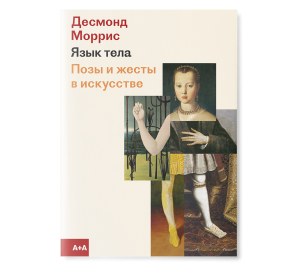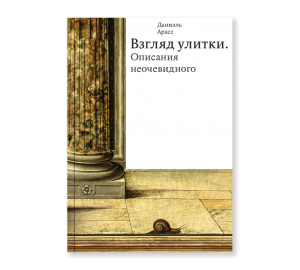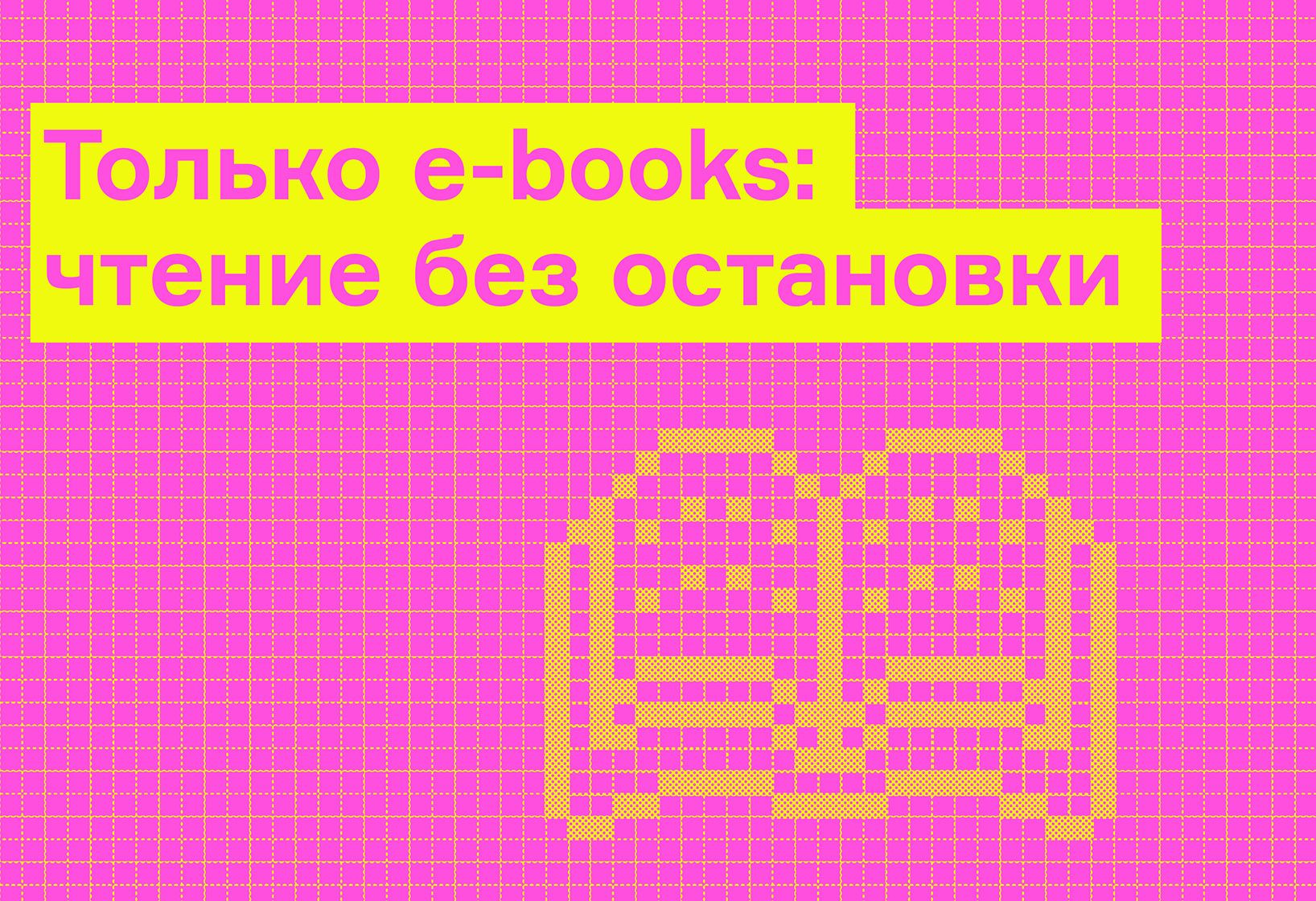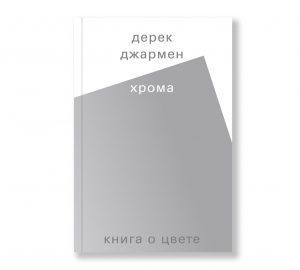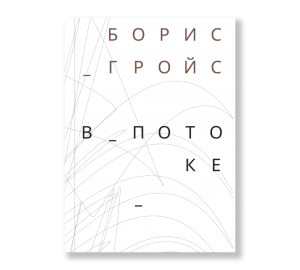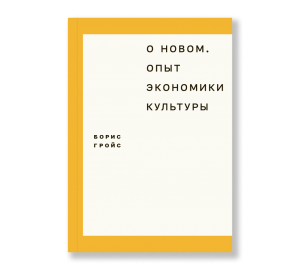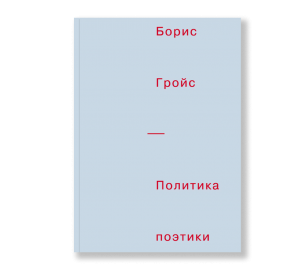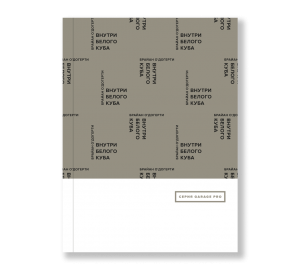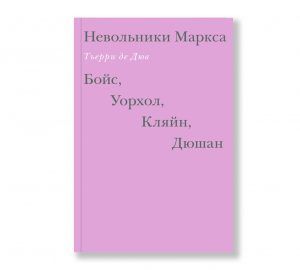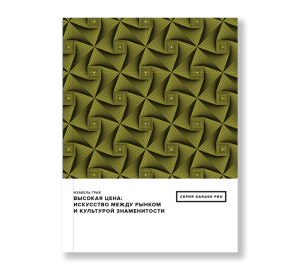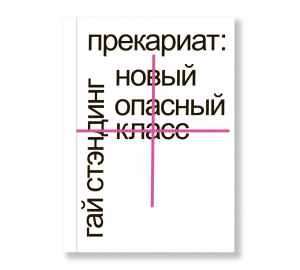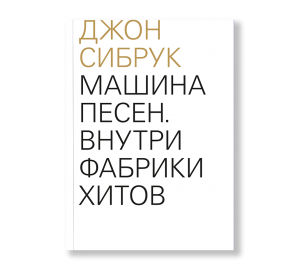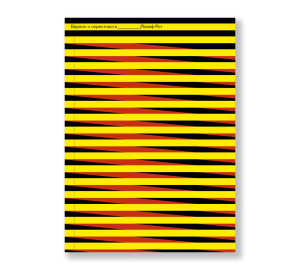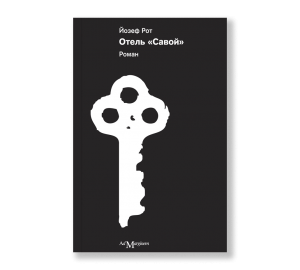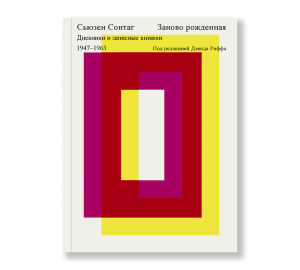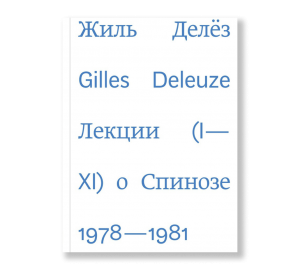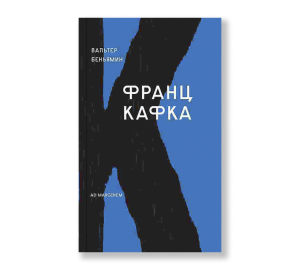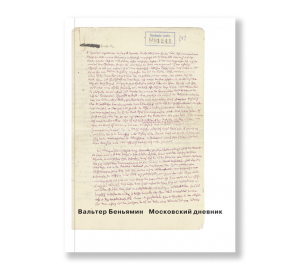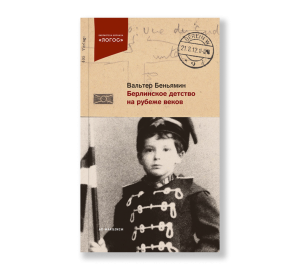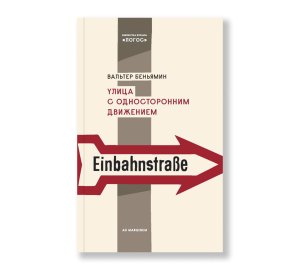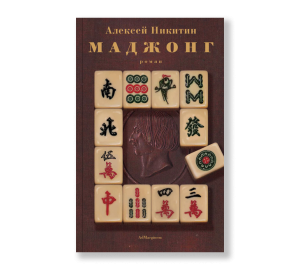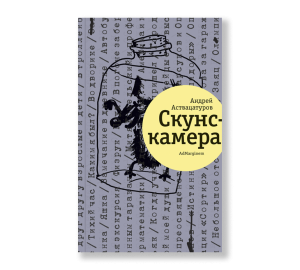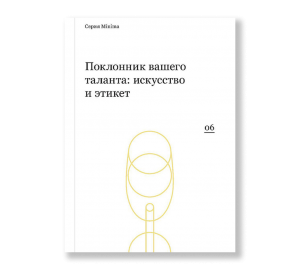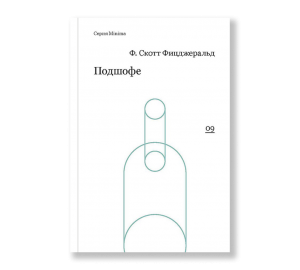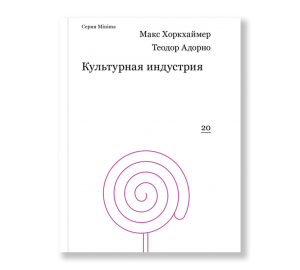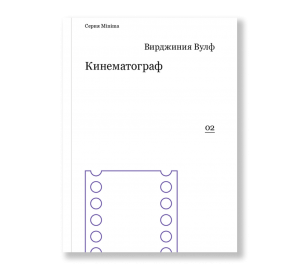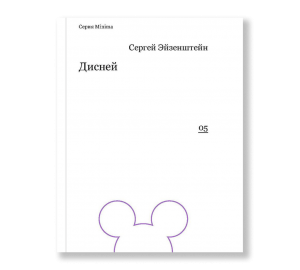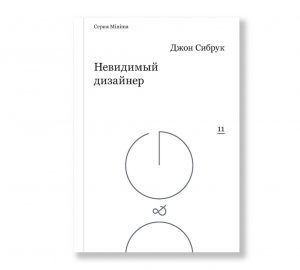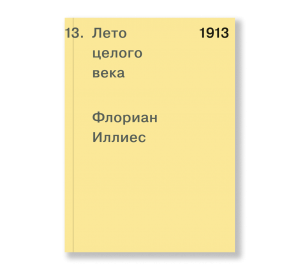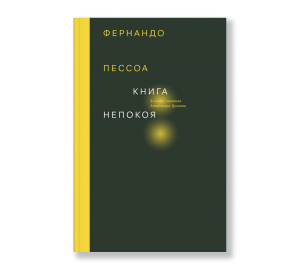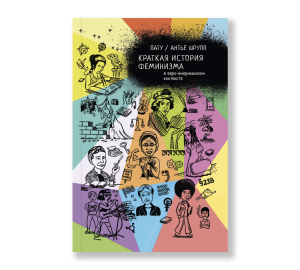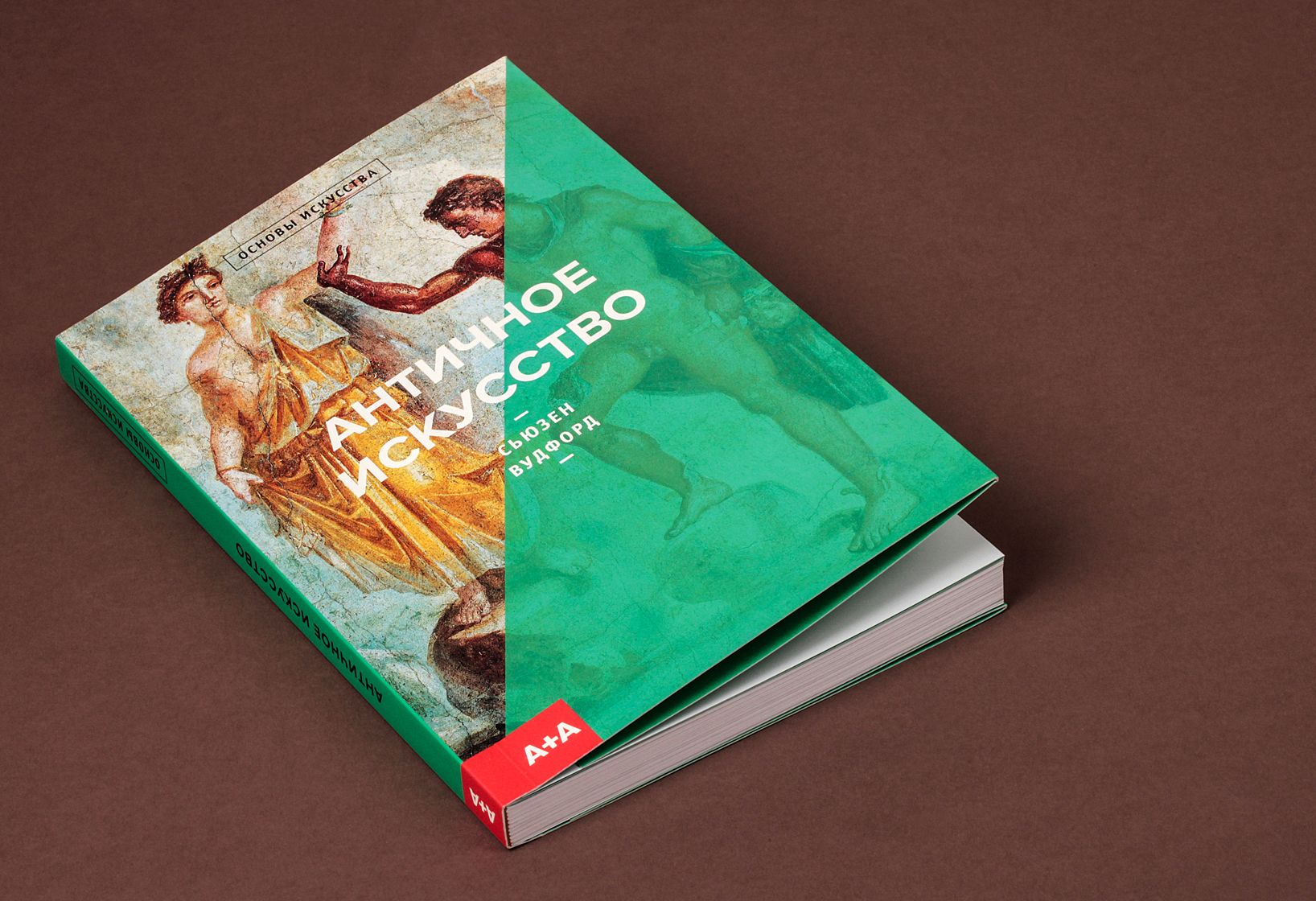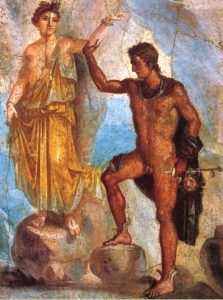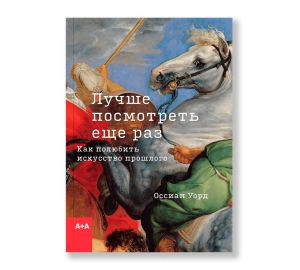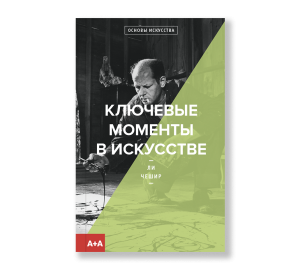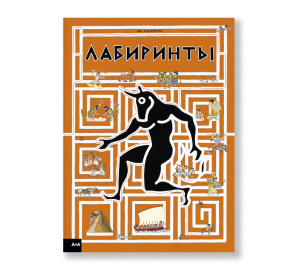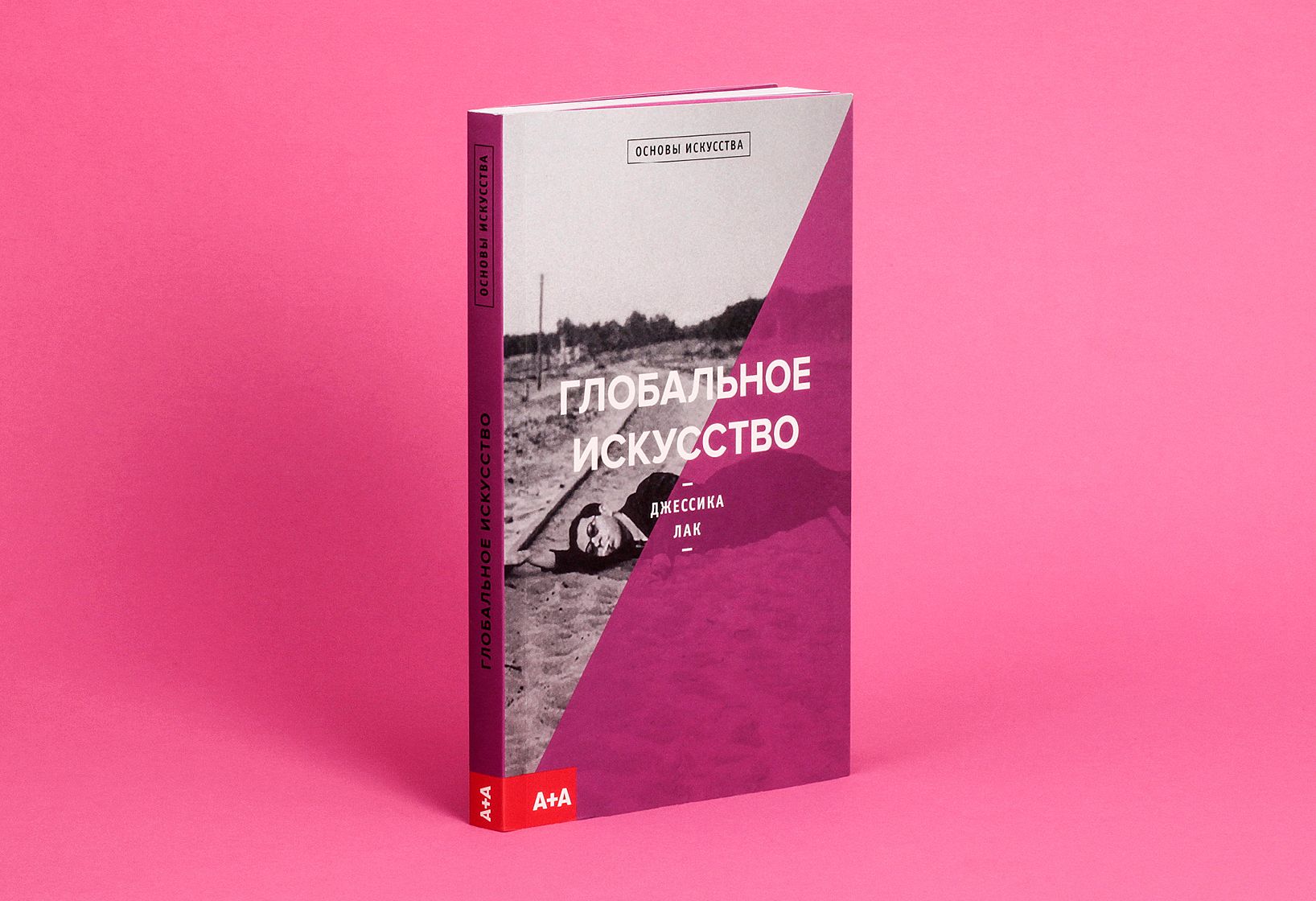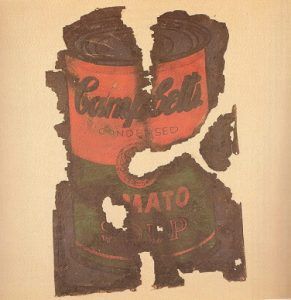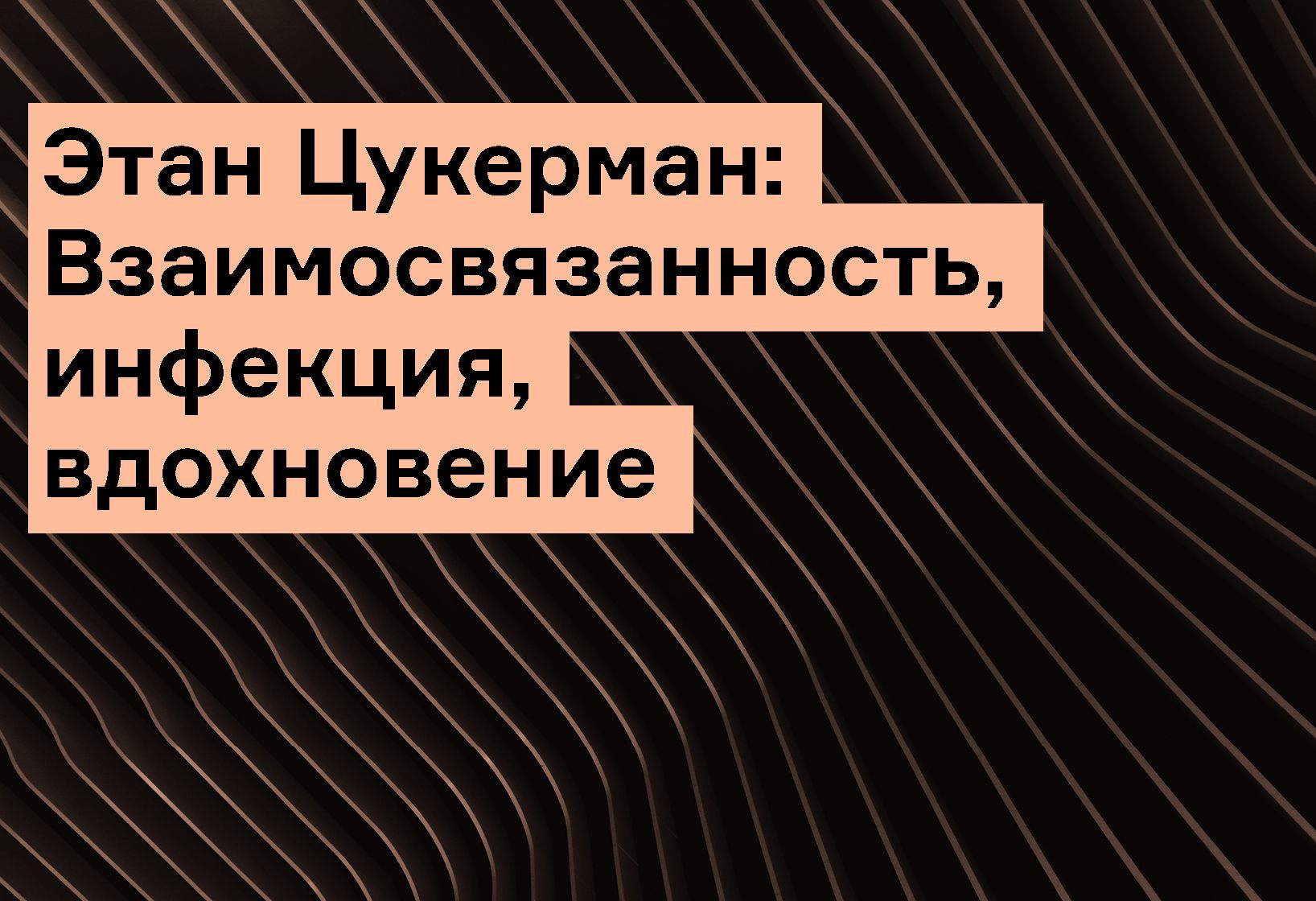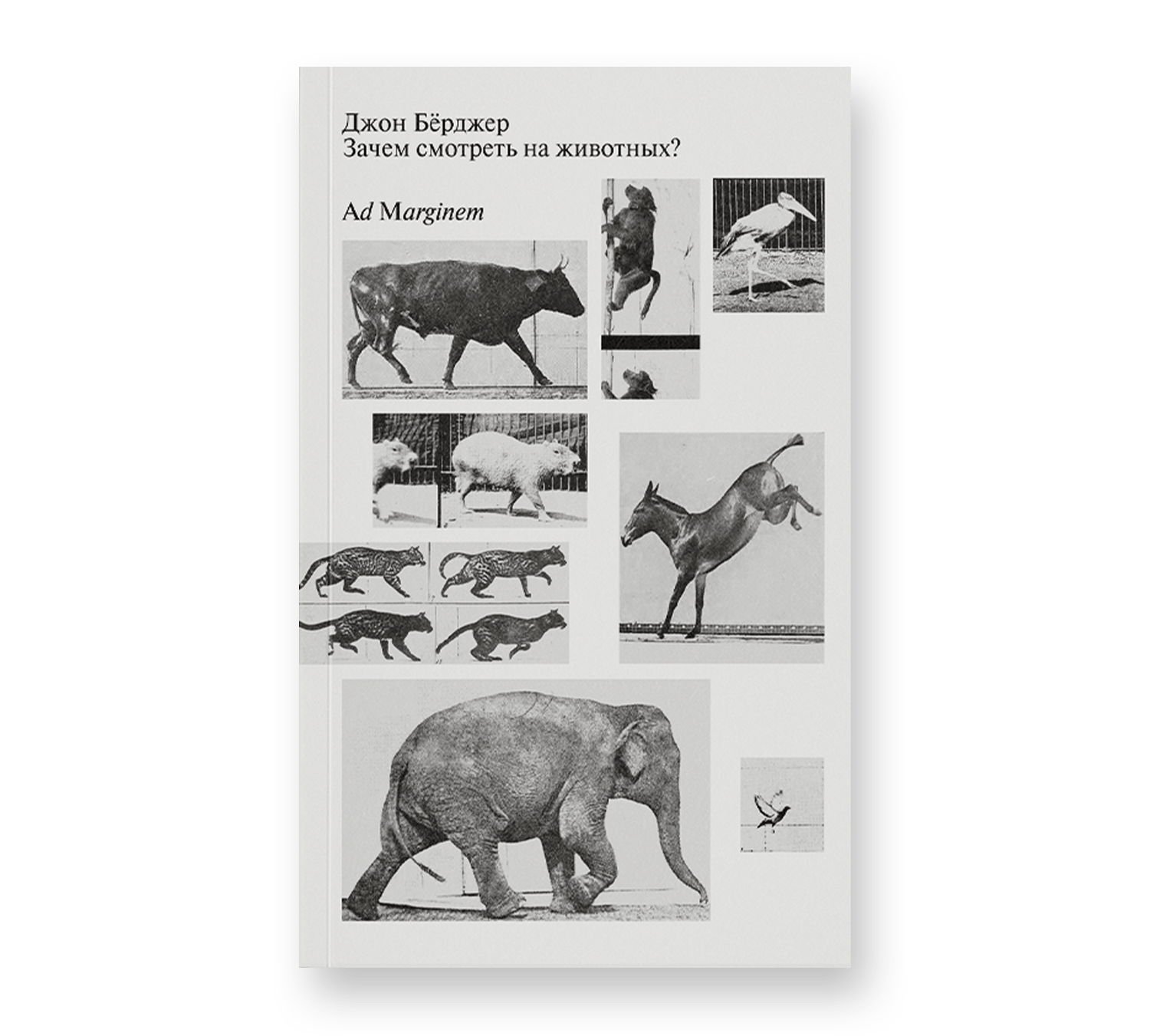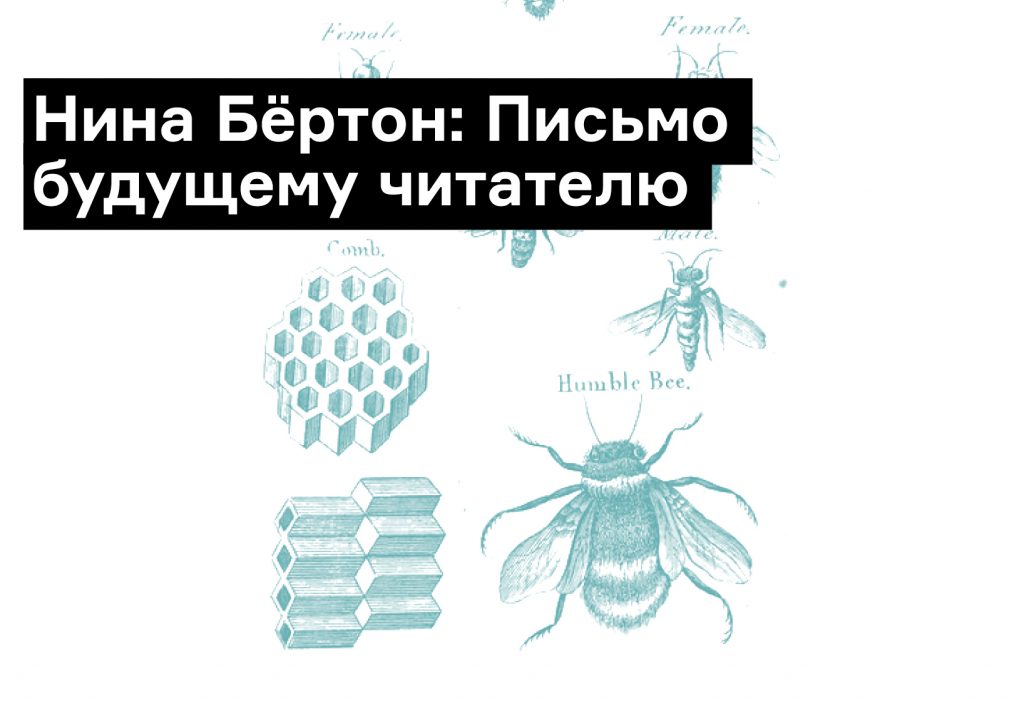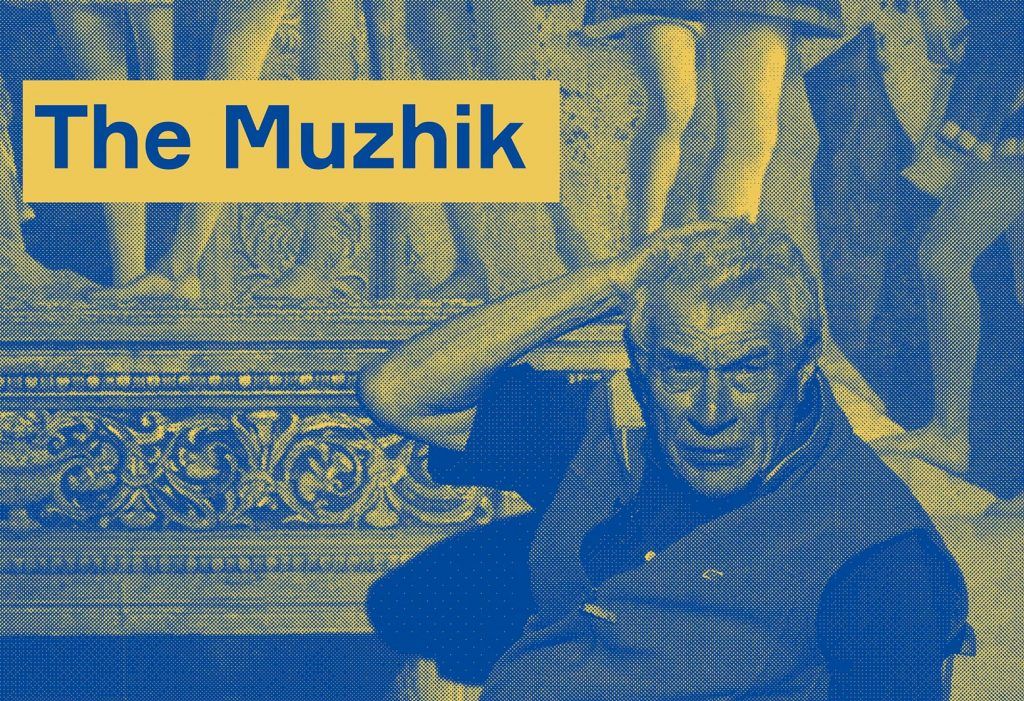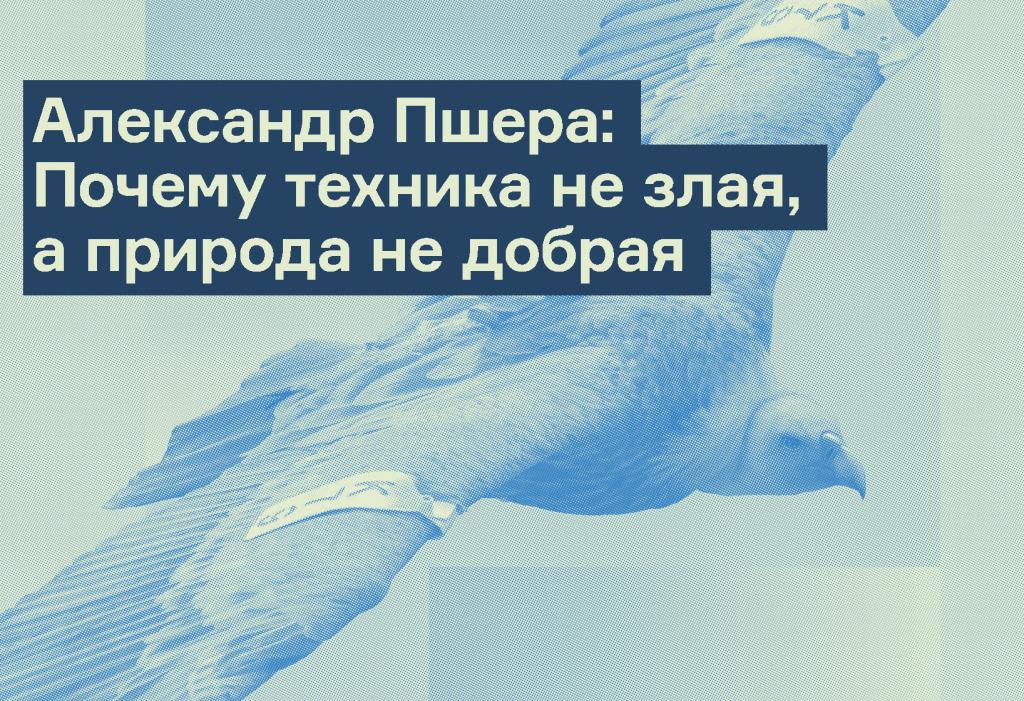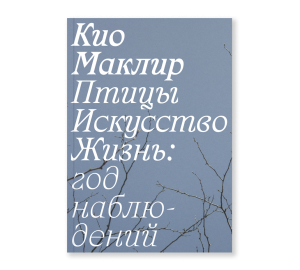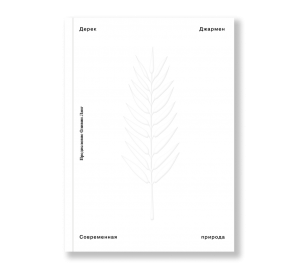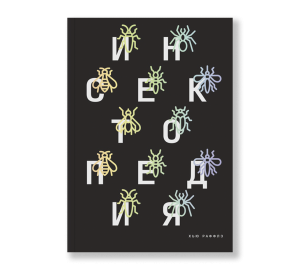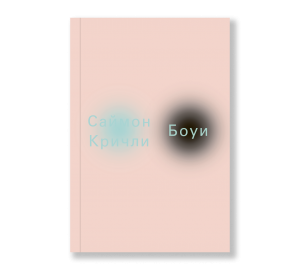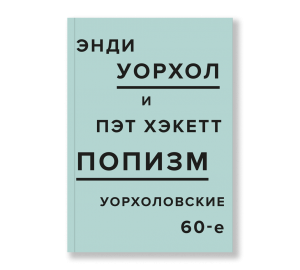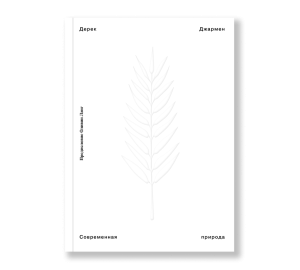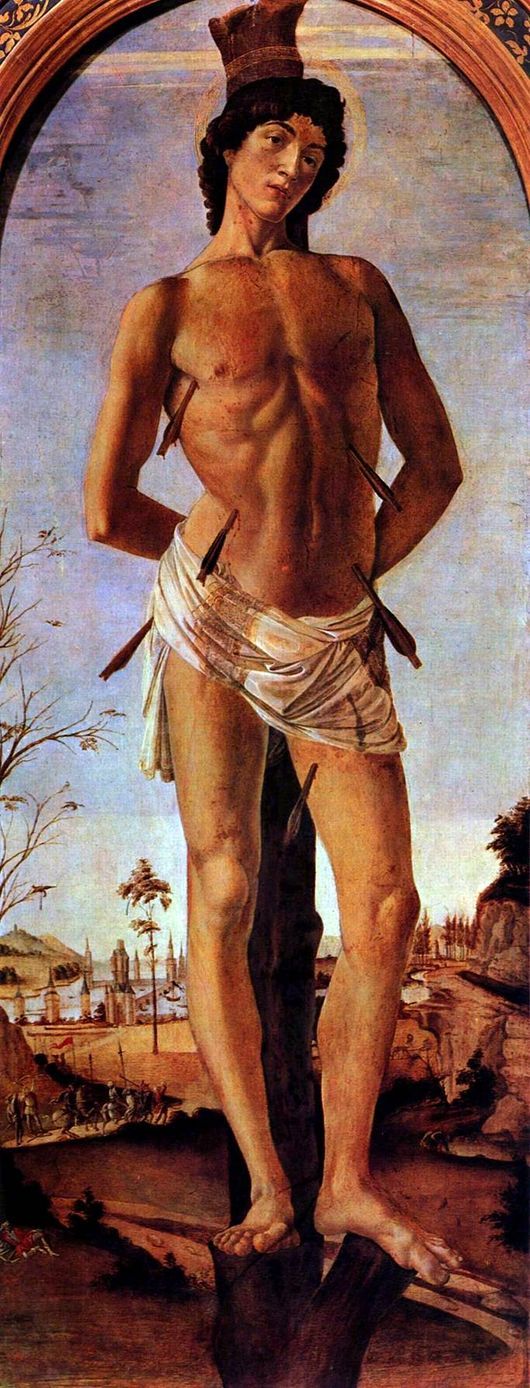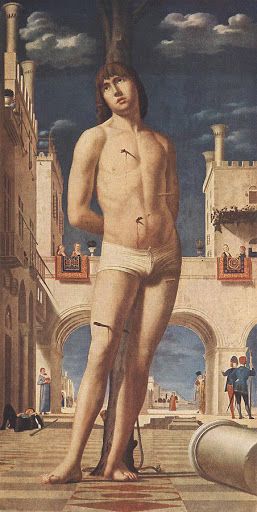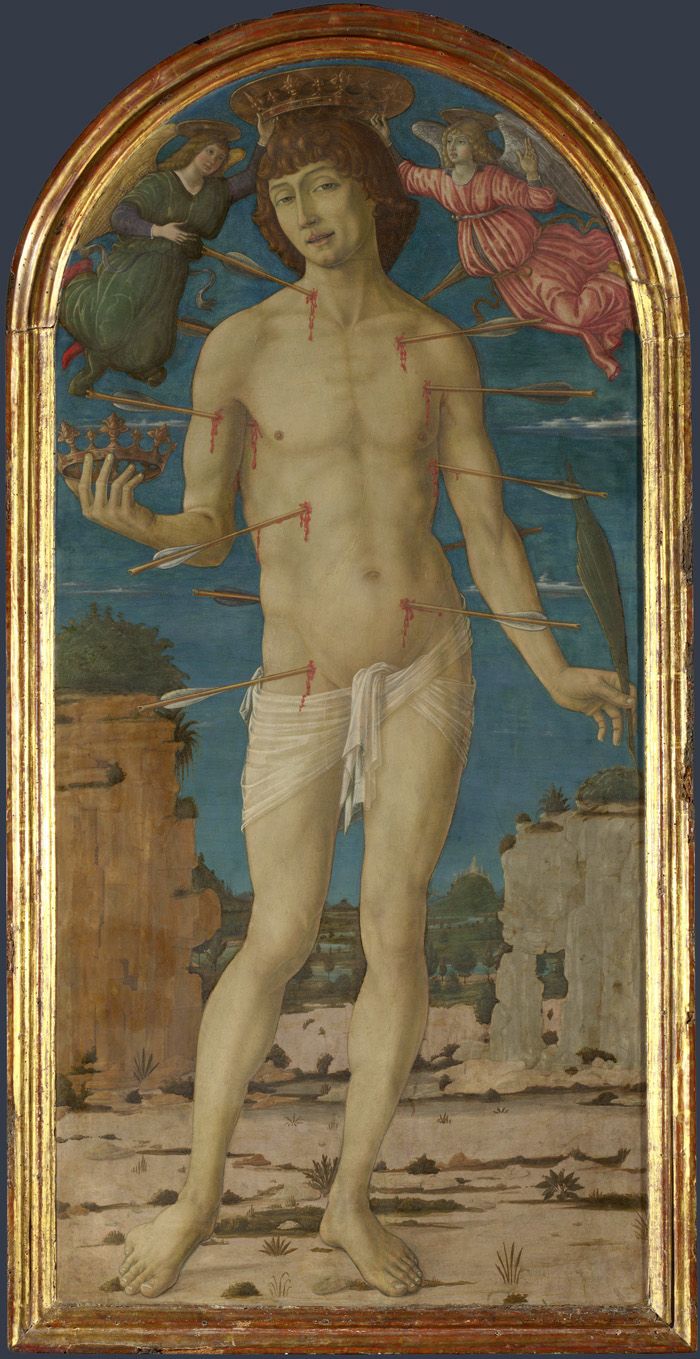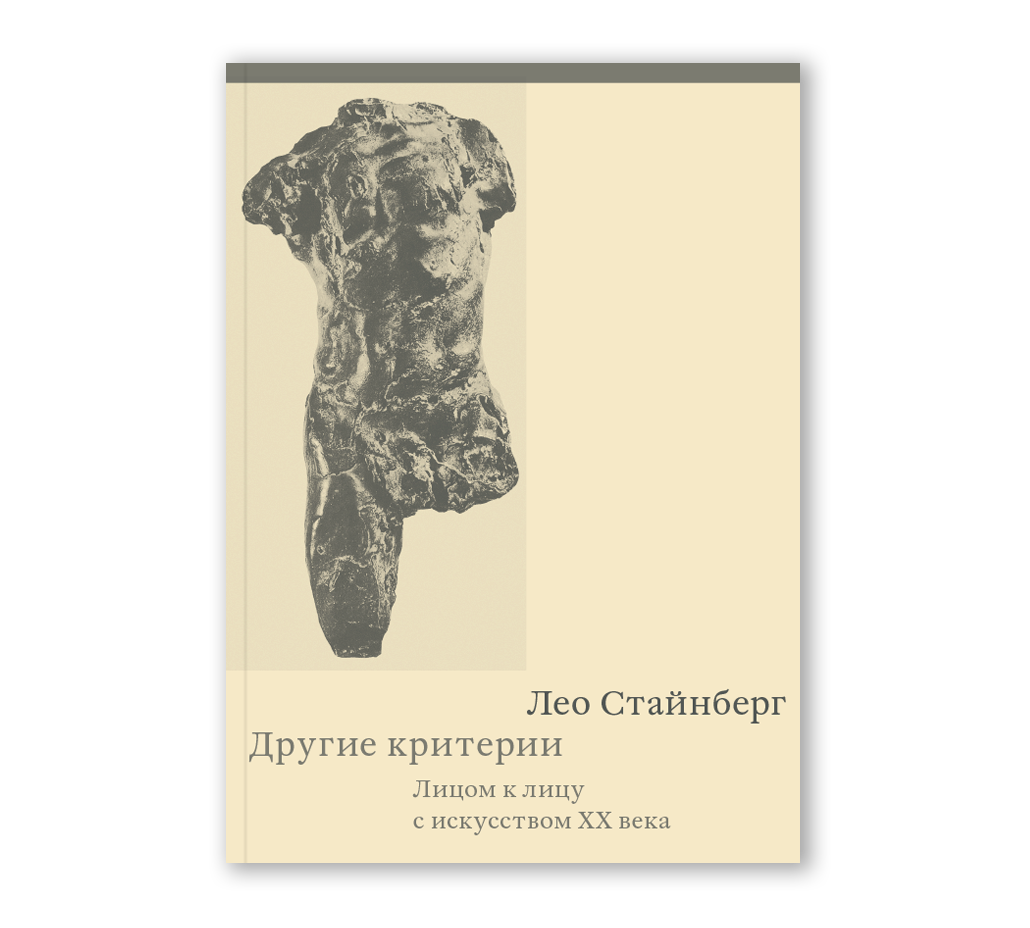Отрывок из антологии «Русский космизм», составленной искусствоведом и философом Борисом Гройсом.
Наше Солнце освещает более тысячи планет. В Млечном Пути не менее миллиарда таких солнечно-планетарных систем. В Эфирном Острове находят около миллиона млечных путей подобных нашему. Дальше астрономия пока нейдет. Там уже следует философия, которая принимает вселенную такой же бесконечной, как бесконечны пространство и время. Ограничиваясь действительностью, должны принять число планет мира в тысячу миллионов миллиардов, т. е. соответствующее число будет единица с 18 нулями (триллион).
Из тысячи планет каждой солнечной системы по крайне мере одна находится на благоприятном расстоянии от солнца, получает достаточно тепла, имеет атмосферу, океаны и обитаема. Таким образом, обитаемых планет будет не менее миллиона миллиардов, что изобразится единицею с 15 нулями (1000 биллионов). Если бы разделить эти обитаемые планеты поровну людям, то каждый получил бы более 500 000 обитаемых планет (вроде Земли).
Какова же судьба этих бесчисленных планет и их существ? Только по возможной судьбе Земли и человечества мы можем о том судить.
Человек недавно завладел атмосферой как средством сообщения. Оно еще в периоде развития, особенно в отношении газовых воздушных кораблей. Аэроплан достиг высоты 12 верст. Дальнейшие высоты будут достижимы, когда аэропланный двигатель заменится реактивным (ружейная иль пушечная отдача) и пассажирская кабинка будет замкнута, т. е. не будет выпускать газ (кислород) в разреженном воздухе или пустоте. В этом направлении идут и ожидаются теперь опыты. Нужно надеяться, что не только проникнут в стратосферу (выше 12 кило), но залетят за пределы атмосферы. Там снаряд будет держаться на определенном расстоянии от Земли, как маленькая луна. Центробежная сила, происходящая от скорости и кривизны пути, сделает снаряд постоянным в отношении его положения, как любое небесное тело. От него не потребуют уже расхода энергии, так как он будет двигаться в пустоте и движение это, по законам инерции, никогда не может потеряться или даже ослабеть. Отсюда (в лунной позиции) подобным снарядом откроется путь в эфир, в межпланетную среду и даже за ее пределы. Человек приобретет полную солнечную энергию, которая в два миллиарда раз больше той, которую он сейчас получает на Земле.
Понемногу человек создаст жилища в эфире. Они окружат Солнце и богатство людей увеличится в миллиарды раз. Все это так, но нельзя совсем покинуть Землю. Во-первых, она его колыбель, во-вторых, на пустынной Земле размножатся несознательные существа, которые из нее сделают жилище мук. И теперь мы видим ад не только среди животных, но и среди большинства людей.
И Землю и другие планеты придется привести к порядку, чтобы они не были источником мучения для атомов, живущих в несовершенных существах. Кроме того, Земля необходима, как опора, как базис для распространения и упрочения могущества человека в солнечной системе и на ее планетах.
Вот почему мы займемся судьбою Земли и ее населения. Ее будущая судьба есть и судьба вселенной, уже давно исполнившаяся, так как времени для этого было достаточно. Между людьми не много детей секундного возраста (только один такой младенец на всем земном шаре). Так и планет возраста Земли не много. Одна на миллиард или еще меньше. Так что почти вся вселенная погружена в совершенство, которого мы ожидаем и для Земли. Вот и поговорим о том, чего можно ожидать от Земли. Но всего мы представить себе не можем. Планеты иных солнечных систем наверно дали гораздо больше.
В настоящее время Земля есть пустыня. На человека приходится 51 десятина суши и воды. Одной суши будет 13 десятин. Из них не менее 4 десятин приходится на райский климат без зимы с чудесной плодородной почвой. Тут не надобно ни обуви, ни одежды, ни дорогих жилищ, ни труда для пропитания. Одно горе: сырость, заразные бактерии, вредные насекомые, такие же животные и враждебная могучая растительность.
С этим, в одиночку, не в силах бороться житель стран с умеренным климатом. Туземцу же помогает все это переносить его приспособившееся к тому тело. Но он не умеет пользоваться данным ему раем и ведет жалкую нищенскую жизнь.
В тропических странах, для прокормления человека, довольно сотни квадратных метров почвы. Засаженная бананами, корнеплодными, хлебными деревьями, кокосовыми и финиковыми пальмами, или другими растениями, эта маленькая земелька (ар) вполне достаточна для сытой жизни одного человека.
Вот почему я называю Землю пустынной: дают 4 десятины, или 400 аров плодородной тропической почвы на человека, а ему много и одного ара (основание квадратного 5 саженного дома). Как же Земля не пустынна, если почвы в 400 раз больше, чем нужно.
Только тогда, когда население Земли увеличится в тысячу раз, человек сделается хозяином почвы, океана, воздуха, погоды, растений и самого себя.
Следовательно, разум нам указывает, что на первом плане должно быть размножение и одновременное завоевание плодородных и беспечальных тропических земель.
Это не легкое дело и требует дружно борьбы всего человечества с природой. На очереди должны стоять лучшие земли Южной Америки и центральной Африки.
Земля должна быть объявлена общим достоянием. И не должно быть человека, который бы не имел на нее права.
Но что он сделает один со своими 4 десятинами роскошной земли? Они поглотят его силой тропической природы.
Лихорадка, насекомые, ливни, бури, ядовитые змеи, растительность и проч. — все это не даст просуществовать ему и года. Что толку в изобилии, когда оно враждебно своими атрибутами.
Для борьбы с экваториальными стихиями нужна многомиллионная добровольная армия и все средства техники. Тогда человек будет жив, здоров и счастлив на своем ничтожном аре. Тогда он может и размножиться, заполняя Землю и распространяя свое господство на ней.
Фронт трудовой армии должен начать свои действия с самого берега океана и иметь длину в несколько тысяч верст. Но допустим только одну тысячу. Тогда понадобится, например, 10 миллионов человек, при ширине фронта в 10 метров и при расстоянии воинов на один метр друг от друга. (10 миллионов составляют менее 1% всего населения Земли).
Что же должны делать эти солдаты и какое оружие иметь?
Движение их должно идти между двумя большими реками, которые будут до некоторой степени ограждать работающих от враждебных сил растительности и животных.
Первая полоса, в 10 м ширины, должна быть очищена без ограждения сеткой. После этого весь работающий фронт покрывается частой металлической сеткой, не пропускающей насекомых, змей, зверей и предохраняющей таким образом работников от болезней и вредителей. Сетка имеет вид длинного колпака, или ящика, кое где перегороженного такими же сетками. Удобнее будут отдельные колпаки, составляющие в общем одну линию фронта. Длина его 1000 кило, ширина и высота колпака по 10 метров. Основа этого ящика, т. е. клетка прочная, металлическая, гибкая —
передвигается по мере надобности на колесах вместе с находящимися в ней людьми. Дна нет, люди стоят на почве, но могут через двери выходить наружу за пределы сетки. Это своего рода водолазный колокол или кессон. Затем площадь под сеткой обрабатывается и засаживается подходящими культурными растениями.
Потом опять перед сеткой, на расстоянии нескольких десятков метров, они уничтожают до тла всю растительную и животную жизнь и передвигают на это чистое место свои клетки. Тут почва засаживается чистой культурой самых выгодных для человека растений, свойственных климату. После этого воины выходят из клетки и уничтожают органическую жизнь следующей полосы почвы. Тогда же передвигают на чистое место свою подвижную клетку и внутри ее занимаются прежней работой, т. е. засаживают пространство внутри ее наиболее культурными и плодовитыми растениями. При каждом шаге рабочей клетки вперед, задняя свободная полоса почвы, уже засеянная и засаженная, покрывается тотчас же неподвижной клеткой более упрощенного строения, так как ей передвигаться нет надобности. Размеры ее те же, как и подвижной. Обработанная полоса почвы представит готовое и безопасное жилище для ста тысяч поселенцев и безопасное жилище для ста тысяч поселенцев-земледельцев. На каждого придется один ар почвы. Фрукты и корнеплодные с избытком их прокормят.
Дорого ли обойдется это закрытое сеткой жилье с вечной кормилицей Землей. На человека придется, пренебрегая редкими перегородками, 300 кв. метров сетки. Даже вместо с легким каркасом это будет стоить пустяки. Но она не должна ржаветь и потому должна быть покрыта не окисляющимся составом или никелирована.
Как же будут развиваться растения под этой сеткой, несколько задерживающей солнечные лучи? При тонкой никелевой проволоке потолка (100 кв. м.), может поглощаться не более 25% солнечной энергии и растения незаметно в этом потеряют. Главное ведь не в этом, а в удобрении, влажности и атмосфере.
Итак, подвижной колпак будет подвигаться и освобождать, примерно, каждый день земли на 100 тысяч человек. Это возможно, так как на каждый кв. метр культивируемой земли придется (в день) по одному работнику с возможно хорошими средствами истребления и восстановления.
В течение года должны подготовить почвы на 40 миллионов человек. На самом деле гораздо больше. Неужели работник, снабженный самыми совершенными орудиями, может обработать и засадить в день только кв. м. почвы? Но мы имеем в виду сетку, ее распространение и дополнения, о которых еще не упоминали. Все же и при этом умеренном успехе, через 40 лет все население Земли найдет роскошный приют, прокормление и досуг. Обработают 1,6 миллиардов аров, что составит 16 миллионов десятин, или 160 тысяч кв. верст. Эта поверхность в 3.200 раз меньше всей земной поверхности, в 900 раз меньше всей суши и в 400 раз меньше удобной тропической почвы. Остается только размножаться, наполнять Землю и господствовать над природой.
Но нельзя считать сетчатый дом достаточным для человека. Надо еще прикрытие от тропических ливней, от сырости и от ночного холода (при некотором удалении от тропиков). Без сомнения и насекомые и змеи будут порою проникать то в ту, то в другую клетку. Поэтому приходится иногда принимать меры для их уничтожения, то в том, то в другом отделении. Впрочем, чем больше пространство будет культивировано, тем меньше шансов для проникновения насекомых и других животных, ибо их вообще будет кругом меньше по отношению к общей площади.
Сеткой, в сущности, ограждается только растительный мир и земледелец во время посева или своего отдыха. Работы же внешние можно производить и в прохладное время, утром или даже ночью при электрическом освещении. Наконец, они могут производиться туземцами, более привычными к климату и менее от него страдающими. Во время свободы от трудов, при умственной работе и других занятиях человеку, особенно переселенцу из холодных стран, нужно особое жилище. Ему мало только ограждения от вредных животных и лихорадок. Сначала довольно будет крыши и сухого возвышенного пола. Потом потребуется постоянная и не очень высокая температура дома. Человек без обуви, с легким пояском или фартучком, не будет тяготиться и средней экваториальной температурой, не говоря уже про части затропические. Но дом должен иметь среднюю и регулируемую температуру. Материки подвержены несносному дневному жару и иногда прохладе ночью. Средняя же температура (между тропиками) от 28 до 20° Ц. (от 23 до 16 Реом.) вполне пригодна для раздетого. Среднюю температуру всегда имеет поверхность океана или почва на глубине примерно, метра (где нет зимы).
Когда будут строить лучшие дома в экваториальном поясе, то в них будут получать не только среднюю температуру, но и ниже ее и выше, смотря по надобности. Среднюю температуру легко получить, если воздух из дома пропускать через несколько подземных труб или решетчатый склад камней. Тогда в жаркую погоду он будет охлаждаться, а в холодную — согреваться. Но можно понизить и среднюю температуру дома и почвы под ним, особенно, если это большое общежитие и потому занимает обширное основание почвы. Для этого крышу дома делают блестящей. Она отражает солнечные лучи и так не нагревает дома. Только накаленный и проникающий в двери и окна воздух его нагревает. Это же нагревание легко регулируется и его нагревающее действие умеряется. Ночью для того же зеркальная с обоих сторон поверхность крыши заменяется черной. Она охлаждается при ясном небе, охлаждается под ней и воздух. Он проводится в комнаты или в подземные трубы и охлаждает их или дом. Так можно не только регулировать температуру, но и вообще понизить ее в большом доме и почве, на которой он стоит. При обширных размерах дома предел этого понижения очень велик.
У тропиков и выше можно использовать солнечную теплоту на крышах дома разными способами. Зеркальные листы крыши, слегка изогнутые цилиндрически, в фокусной поверхности, могут нагревать котлы с водой, давать горячую воду и пар для работы двигателей (подробности в моем особом труде). Вот источники электрической энергии, запасаемой в аккумуляторах и идущей на самые разнообразные потребности.
Можно, наоборот, возвысить среднюю температуру, если она недостаточна для человека без одежды. Напр., на широте в 45° средняя температура 10–15° Ц. (12–8° Р.). Этого мало. Тут средняя температура дома и почвы под ним должна быть выше. Нет надобности заводить одежду, если можно возвысить температуру. Одежда только для работников вне дома. Да и то работать можно в теплое время при солнце и, значит, обойтись без одежды.
Для повышения средней температуры, в холод и ночью надо защищать крышу дома блестящим и непроводящим тепло слоем, а в теплую погоду днем при солнце выставлять черную поверхность. Воздух под ней будет нагреваться солнцем. Ток его следует направить в дом или в подпочвенные трубы. Так будет запасаться тепло домом или почвой. В холодную же погоду, помимо защиты крыши задерживающим тепло слоем, в дом пропускается воздух, прошедший через теплую почву. Тогда получается в доме и под ним температура выше средней (свойственной естественному климату). До 45° широты содержится 82% всей Земной поверхности. И она может быть населена, благодаря регулированию температуры, человеком без одежды. Воздух в жилищах не только должен быть чист, что достигается вентиляциею, но и довольно сух. Немного суше, чем наружный. Такой воздух для большинства здоровее. Сухость же его мешает развитию разных микробов и грибков, разрушающих органические вещества и даже металлы. Когда в экваториальном поясе охлаждаем воздух в почве, то он становится еще влажнее, чем в наружном воздухе. Из такого воздуха в доме надо извлекать излишнюю влагу. Это можно делать веществами, поглощающими пары из воздуха (щелочками). Потом их приходится на особых фабриках прокаливать, чтобы вернуть их поглощающую воду способность.
Чистота воздуха от пыли и бактерий достигается пропусканием его через особые фильтры из тканей, сетей, порошков и жидкостей.
Что же выходит. Человек становится господином воздуха и температуры в своих домах, и избавляется от необходимости употреблять одежду и обувь. Это тоже богатство и комфорт, никому теперь недоступный. Почти вся поверхность Земли, 82% суши, становится таким раем, если не считать пустынь, гористых местностей и вод.
Как справиться с безводными и жаркими пустынями? Как быть с гористыми местностями, с океанами и морями? Что делать с остающимися 18% земной поверхности выше 45°?
Все одолеет понемногу человек, но для этого необходимо его размножение, развитие техники и улучшение рода. Сложные сооружения, сетки, зеркала, подземные трубы не должны нас пугать, потому что, по отношению к одному работнику и его техническому могуществу, эти сооружения относятся к ничтожной площади почвы, меньшей ара (100 кв. м.).
Обратимся к жарким пустыням, каковы Сахара, Атакама, австралийские пустыни и проч. Главный их недостаток — отсутствие воды. Ее нет или мало даже в глубине почвы, в самых глубоких (артезианских) колодцах. Вообще их недостаточно. Зато воды сколько угодно над нашей головой в воздухе пустынь. Только его высокая температура мешает ей выделиться в виде дождей или росы.
Но это можно сделать особыми приспособлениями. Пустыня должна быть прикрыта особыми оранжереями-домами, чтобы сделаться земным раем. Мы видим, что довольно нескольких десятков кв. м. плодородной почвы, чтобы прокормить одного человека. Дом же или оранжерея в несколько квадратных метров вполне доступна человеку, т. е. ему по силам ее соорудить. Вечно яркое солнце пустынь, прозрачный воздух, отсутствие облаков, непрерывность освещения в течение дня — чуть не учетверят урожаи хорошо подобранных растений. Это еще более сокращает размер требуемой для прокормления одного человека оранжереи или усадьбы.
Как же она должна быть устроена?
Жилище человека должно ночью покрываться непроводящим тепло слоем, сверху которого должен быть слой черного железа. Ночью, которая в пустынях бывает прозрачной, без облаков, этот слой сильно охлаждается и покрывается каплями росы, извлекаемой из воздуха. Вода стекает по наклонной крыше в желоба, а отсюда в особое хранилище для воды. Вместе с водою стекает с крыш и холодный воздух, заменяясь сверху теплым и влажным… Этот холодный воздух может проникать и в подпочвенные камеры и охлаждать так разгоряченную почву. Он будет запасать холод, если нужно. Как показывают расчеты, количество получаемой воды вполне достаточно для орошения площади в несколько раз большей площади крыши. Окружающие дом поля и высокие пальмы получат ее довольно. Деревья защищают дом от ветра, что также способствует выпадению обильной росы и накоплению из нее за ночь воды. Если же поля прикрыты слоем стекла, как оранжереи, то уход воды через испарение можно сильно сократить. Того же можно достигнуть подбором растений, не боящихся сухости. Таковы разные сорта плодовитых кактусов. Влажность, испускаемую растениями, можно также собрать, пропустив оранжерейный воздух через охлажденную упомянутым способом почву. Как же спасти дом от дневного жара? Наши черные крыши страшно накаляются, но тепло не проникает в дом, потому что под слоем железа непроводящий тепло слой. Однако, окружающий дом воздух накаляется от черных крыш и сжигает окружающие растения, если они не предохранены покровами. Чтобы избежать и этого, днем черный слой переворачивается нижней блестящей стороной к солнцу и отражает его лучи, которые, почти не нагревая воздух, рассеиваются в небесном пространстве безвозвратно. Так можно даже понизить среднюю температуру места и вызвать дожди.
Можно лучи солнца использовать также для нагревания котлов и получения работы и электрической энергии, как ранее указано, и это практичнее, так как не будет сопровождаться общим понижением температуры пустыни. Получится температура немного выше обыкновенной, свойственной пустыне. Но жар этот подходящие растения безвредно выносят даже при слабом орошении.
При достаточном числе построек и окружающих их деревьев ветер в нижних слоях атмосферы замедляется и песчаные заносы уже становятся невозможными, если не считать культурных границ, где с ними еще будет продолжаться борьба.
Недостаток возвышенных местностей и возвышенных пустынь — в их низкой температуре. Действительно, на каждую версту поднятия температура воздуха понижается на 5–6° Ц.
Если бы не было холодного воздуха, то солнце днем, на всех высотах, давало бы темным телам очень высокую температуру — до 150° Ц. Ночью, наоборот, было бы очень холодно. Но воздух все портит: охлаждает днем больше, чем нужно и согревает ночью недостаточно.
Закрытые дома и оранжереи могут оградить себя от влияния воздуха и накоплять теплоту указанными способами. Потолки днем должны быть открыты для солнца, но закрыты для ветров, т. е. они должны быть стеклянными и прозрачными для возможно большего числа лучей. Они сильно нагревают воздух оранжерей (благодаря зелени растений) и воздух домов (благодаря черным полам и стенам). Жар получился бы невыносимый, если бы этот воздух не нагнетался в подпольные трубы или груды камней. Там он охлаждается и прохладным выходит в дома и оранжереи. Нет надобности в обильной вентиляции зданий и излишнем охлаждении их наружным холодным воздухом, так как воздух испорченный выделениями человека, пропущенный через листья, почву и корни растений вполне очищается от всех своих вредных примесей. Можно сказать: человек и его индустрия питает растения, а растения питают человека и дают ему хорошую атмосферу.
В атмосфере очень мало углекислоты (0,03%), что не способствует урожаю. Ее количество может быть увеличено в 30 раз (до 1%) с большой пользой для растений и без всякого вреда для человека. Этот газ не ядовитый и обилие его в атмосфере только мешает выделению его же из легких. Один же процент этому почти не мешает (даже говоря о легких человека).
Не говорю про чрезмерные высоты, покрытые вечным снегом. Такие на экваторе находятся на высоте выше 5 верст, а на широте 45° выше 2-3 верст. Таких местностей очень немного и занимают они ничтожную площадь. Они могут быть использованы, как метеорологические станции и другим способом (например, как базисы для отправки небесных кораблей).
Обратимся к морям и океанам. Может ли покорить человек эту буйную стихию и сделать ее земледельческой страной?
Когда дойдет очередь до океанов, население достигнет огромной численности 400 миллиардов человек, т. е. в 300 раз больше настоящего. Техническое могущество его увеличится во много тысяч раз. Принимая это во внимание, покажем, как человек победит моря и океаны.
Сначала придется затратить большие труды. На море или озере (начнут с меньших бассейнов), выстраивается фронт в виде плота, простирающегося во всю длину береговой линии какого либо бассейна. Пока он узок (несколько метров). Границы его, обращенные к волнам, имеют машины двигатели, которые используют волнение океана и укрощают волны.
Фронт должен быть выстроен очень прочно. Он подвигается вперед по воде, а промежуток между ним и берегом заполняется другим плотом менее крепким, покрытым почвой, растениями и жилищами. Так, по мере размножения людей, фронт продвигается все дальше и дальше, пока не заполнит все озеро или море.
Чтобы ветры не могли производить сильного горизонтального давления на этот плот, он сверху закрывается одной гладкой, прозрачной для лучей крышей. Так что плот составляет как бы одну громадную оранжерею, разделенную внутри на множество отделений, ради удобства всяких регулировок и очищений от вредителей.
Крыша может поддерживаться легким избытком давления воздуха внутри построек, при незначительном укреплении. Конечно, нельзя избежать и прикреплений ее к плоту, на что могут послужить перегородки. Это очень облегчит стройку и позволит поднять высоко прозрачную крышу.
Расчеты показывают, что так могут быть использованы не только озера и внутренние моря, но даже целые океаны. Опора плотов: берега материков, острова, мелкие места океанов (а в крайнем случае и глубокие). Этого довольно, чтобы ветер, скользя по гладким крышам, не мог их разрушать и срывать плоты.
Между ними оставляются промежутки или каналы для судоходства.
Испарение воды регулируется по желанию и человек отчасти побеждает климат. Что может дать это регулирование и это завоевание океанов? Во-первых, водные животные, не получая солнца, должны исчезнуть или сократиться до минимума: большое нравственное удовлетворение, ибо прекратятся страдания существ от хищных рыб, птиц и зверей, которые делают водные обиталища адом. Далее облачность будет в руках человека. Она же имеет огромное влияние на температуру земли и на произрастание полезных человеку растений. В третьих, человеческое население Земли будет иметь возможность возрасти в 4 раза, что увеличит еще власть человека над Землей (поверхность всей Земли в 3½ раза больше, чем суши). Всего успешнее будет земледелие на океанских плотах. В самом деле, обилие влаги, ровная и желаемая температура, горизонтальность места, дешевизна транспорта — все это большие преимущества, сравнительно с сушей… Остановится или замедлится поглощение углекислого газа морскими животными, что сильно обогатит атмосферу этим газом и даст возможность увеличить массу растительности, запасы клетчатки, сахару, плодов и других растительных продуктов, а также и массу человечества, которая тоже нуждается в углероде. Избыток ее в атмосфере жилищ всегда может поглощаться достаточным количеством растений. Вообще состав атмосферы, так или иначе будет в руках человека.
Но всего важнее регулировка испарения вод. Сейчас Земля отражает безвозвратно от 50 до 70% всех падающих на нее лучей Солнца. Это очень понижает ее среднюю температуру и энергию лучей, которую использует человек с помощью растений или будущих солнечных машин.
Мы можем воспользоваться частью этой отраженной в небесное пространство энергиею, если замедлим испарение океанов и несколько очистим атмосферу от туманов, облаков и туч. Степень очищение будет зависеть от нас. Но возможно ли это? Не вызовет ли оно грозных, губительных последствий для населения Земли?
Покрытие вод плотами будет совершаться постепенно, резких перемен не будет, притом сила испарения океанов всегда останется в наших руках. Открытие растений от их прозрачного покрова может даже усилить испарение вод и вызвать обратное явление: понижение средней температуры Земли, вследствие усиления облачности и водяных осадков. В первом случае температура на Земле станет неравномернее, т. е. разница между теплом тропических стран и полярных будет еще больше, чем раньше. Во вторых — наоборот. Действительно, уменьшение водных осадков при уменьшении паров в воздухе будет сопровождаться меньшим переносом тепла из жарких стран в холодные, что вызовет более резкую разницу между температурами разных широт. Ясное ночное небо также увеличит разницу между теплом дня и ночи. Но уменьшение облачности выгоднее потому, что будет сопровождаться общим повышением температуры Земли, при чем не только умеренные, но и полярные страны будут иметь сносную температуру и избавятся от своих льдов и зимы. Только беда в том, что тропические страны будут иметь невозможно высокую температуру.
Приняв отражаемость лучей (альбедо) для Земли в 65% и ее среднюю температуру в 17° Ц., на основании известных законов, вычислим такую таблицу температур при уменьшении ее альбедо очищением атмосферы от облаков.
Альбедо в процентах:
0 10 30 40 50 65 80
Средняя температура Земли по Ц.
104 92 72 58 45 17 21
Отсюда видно, что если совершенно уничтожить альбедо (что невозможно), то средняя температура Земли достигнет 104° Ц. Но даже при незначительном уменьшении альбедо, до 50%, средняя температура все же будет высока (45°), т. е. увеличится на 28°.
Если бы разность температур осталась прежней, то на полюсах была бы средняя температура в 10° тепла (вместо 18° холода), а на экваторе она составила бы, вместо 28°, 56° тепла.
Такое нагревание воздуха вызовет более сильное его течение (ветры) и, может быть, разность температур не очень увеличится.
Все это хорошо для умеренных и полярных стран, но как быть с экватором, где температура станет для человека невозможной. Если средняя 56°, то какова же дневная? Притом альбедо можно еще уменьшить и свести к альбедо Луны или Марса. Тогда средняя температура экватора дойдет до 70–80° Ц.
Мы думаем, что можно со временем устранить эту беду. Температуру жилищ, занимающих обширную площадь, как мы видели, можно понизить по желанию с помощью блестящей их крыши. Для обширной же площади растений этого сделать нельзя, так как без солнечного света растения не развиваются и не приносят плода. Можно, впрочем, это сделать, отражая зеркалами часть солнечного света в небесное пространство. Только это неэкономно, так как растения дадут меньше плодов и, кроме того, средняя температура Земли понизится и в полярных странах сделается по-прежнему холодно.
Но сами растения поглощают солнечную энергию, накопляя его в плодах и других тканях своего тела. В современных растениях это поглощение энергии крайне мало и не превышает 2–10% (банан, кактус Бербачка и другие). Но человек создаст растения или процессы, которые будут запасать пятьдесят и более процентов солнечной энергии. Таким образом, температура будет зависеть от рода растений и машин, которые будут накоплять запасную (потенциальную) энергию Солнца. Эта энергия, в форме плодов и разных веществ будет перевозиться туда, где в ней будет нужна. Например, в холодные страны, в места фабричных производств. Выделяясь тут, она будет лучшим образом уравнивать температуру Земли. Энергия Солнца не будет пропадать, отражаясь облаками или зеркалами, а будет выделяться на Земле же для равномерного ее согревания и накопления богатств. Ею можно воспользоваться для совершения полезных работ на Земле, напр. сравнения ее поверхности и улучшения путей сообщения. При этом произойдет и согревание недостаточно теплых стран Земли.
Так решается и вопрос о землях (по обе стороны экватора) выше 45° широты. Эти 18% земной поверхности также будут теплы и заселены, как и тропические страны. Тут тоже не будут нуждаться в одежде и обуви. Полярные льды растаят, океаны от них очистятся.
Население Земли увеличится до 5 биллионов, т. е. в 3200 раз. На каждый ар (100 кв. м.) придется по человеку.
Останется хотя и очень прозрачная атмосфера, но все же она будет не малым злом. Во-первых, она поглощает еще много солнечной энергии, во-вторых ее сильные течения (хотя и более правильные, чем при облачных небесах) производят огромные трения и давления, с которыми не легко бороться. Состав ее не подходит ни для растений, ни для людей. Излишнее количество азота вредит растениям и не нужно животным, недостаток углекислого газа отзывается дурно на производительности растений. Большое количество кислорода также не только вредно для растений, но и велико для человека, в особенности если азот почти устранен. Сопротивление атмосферы и ее ветры мешают быстрому передвижению на Земле, что замедляет транспорт товаров и человека. Атмосфера делает очень различной температуру высот: на высочайших горах холоднее, чем при уровне моря на целых 40–50° Ц. Это тоже не малый минус. Не будь атмосферы, температура места зависела бы только от расстояния до экватора, но не зависела бы нисколько от высоты над уровнем океана. Бороться с температурным влиянием воздуха очень не легко (особенно в виду его быстрого непрерывного движения).
После завоевания теплоты Солнца, население и его сила будут так громадны, что явится полная возможность регулировать состав воздуха. В самом деле, солнечные двигатели при безоблачном небе, утилизируя 50% солнечной энергии, в среднем дадут около 12 килограмметров непрерывной работы на каждый квадратный метр почвы. Эта работа более работы крепкого работника. Если же принять во внимание 8 часов его труда в сутки, то энергия Солнца на 1 кв. м. сравняется с 3-4 работниками. Человек на своем аре будет иметь непрерывную работу в 1200 к.г.м., т. е. 16 лошадиных сил, или 12 метрических. Часть этой энергии, конечно, пойдет на пропитание и другие человеческие нужды. Но если половина только останется свободной, то и тогда у каждого жителя, на каждый ар будет в распоряжении 8 лошадиных сил непрерывной работы. Она и может пойти на преобразование атмосферы суши и проч.
На человека, с его 100 кв. метрами почвы, приходится около тысячи тонн атмосферы. Таков будет вес воздуха над его головой, или, вернее, над его аром. Как избавиться от этой массы, оставив необходимое для растений и человека?
Прежде решим вопрос, сколько и что необходимо для растений и людей. В виду ненужности азота для дыхания человека он может смело довольствоваться половинной порцией того кислорода, который он получает в свои легкие сейчас. Действительно, 80% примеси азота охлаждают легкие, и потому требуют усиленного поглощения кислорода. Значит, довольно 10%. И сейчас он свободно дышит на 5 верстных горах, где кислорода вдвое менее (10%), чем у океана (20%). Он переносит, хотя и с трудом, даже 5% кислорода. Дети бы могли приучиться и к этой малой порции, в виду чистоты кислорода (отсутствие азота), желаемой теплоты, прекрасных условий жизни и приспособительной способности молодых организмов. Но оставим 10%. Давление этой атмосферы составляет 100 граммов на кв. сантиметр. Это давление уравновешивается слоем стекла или кварца, толщиною в 40 сантим. Следовательно, если потолок человеческого жилища будет иметь толщину, примерно, в поларшина, то его тяжесть вполне уравновесит давление воздуха. Над потолком будет безвоздушное пространство. Если на человека потребуется помещение с площадью пола в 10 кв. м., то потолок должен весить 10 тонн. Экономно ли столько потратить на каждое существо? Но кварца и других материалов, из которых делается стекло, неисчислимое количество; фабричное дело будет на большой высоте и потому мы это находим вполне возможным. Стекло и при толщине в 40 сант. может быть очень прозрачным и потому будет давать довольно света. Оно может обливать (или содержать в себе) металлическую прочную решетку и иметь громадную прочность, которой, впрочем, от него и не требуется.
Со временем выработается порода существ, довольствующихся все меньшим и меньшим количеством кислорода, даже до одного процента, и тогда толщина стекла будет иметь только 4 сант. Есть существа с очень напряженною жизнью, и они довольствуются ничтожным количеством кислорода. Я говорю про крупных рыб. В морской воде, при атмосферном давлении и нуле градусов по Ц., содержится около 0,34% по объему кислорода, т. е. около 1/300 объема воды. Это в 3 раза меньше, чем мы предполагаем для человека, и в 60 раз меньше, чем его содержится в воздухе.
Тем не менее это ничтожное количество живительного газа нисколько не мешает морским животным развиться и по своему мыслить.
На океанских плотах потолок будет на одной высоте, примерно, 10-ти метров, при высоких же деревьях — сообразно их высоте. Тут боковые укрепления поглотят немного материала. На больших плоскогорьях или высотах, с большею площадью будет то же. На малых площадках боковые укрепления потребуют много массы, но малых площадок не много. Ясно, что воздушные отделения большой разности высот изолированы друг от друга. Температура тут не будет зависеть от высоты, что очень удобно.
Перейдем к растениям. Им надо очень немного паров воды, азота, кислорода и углекислого газа. Сейчас объем углекислого газа по отношению к воздуху составляет одну тридцатую процента, т. е. давление его в 3000 раз меньше, чем атмосферы у уровня океана. Также мало может быть паров воды, кислорода и азота. Одним словом, самая благоприятная атмосфера растений будет давать давление не больше одной сотой атмосферы (10 гр. на кв. сантиметр). Прозрачный покров, уравновешивающий это давление, имеет толщину в 4 сант. При подходящем составе он почти не будет задерживать солнечную энергию. Такая оранжерея будет иметь потолок, весящий 10 тонн на 1 ар (100 кв. м.).
Итак, как для человека, так и для растений потребуется ничтожной высоты атмосфера с незначительной плотностью и потому очень малой массой. Давление атмосферы уравновешивается весом прозрачного твердого покрова, который и помешает рассеяться тонкому слою воздуха, облекающему всю Землю, параллельно ее твердой или жидкой поверхности.
Значит почти вся масса теперешнего воздуха должна быть устранена. Это можно сделать разными способами. Можно, напр., связать газы химическим соединением с другими веществами и обратить, таким образом, атмосферу в твердые или жидкие тела.
Последнее и совершится понемногу само собой. Действительно, мы видели, что человек, еще раньше своего крайнего заполнения всей поверхности Земли, уже залетел за пределы атмосферы, поселился тут, как на искусственных лунах (или кольцах), завел промышленность, ушел от Земли на одну из орбит (например, между Землей и Марсом), распространил там индустрию и т. д.
Но ведь на все это нужны материалы. Часть их, в особенности строительная, будет заимствована от болидов и маленьких планеток, другая же часть — органическая, состоящая, главным образом из растений и человека, — потребует много азота, кислорода, водорода, углерода и прочего. Эти материалы могут быть заимствованы на первое время из атмосферы, воды и земной коры.
Население солнечного пространства так может быть громадно, что все эти материалы уйдут на его образование и их далеко еще не хватит.
В самом деле, полная энергия солнечных лучей в два миллиарда раз слишком больше той, которая падает на поверхность Земли. Но последняя может дать существование 5 биллионам людей (полагая на каждого по ару). Значит, вся солнечная энергия может прокормить не менее 1022, т. е. не менее десяти тысяч триллионов населения.
Сколько же на это население нужно газов, воды и прочего? Возьмем хоть воду. В среднем человек (принимая полный вес в 40 кило) содержит около 30 кило воды. На Земле на одного жителя будет приходиться 300 000 тонн океанской воды. Значит этой воды хватит только на 10 000 000 людей. Возможное население солнечной системы в 2 миллиарда раз больше земного. Следовательно, воды океанов хватит только на одну двухсотую возможного населения солнечной системы. Очевидно, кислород и водород придется заимствовать из земной коры (гидратная и конституционная вода камней, например булыжников), или других источников.
Возьмем еще азот. На среднего человека (40 к.) надо около 1½ кило азота. Атмосфера Земли содержит на будущего человека (на ар) 800 тонн азота. Следовательно, его достанет на 530 000 человек, т. е. не только уйдет весь азот атмосферы, но придется серьезно задуматься о том, где его достать, чтобы насытить населением солнечную систему.
То же скажем и про углерод и другие элементы, необходимые для живых существ. Возможно, что за недостатком некоторых, придется ограничить население Солнца, а его энергию употребить на иные цели, напр. на высший комфорт существ.
Впрочем, найдут еще источники или отыщут средства обращать одни элементы в другие. Так оживят железо, золото, серебро, ибо употребят их на создание организмов. Заметим, что углерода содержится большое количество в земной коре в виде углекислых металлов, напр., известняков.
Когда достигнут на Земле предела размножения (ар на человека), то население будет еще очень несовершенно. Некогда о том было заботиться. Очень нужно было людей для обработки и покорения Земли. Теперь размножение продолжается также интенсивно, но многие остаются без потомства: именно, люди с разными недостатками. Все же прирост более вымирания и потому избыток более совершенного населения отправляется за атмосферу и заполняет солнечную систему.
Ее заполнение происходит отчасти с Земли, отчасти самостоятельно, т. е. размножаются уже в небесах, в эфире. Значит, материалы атмосферы, воды и коры превращаются в организмы и на Земле и в эфире. Сначала больше на Земле, а затем больше в эфире когда население его будет более земного.
Очень скоро уйдут в небеса и воды и атмосфера Земли. Для нее останется только самое необходимое: слой воздуха, т. е. питательной смеси газов и паров, всего в несколько метров высоты. Он предохраняется от рассеяния не очень толстой прозрачной крышей. Ее тяжесть будет близка к давлению этой искусственной атмосферы.
Ясно, что, чем обильнее будет население эфира, тем более сырых (неорганических, мертвых) материалов придется отправлять на нужды населения за пределы Земли. Не придется и тратить солнечную энергию (для получения организмов), падающую на Землю, если не считать механической работы, потребной для одоления тяжести Земли и Солнца (при отправке материалов). Напротив, и эта
сила будет отчасти заимствоваться от общей солнечной энергии. В том или ином образе она будет доставляться с неба на Землю. Это очень ускорит дело, так как энергия Земли сравнительно незначительна, между тем как полная солнечная энергия в 2 миллиарда раз больше земной.
Зачем мы хлопочем о большой численности населения? Дело в том, что чем оно больше, тем совершеннее его члены и тем выше общественное его устройство. Это можно выяснить хорошо только в особом труде.
Но вернемся к Земле. Она разлагается (т. е. части ее понемногу удаляются в эфирное пространство) и мертвые материалы ее оживают. В сущности, теоретически значительная часть массы нашей планеты может ожить силою полной солнечной энергии. В самом деле, масса Земли составляет 6,1021 тонн, возможное же население солнечной системы 1021. На одного возможного ее жителя придется 0,6 тонны, или 600 кило. Этого только что достаточно на жилище, орудия и живое тело существа. Однако, в таком полном преобразовании массы Земли нет надобности. Цель другая: достигнуть совершенства и изгнать всякую возможность зла и страданий в пределах солнечной системы. Теперь даже трудно вообразить, как можно этого достигнуть, в особенности на больших ее планетах.