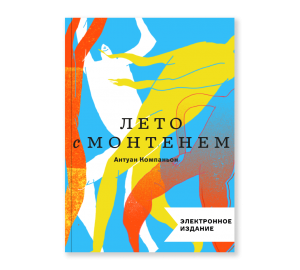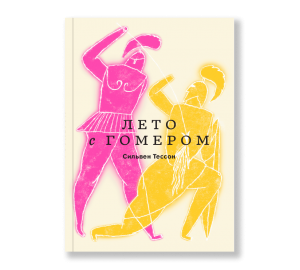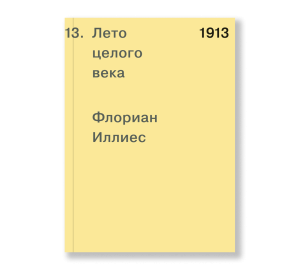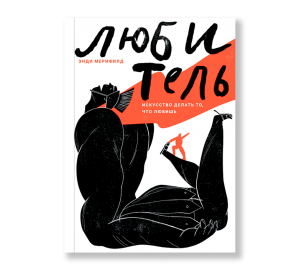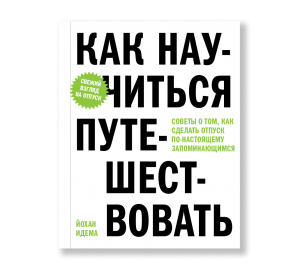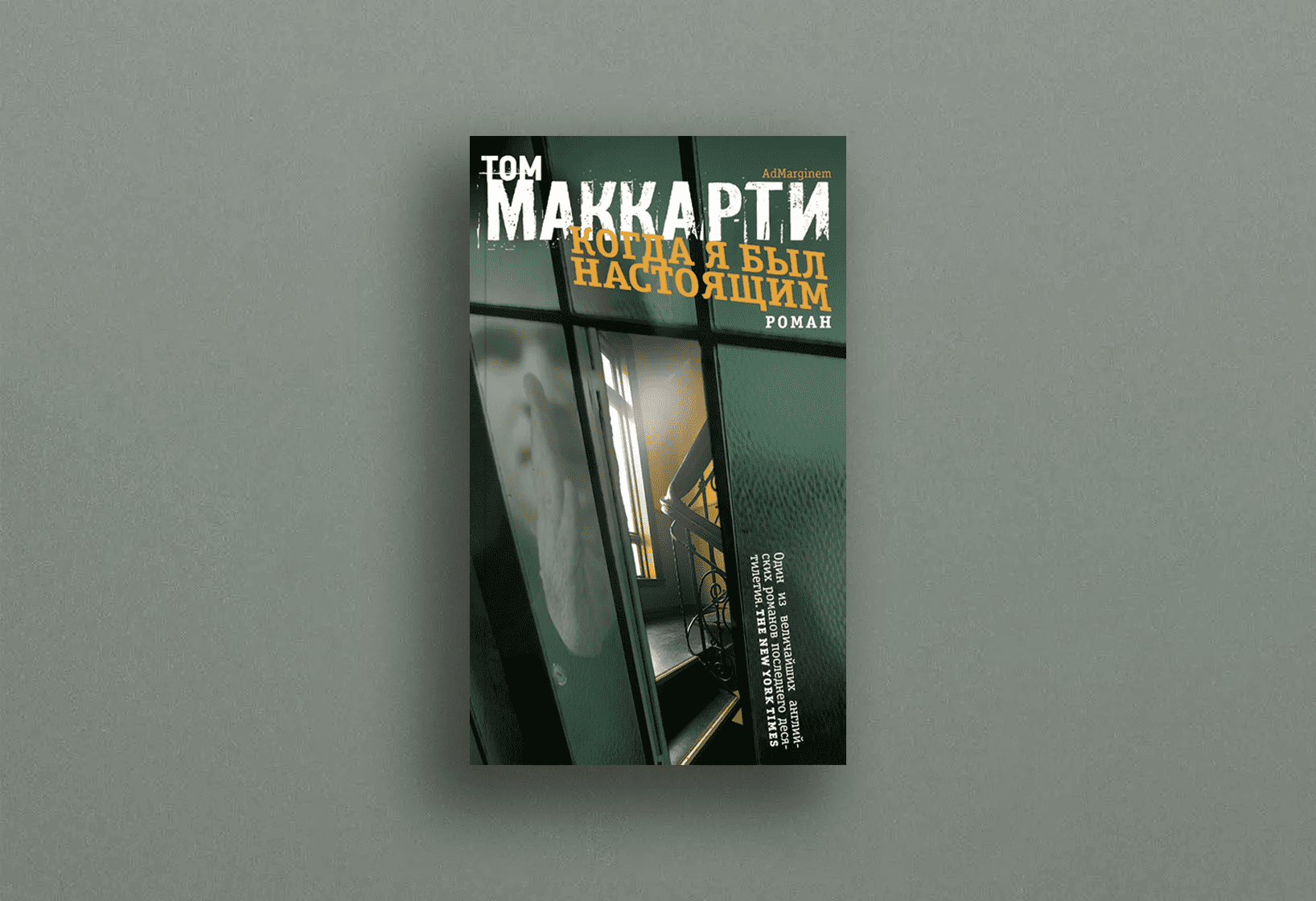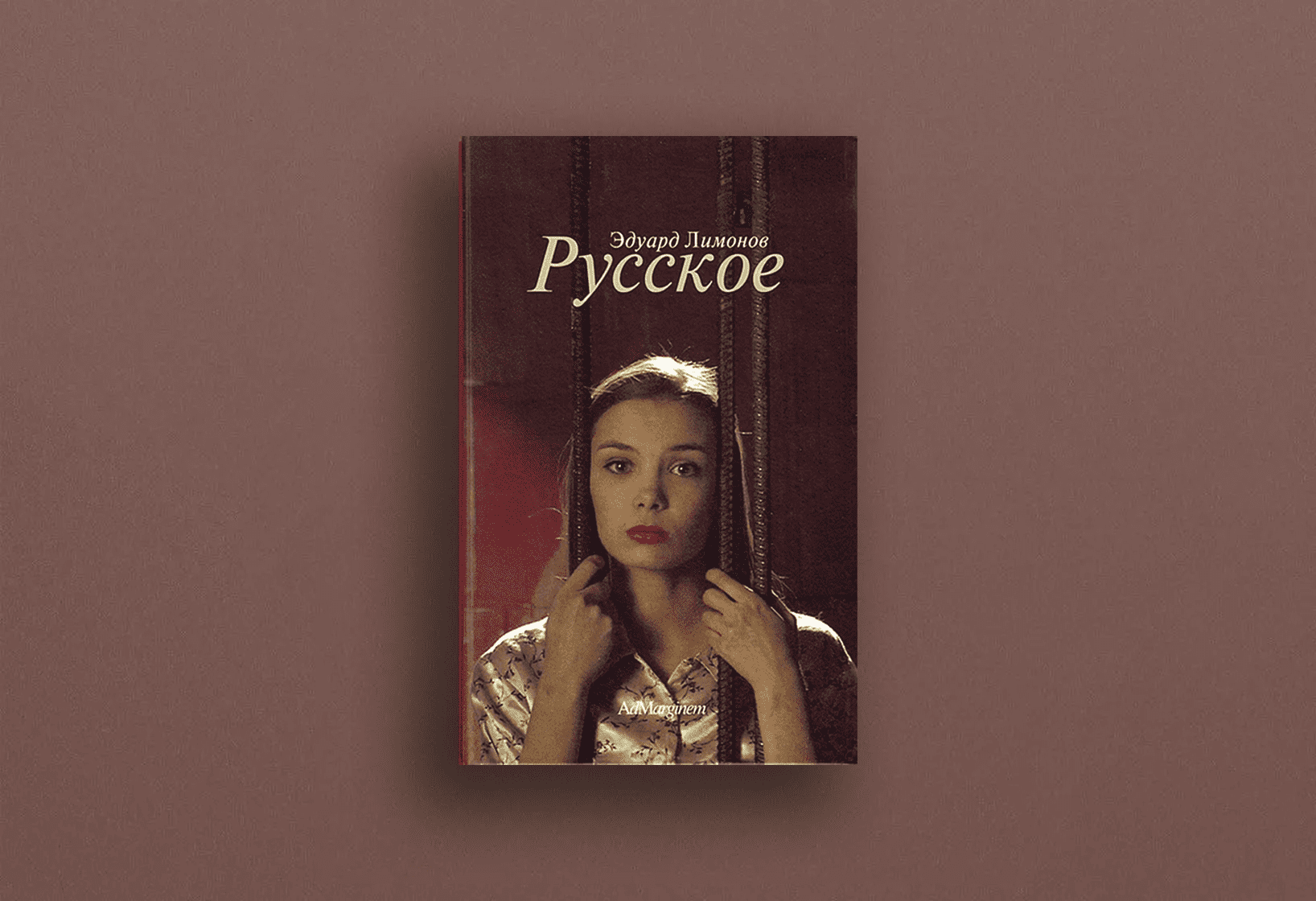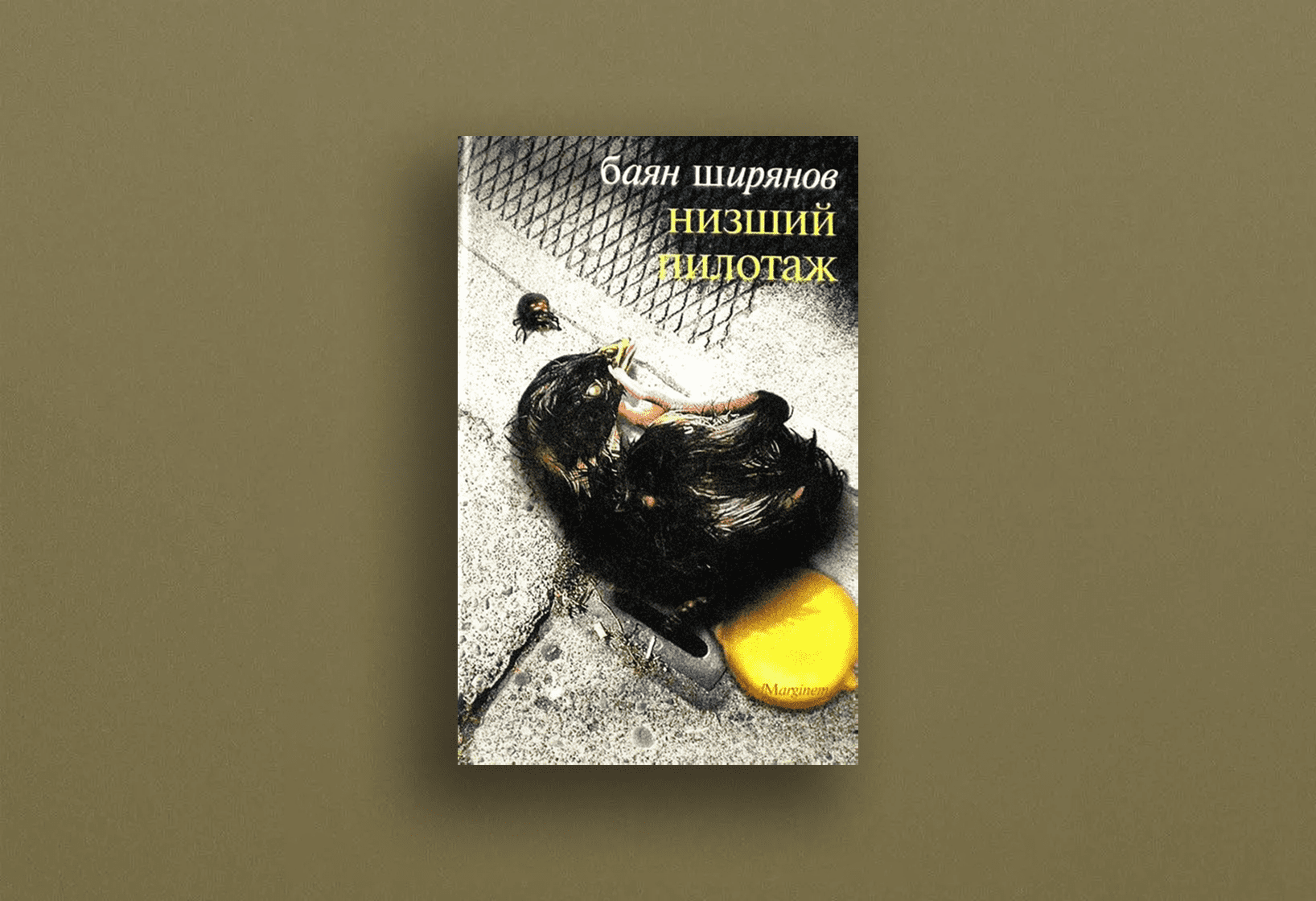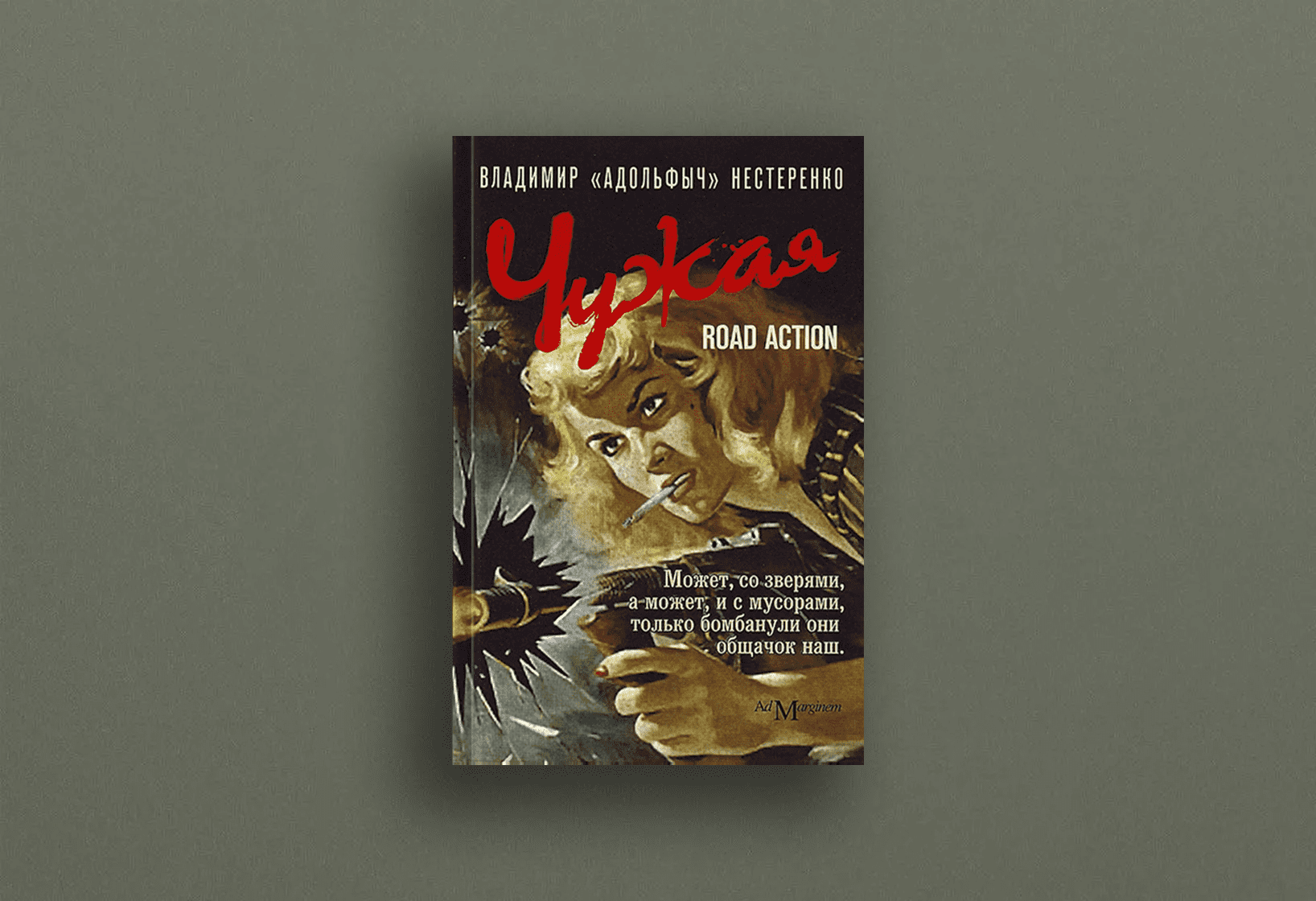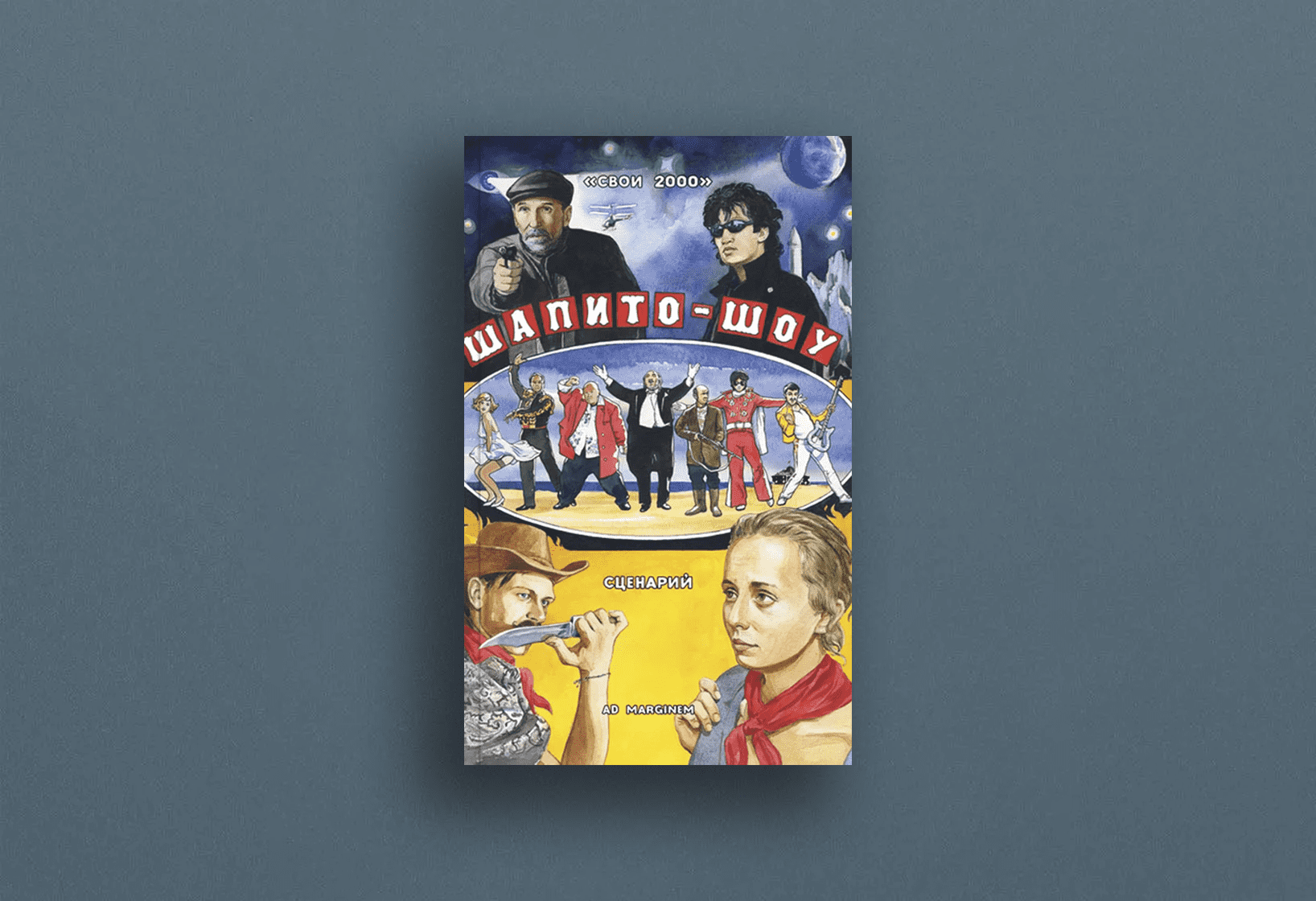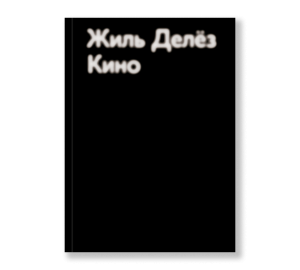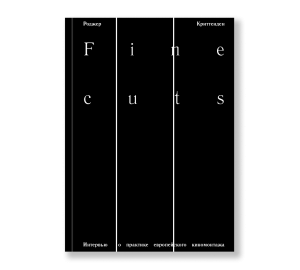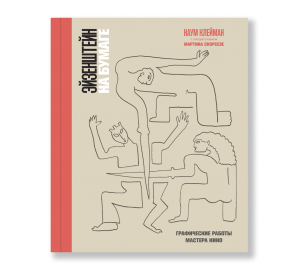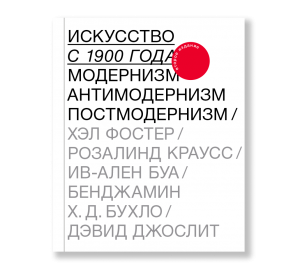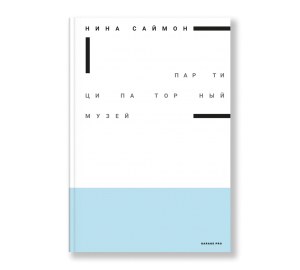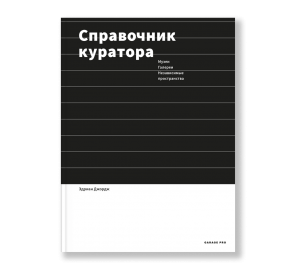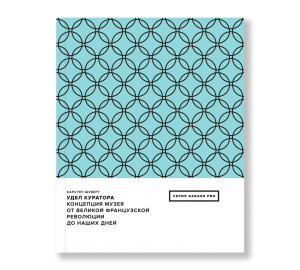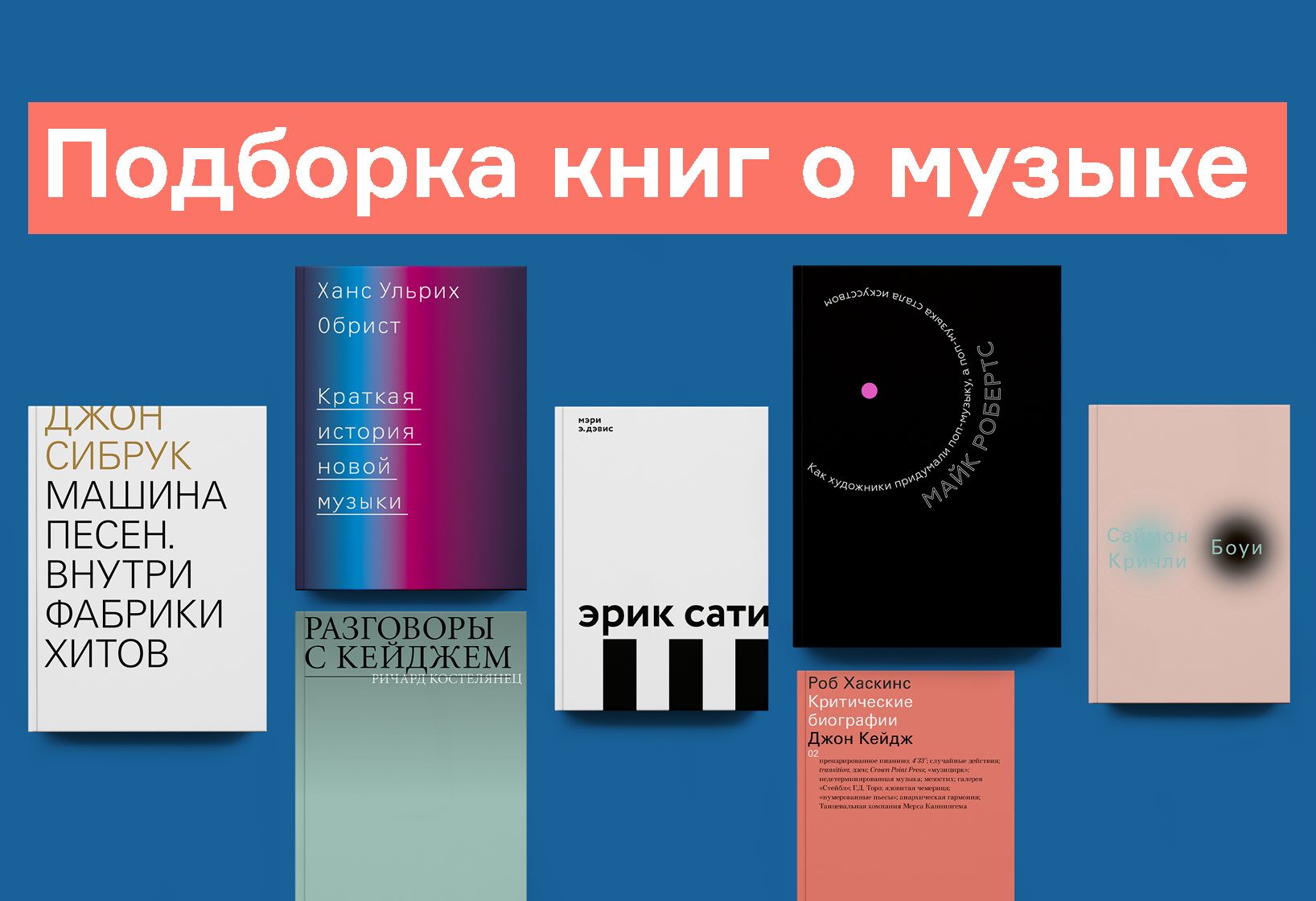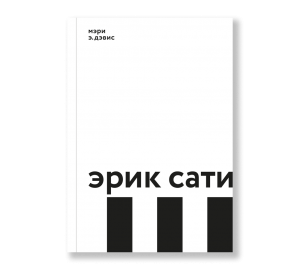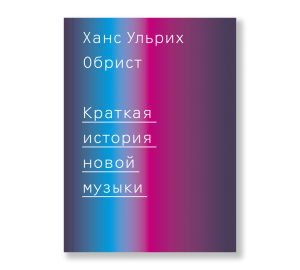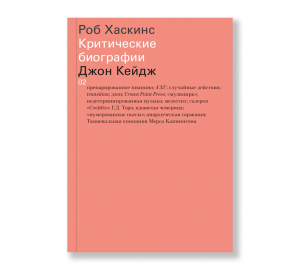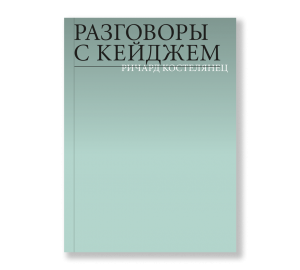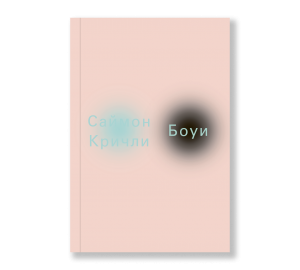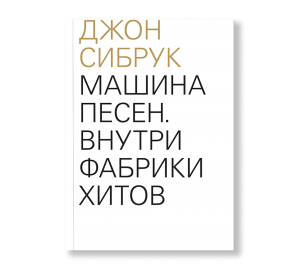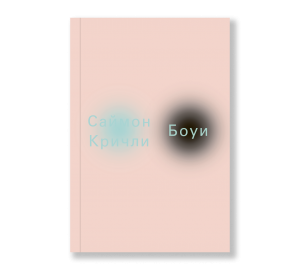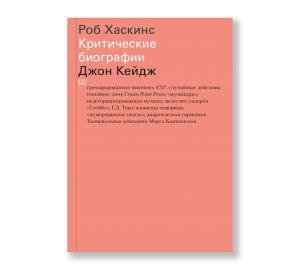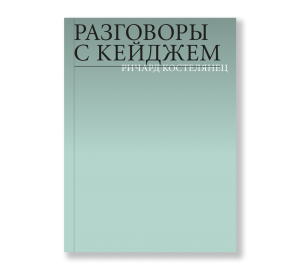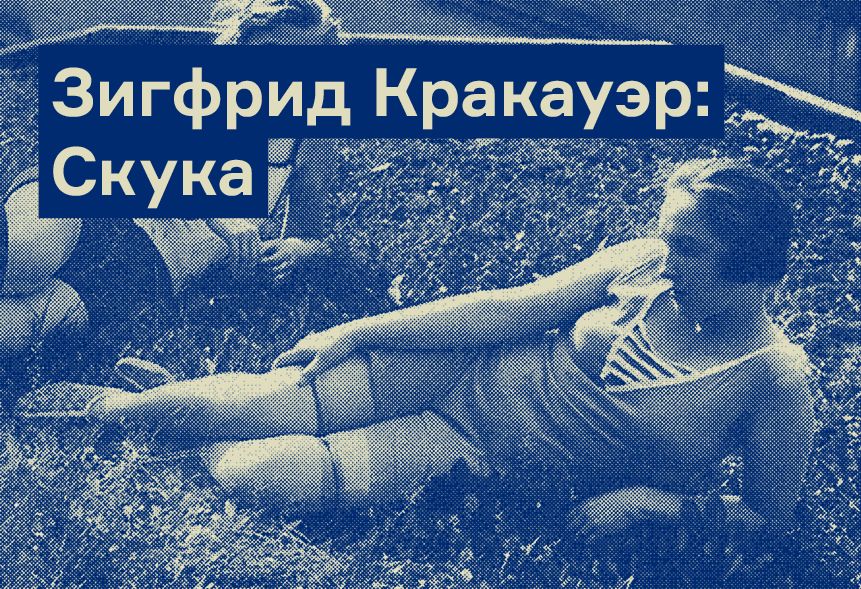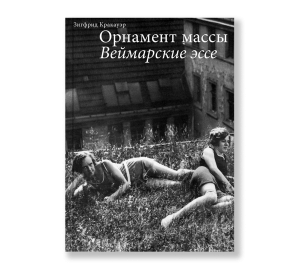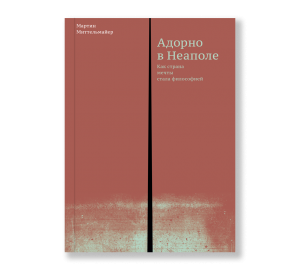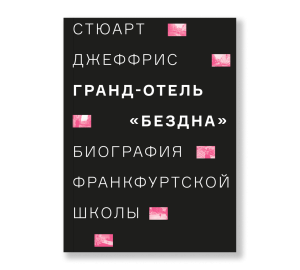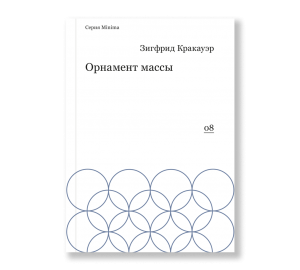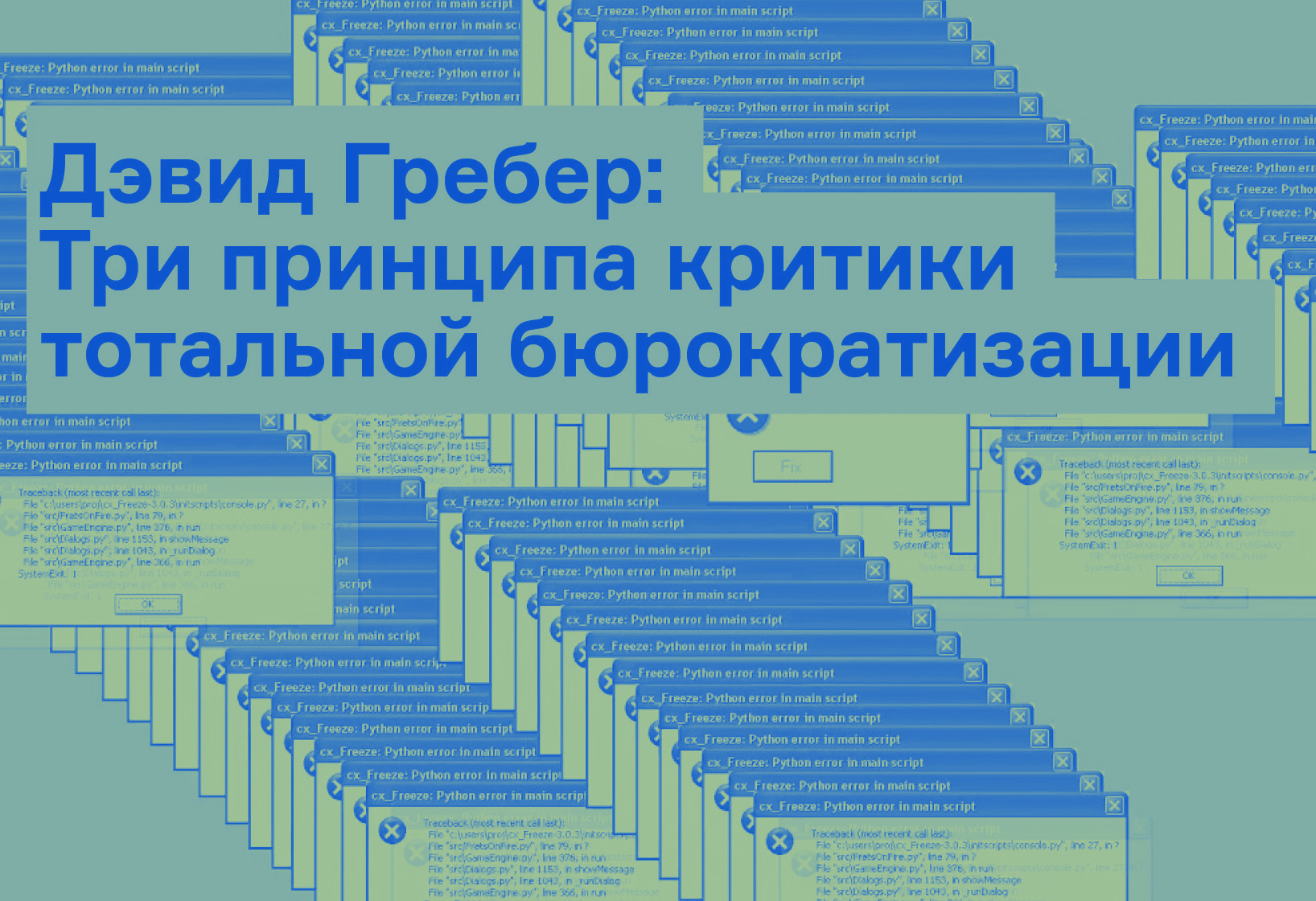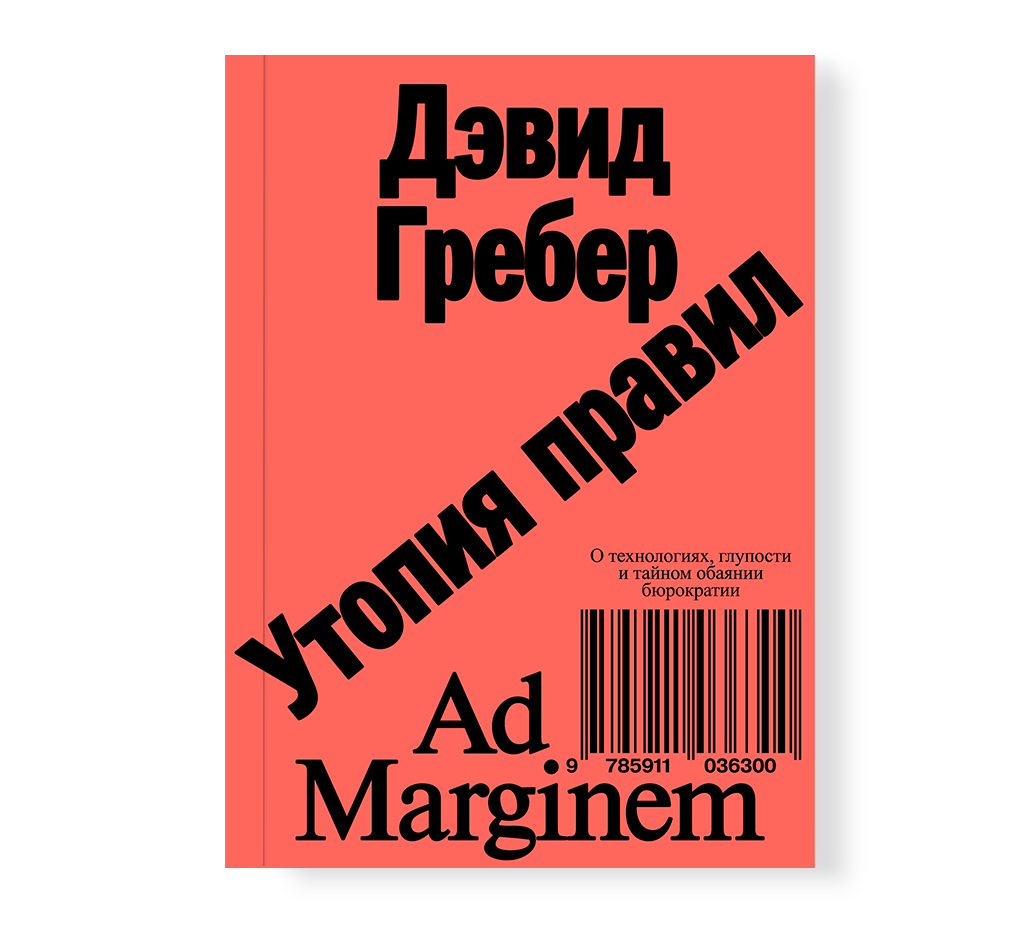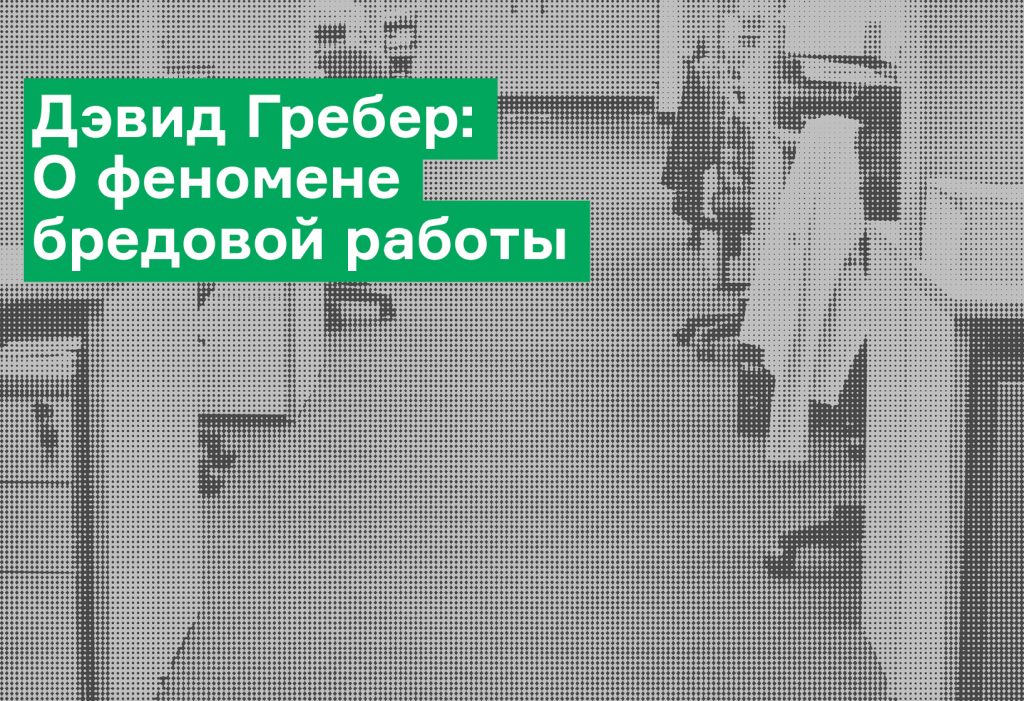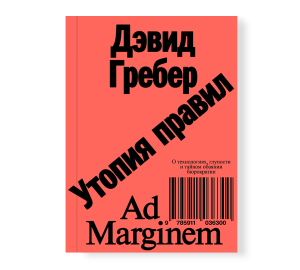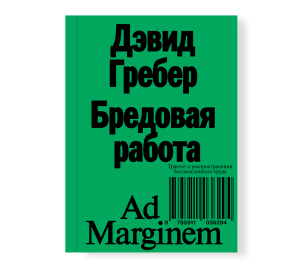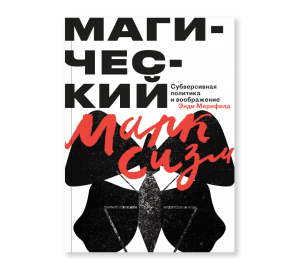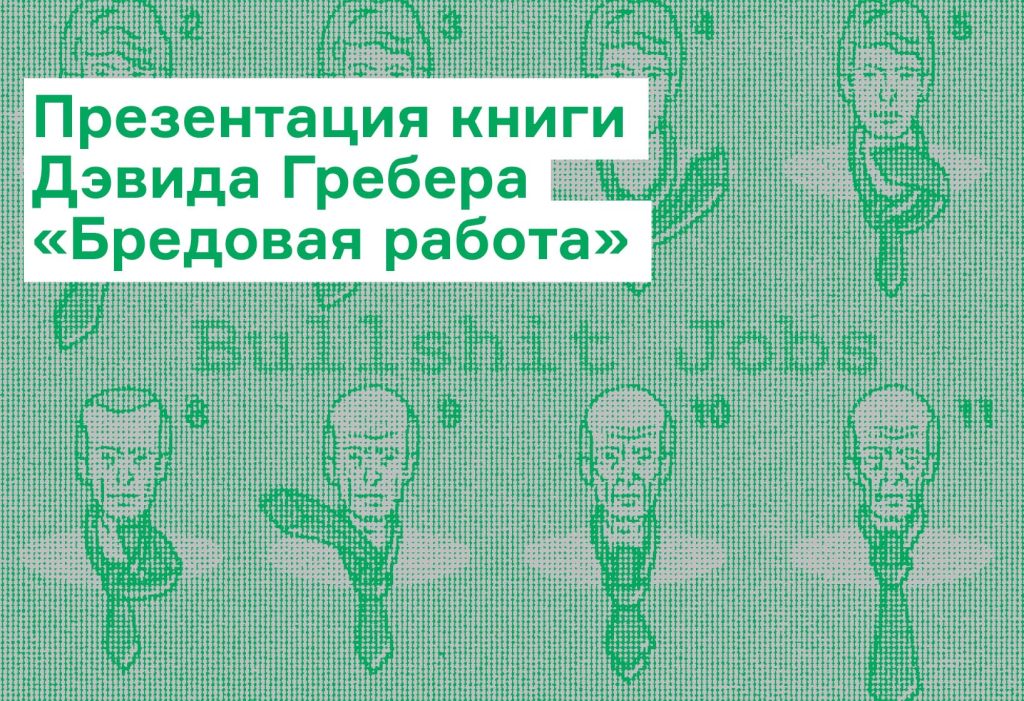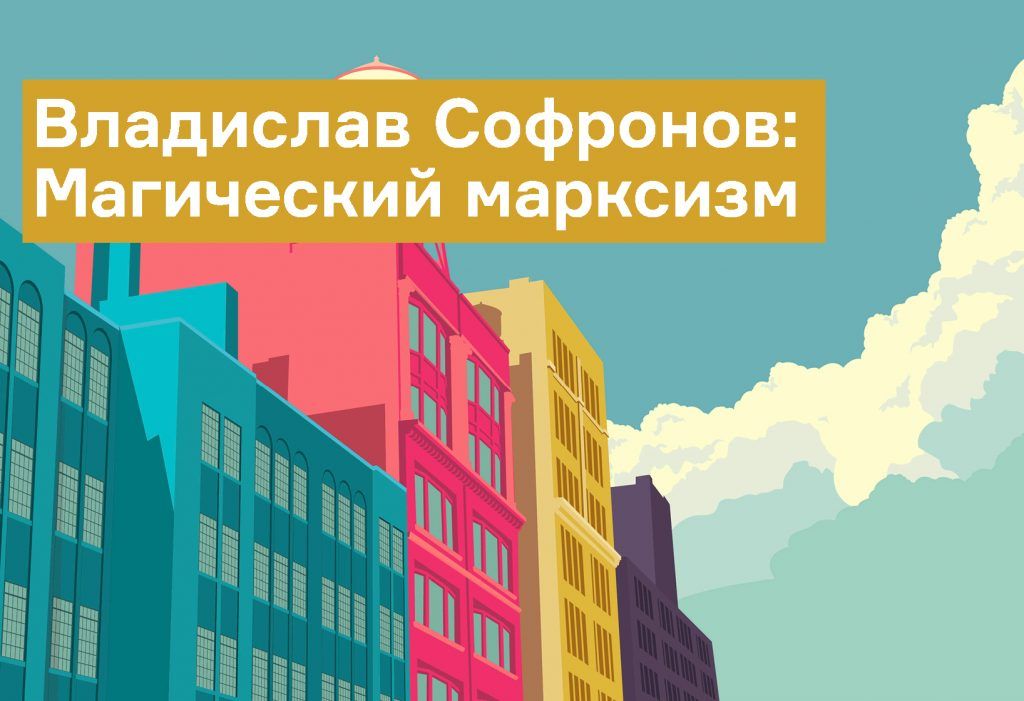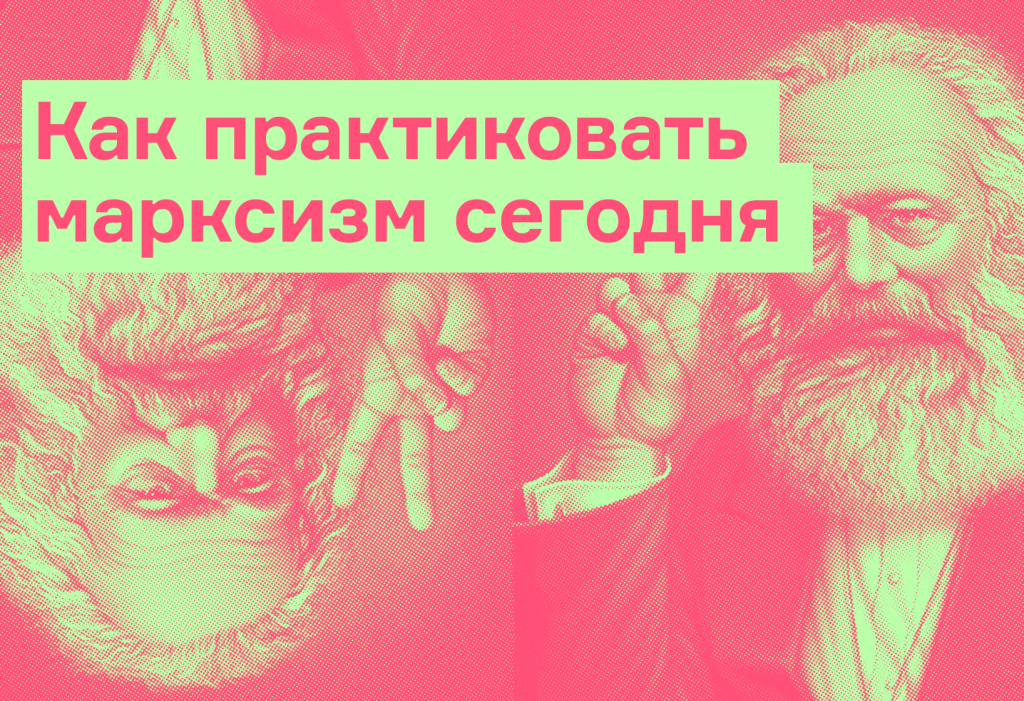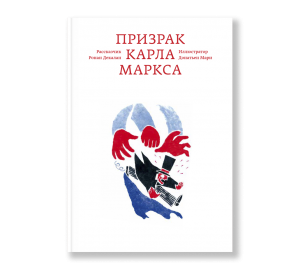В серии статей, опубликованных в 1976 году на страницах журнала Artforum, критик и художник Брайан О’Догерти проследил эволюцию «белого куба» — типичной галереи современного искусства, представляющей свой объект в чистоте и самодостаточности, — и вместе с тем подверг его критике как место изоляции искусства от окружающей действительности, подобное традиционному музею. Составленная из этих статей книга Внутри белого куба. Идеология галерейного пространства остается, как и ее предмет, актуальной и сегодня. Ее русский перевод вышел в Ad Marginem в 2015 году. Ниже мы публикуем ее первую главу в сопровождении краткого эссе об О’Догерти, написанного Розалинд Краусс для книги Искусство с 1900 года.
Розалинд Краусс
Брайан О’Догерти и «белый куб»
В начале 1960-х годов, когда абстрактный экспрессионизм уступил дорогу минимализму, центр нью-йоркского арт-мира сместился. Мастерские, до этого населявшие Восьмую улицу и Гринич-Виллидж, переехали на юг города, в фабричный район, где ранее располагались предприятия легкой промышленности. Ярусы этих зданий, получившие название лофтов, предоставляли большие открытые пространства. За художниками последовали ведущие арт-дилеры, и в результате производство и демонстрация искусства сосредоточились в части города, именуемой Сохо. Выкрашенные в белый цвет и наполненные светом, лофты побуждали увеличивать размер произведений, а бывшее назначение этих помещений подталкивало к использованию индустриальных материалов. Работы Дональда Джадда и Роберта Морриса были бы немыслимы без этих новых пространств, которые ирландский критик и художник Брайан О’Догерти назвал «белыми кубами».
Опубликованная первоначально в виде серии статей в журнале Artforum в 1976 году, книга О’Догерти Внутри белого куба: идеология галерейного пространства пронизана радикальным неприятием модернистской доктрины. Выражение «белый куб» используется автором как насмешка над модернистскими правилами, обязывающими самокритически выявлять «сферу компетенции» каждого медиума: помимо прочего, это подтверждает значение дематериализованного искусства и концептуализма, отнюдь не случайно пришедших на смену минимализму. Согласно О’Догерти, «идеология» новых галерей основывается на гомологии пространства коммерции и пространства творчества — как лента Мёбиуса, в которой одна сторона неотличима от другой. Целью модернизма было упрочить автономию произведения искусства, его полную замкнутость в своих рамках, его автореферентность, в которую не может просочиться ничто внешнее. Автореферентность была другим определением авторепрезентации, которая как таковая является фундаментальным условием абстракции. Иммануил Кант в Критике способности суждения объявил условием красоты автономную «незаинтересованность», которая базируется на том, что произведение дистанцируется от любых внешних по отношению к нему явлений, будь то предмет изображения или любое другое «понятие». Наследник музеев с их белыми экспозиционными залами, «белый куб» должен был обеспечить «чистоту», то есть автономию произведения. Но как только стала очевидна синонимичность галереи и лофта, «чистота» скрылась за стеной финансовой выгоды. Закат модернистской автономии стимулировал развитие постмедиального искусства инсталляции. Видеопроекции размыли непроницаемость картинной плоскости, превратив ее в призрачное подобие тумана или облака. Когда «белый куб» распался, напряжение между объективностью стены и субъективным опытом зрителя не оставило места для медиума, лишив его прочного основания.
Деятельность О’Догерти не исчерпывалась его провокативными текстами. В 1967 году он выступил редактором сдвоенного номера 5+6 «журнала» Aspen, выпускавшегося художественным сообществом в Ред-Маунтин (Колорадо). Издание представляло собой квадратную снежно-белую коробку со стороной в двадцать и толщиной почти в восемь сантиметров, содержащую аудиозаписи (Ален Роб-Грийе читает фрагменты своего романа Ревность), бобины с кинопленкой (танцевальный опус Роберта Морриса под названием Место) и первую публикацию на английском статьи Смерть автора Ролана Барта. Кроме того, О’Догерти убедил Марселя Дюшана прочесть для этого проекта свой текст Творческий акт. Это была не первая их встреча. Врач по образованию, О’Догерти ранее уговорил Дюшана сделать электрокардиограмму. Зрителю, который смотрит на эту вычерченную самописцем дадаистскую линию жизни, остается лишь гадать, следует ли видеть в ней реди-мейд или отображение творческой работы.
О’Догерти выступал и как художник, исследуя — под сильным влиянием Дюшана — художественные конвенции и допущения, на которых основывается наше эстетическое суждение. Среди результатов этой практики — «Веревочные работы», иронически обыгрывающие чистоту белого куба. Цветные веревки, переплетенные между собой и натянутые в зале музея или галереи, создают иллюзию подвешенной плоскости — оптический образ, который отменяет физические параметры помещения.
В 1972 году О’Догерти стал подписываться именем Патрик Ирландский в знак протеста против расстрела британскими войсками демонстрации в Дерри (Северная Ирландия) в день, именуемый с тех пор Кровавым воскресеньем. В 2007 году в галерее Gray Art при Нью-Йоркском университете прошла ретроспектива О’Догерти / Патрика Ирландского, а через год он сам символически «похоронил» свое альтер эго на территории Ирландского музея современного искусства в Дублине в знак признания значительных успехов мирного процесса Ирландии.
Перевод: Андрей Фоменко
Брайан О’Догерти
Заметки о галерейном пространстве
В научно-фантастических фильмах часто встречается сцена: Земля удаляется от космического корабля, становится горизонтом, пляжным мячом, грейпфрутом, мячиком для гольфа, звездой. С изменением масштаба восприятие переходит от частного к общему. Индивидуальность сменяется видом, таким трогательным для нас: смертные двуногие существа роятся там, внизу, словно живой ковер. Если смотреть на людей с определенной высоты, они в кажутся в основном хорошими. Вертикальное отдаление способствует благосклонности. А вот горизонтальность не обладает подобной добродетелью. Далекие фигуры могут приблизиться, и мы предчувствуем опасность встречи. Жизнь горизонтальна: одно, за ним другое, своего рода конвейер, влекущий нас к горизонту. Иное дело история, вид с улетающего космического корабля. Масштаб меняется, слои времени накладываются друг на друга, и мы, глядя через них, строим перспективы, позволяющие составить общую картину прошлого, доступную для исправлений. Неудивительно, что искусство противится подобному подходу: его история, воспринимаемая сквозь призму времени, запутывается тем, что происходит у нас на глазах, и ведет себя, как свидетель, готовый изменить показания в ответ на малейшую провокацию восприятия. История и наш глаз ожесточенно спорят друг с другом в самом сердце «константы», которую мы называем традицией.
Все мы ныне уверены, что изобилие легенд, слухов и фактов, именуемое модернистской традицией, может быть ограничено определенным горизонтом. Глядя сверху вниз, мы яснее видим исповедуемые модернизмом «законы» прогресса, его обшитый броней идеалистической философии каркас, его боевые метафоры наступления и штурма. Ну и зрелище всё это собой представляет — или представляло! Приведенные в боевой порядок идеологии, ракеты на трансцендентном топливе, романтические трущобы, в которых смешиваются, составляя горючую смесь, деградация и идеализм, все эти войска, переходящие с позиции на позицию, ведя вошедшие в привычку войны. Кипы фронтовых донесений, вырастающие в конце концов у нас на журнальном столике, дают малое представление об истинных подвигах. Они, эти парадоксальные свершения, дожидаются ревизии, которая свяжет эру авангардов с традицией или, как некоторые опасаются, положит последней конец. Ведь, в самом деле, и традиция по мере удаления космического корабля от Земли приобретает черты безделушки на том же журнальном столике — движимого мифическими моторчиками забавного механизма, который распределяет репродукции по крохотным макетам музеев. В центре машинерии угадывается, по всей видимости, необходимая для ее работы равномерно освещенная «камера» — пространство галереи.
История модернизма тесно связана с этим пространством или, точнее, может быть соотнесена с изменениями в нем самом и в нашем о нем представлении. Ведь с некоторых пор мы смотрим поначалу не на само искусство, а на пространство вокруг него (одно из общих мест нашего времени — привычка, входя в галерею, начинать с оценки ее помещений). На ум сразу приходит образ безупречного белого зала, который лучше любой картины годится на роль модели искусства XX века: процесс неотвратимого исторического развития, обычно связываемый с искусством, которое размещается в этом пространстве, определяет, подобно свету, его собственные черты.
Идеальная галерея очищает произведение от всех наносов, способных помешать его идентификации с «искусством». Произведение в ней предохранено от всего, что могло бы подвергнуть сомнению его самооценку. В этом отношении галерея родственна другим пространствам, где воспроизведение замкнутой системы ценностей способствует сохранению тех или иных конвенций. Святость храма, строгость зала суда, таинственность научной лаборатории порождают в соединении с изящным дизайном средоточие эстетики. Силовое поле восприятия здесь настолько мощное, что, выйдя из него, искусство легко теряет свой сакральный статус. И наоборот, оказываясь в фокусе сильных художественных идей, искусством становятся обычные предметы. Действительно, объект часто служит медиумом, при посредстве которого эти идеи выявляются и позволяют завязать о них дискуссию: такова известная форма позднемодернистского академизма («идеи более интересны, чем искусство»). Тем самым обнаруживается сакральная природа галерейного пространства и один из главных законов модернизма, на зрелом этапе которого контекст превращается в содержание. А вносимый в галерею объект, согласно странной инверсии, начинает сам «обрамлять» пространство и корректировать его законы.
Галерею создают по таким же строгим правилам, каким следовали строители средневековых храмов. Ее пространство должно быть отгорожено от внешнего мира: поэтому окна обычно перекрыты, стены окрашены в белый цвет, а свет струится с потолка. Деревянный пол покрыт лаком, и тогда по нему скользишь, как в клинике, или устлан коврами, и тогда, пока неслышно ходишь по нему, разглядывая то, что развешано по стенам, твои ноги отдыхают. Искусство здесь свободно, оно, как говорится, «живет своей жизнью». Какой-нибудь столик может оказаться единственным предметом мебели. В таком контексте почти сакральным объектом становится напольная пепельница, да и пожарный шланг в современном музее выглядит не как пожарный шланг, а как эстетическая головоломка. Модернистский перенос восприятия с жизни на формальные ценности — дело уже свершившееся. И, конечно же, это одна из смертельных болезней модернизма.
Незамутненное, белое, чистое, искусственное пространство галереи превозносит эстетическую технологию. Произведения искусства обрамляются, развешиваются, расставляются ради максимально комфортного исследования. Их непорочные поверхности оберегаются от тлетворного воздействия времени. Искусство существует в некоей витринной вечности, и хотя под витриной указан „период“ (поздний модерн), времени в ней нет. Эта вечность придает галерее характер лимба: чтобы туда попасть, нужно быть уже мертвым. В самом деле, присутствие твоего тела, этого странного предмета интерьера, кажется здесь излишним, чуждым вторжением. Пространство галереи наводит на мысль, что в ней рады глазам и умам, но не телам, занимающим слишком много места, — их терпят разве что в качестве кинестетических манекенов для дальнейших исследований. Этот картезианский парадокс заостряет одна из «икон» нашей визуальной культуры — фотоснимок экспозиции без посетителей. Со зрителем наконец покончено. Мы смотрим выставку, не будучи на ней: таков один из ценнейших подарков искусству от фотографии, его давней соперницы. Вид экспозиции — метафора галерейного пространства. В нем безукоризненно реализован идеал: не менее безукоризненно, чем другой идеал — в салонной живописи 1830-х годов.
Действительно, парижский Салон имплицитно утверждал определение галереи, сообразное эстетике XIX века. Галерея — это помещение со стеной, занятой картинами. Стена как таковая не имеет эстетической ценности, она просто необходима для прямоходящего существа. Выставочная галерея в Лувре, запечатленная в 1833 году Сэмюэлом Ф. Б. Морзе, пугает нынешний глаз: шедевры покрывают стену, как обои, почти сливающиеся друг с другом и не обособленные, как то подобает их статусу. Даже если отвлечься от ужасного (с нашей точки зрения) нагромождения периодов и стилей, требовательность подобной развески к публике выше всякого понимания. Чтобы рассмотреть верхний ряд картин, пришлось бы забраться на ходули, а ради нижнего — встать на четвереньки. Оба эти участка — второстепенные. Впрочем, художники сплошь и рядом жаловались на то, что их «закинули» слишком высоко, но никогда — на то, что их «прижали к полу». Картины внизу по крайней мере доступны, в том числе и для «пристального» взгляда, необходимого ценителю, прежде чем отойти на более предпочтительное расстояние. Можно себе представить, как зрители XIX века расхаживают по залу, всматриваются в холсты, чуть ли не утыкаясь в них, составляют кружки обсуждающих работы поодаль, указывая тростями на детали, потом снова принимаются ходить от картины к картине. Большие полотна размещены вверху (так от них легче отойти) и иногда немного наклонены к зрителю; «лучшие» вещи висят посередине; нижний ряд отдан маленьким картинам. Хорошей является в данном случае развеска, собирающая холсты в искусную мозаику, которая полностью скрывает стену.
Какой закон восприятия может оправдать такую, как нам кажется, дикость? Только один: каждая картина воспринималась как автономная сущность, совершенно обособленная от своих соседок, благодаря массивной раме и собственной перспективной композиции. Пространство галереи было раздельным и ранжированным, так же как и в жилых домах, разные комнаты которых имели разные функции. Интеллект XIX века был склонен к классификации, а глаз того времени ценил иерархию жанров и авторитет рамы.
Как станковая картина стала этим аккуратно упакованным участком пространства? Открытие перспективы хронологически совпадает с возникновением станковой картины, а станковая картина со своей стороны подтверждает исходящее от живописи обещание правдоподобия. Фреску, написанную на стене, и картину, на стене висящую, связывает необычное отношение: на смену расписной стене приходит переносная часть стены. Границы установлены и обозначены рамой; уменьшение становится эффективным ограничением, которое скорее содействует, чем препятствует иллюзии. Пространство стенной росписи обычно неглубоко: даже когда неотъемлемой частью замысла является создание видимости глубины, целостность стены сколь отрицается, столь и упрочивается архитектурной декорацией. Стена как таковая всегда воспринимается как ограничение глубины (пройти сквозь нее невозможно), подобно тому как углы и потолки (также давая повод для изобретательных решений) ограничивают объем. Вблизи фреска не может скрыть своих ухищрений: иллюзия лопается вместе с мыльным пузырем ее метода. Мы чувствуем, что видим основу картины, и часто теряемся в поисках своего «места». Фреска вычерчивает двусмысленные, плавающие векторы, к которым зрителю приходится приноравливаться. Станковая картина сразу дает ему понять, где он находится.
Она похожа на переносное окно, которое, попав на стену, пронизывает ее глубиной. Этот сюжет многократно повторяется в северном искусстве: окно внутри картины не только обрамляет даль, но и подтверждает окнообразные границы рамы. Эффект магической шкатулки, который вызывают маленькие северные картины, связан с обнаружением в них при ближайшем рассмотрении огромных расстояний и бесчисленных деталей. Рама станковой картины — такое же психологическое вместилище для художника, как для посетителя галереи — зал, в котором он находится. Перспектива укладывает всё внутри картины в пространственный конус, по отношению к которому рама выступает модульной сеткой, перекликающейся с участками переднего, среднего и дальнего планов. В такую картину «заходят», решительно или непринужденно в зависимости от ее тональности и колорита. Чем сильнее иллюзия, тем активнее она зовет зрителя внутрь. Глаз отделяется от привязанного к своему месту тела и становится его миниатюрным представителем в картине, осваивающим и тестирующим участки ее пространства.
Надежная рама так же необходима для этого процесса, как кислородный баллон необходим водолазу. Пограничная служба рамы бдительно охраняет происходящее внутри. Вплоть до XIX века край пользуется в станковой живописи статусом абсолютной границы. Если изображаемая сцена урезается или выносится «за кадр», то только для того, чтобы укрепить край. Классическая перспективная упаковка, поддерживаемая массивной рамой, позволяет холстам жаться на стене друг к другу, как рыбам в бочке. Ничто не дает повода связать пространство внутри картины с тем, что ее окружает.
В XVIII–XIX веках намеки на подобную связь делались лишь эпизодически, а тем временем передача атмосферы и поиски в области колорита понемногу разрушали перспективу. Пейзаж дал рождение прозрачной световоздушной среде, в которой перспектива и тон/цвет вступили в противоречие, так как их отношение к стене, на которой висит картина, оказалось противоположным. Появились картины, теснящие раму. Типичная для них композиция — это идущий от края и до края горизонт, разделяющий небо и море и нередко подчеркнутый лентой побережья, иногда с фигурой, непременно обращенной к морю. Формальная композиция исчезла, не осталось никаких рам внутри рамы — кулис, темных передних планов, всех этих брайлевских транскрипций перспективной глубины. Одна двусмысленная поверхность, частично ограниченная изнутри горизонтом. Такие картины (создававшиеся Курбе, Фридрихом, Уистлером и многими другими) балансируют между бесконечной глубиной и плоскостностью и благоприятствуют орнаментальному прочтению. Эффективное ограничение горизонта позволяет им достаточно легко преодолевать барьеры рамы.
Эти картины наряду с другими, сосредоточенными на случайном обрывке пейзажа, который порой кажется выбранным «неудачно», ввели представление о ненаправленном обозрении, о беглом взгляде. Ускорение ви́дения делает раму двусмысленной, уже не абсолютной границей. Зная, что фрагментация пейзажа продиктована решением исключить всё, что вокруг него, мы волей-неволей представляем себе, каким может быть пространство за рамой. Рама становится скобками. Отдаление картин на стене друг от друга становится неизбежным: они словно физически отталкиваются. Эту тенденцию подстегнула и охотно переняла новая наука (она же искусство), чьим призванием стало изъятие предмета из его контекста, — фотография.
В фотографии главным решением является выбор границ изображения, так как она слагает в определенную композицию или, наоборот, разлагает на части то, что попадает в ограниченное поле кадра. Поэтому изоляция, кадрировка, обрезка стали ее важнейшими композиционными средствами. Но это произошло не сразу. В ранней фотографии сохранялся сложившийся в живописи обычай обрамлять композицию внутренними «опорами» — подходящими для этого деревьями или холмами. Впрочем, наиболее талантливые из первых фотографов работали с краями по-новому, без помощи живописных конвенций. Они смягчали края, стараясь сохранить естественную композицию предметов вместо того, чтобы выстраивать их вдоль границ кадра. Возможно, это типично для XIX века, который интересовался именно предметами, а не границами. Области знания развивались тогда самостоятельно, в своих установленных пределах. Изучение не столько самой области, сколько ее границ, уточнение этих границ с целью их расширения — пристрастие XX века. Нам кажется, что мы увеличиваем область познанного, когда раздвигаем ее вширь, а не продвигаемся вглубь, как поступал в присущем ему перспективном стиле XIX век. Наука двух столетий очень по-разному понимала край и глубину, предел и определение.
Фотография быстро нашла способ отстраниться от тяжелой рамы, уложив снимок на картонную подложку. Между ним и рамой возникло нейтральное поле паспарту. Ранняя фотография, таким образом, сохранила представление о крае изображения, но снизила его риторический пафос, умерила его власть, сделала его пусть не сугубо условной линией — таковой он станет позднее, — но уже протяженной зоной. Так или иначе, идея края как надежного ограждения сюжета пошатнулась.
Многое из сказанного выше применимо и к импрессионизму, одной из важных тем которого был край как посредник между внутренним и внешним. Но в данном случае переосмысление края форсировал куда более значимый процесс — начало решительного прорыва, которому суждено было изменить представление о картине, о развеске картин, а в конечном счете и о пространстве галереи: зарождался миф плоскостности, ставший впоследствии логическим стержнем борьбы живописи за самоопределение. Прокладка неглубокого буквального пространства, вмещающего формы, созданные художником, в противовес «реальным» формам, которым давало место старое пространство иллюзии, потеснило позиции края еще сильнее. Ключевые открытия здесь совершил, разумеется, Моне.
Масштабы начатой им революции таковы, что нет уверенности в соразмерности ей собственных достижений художника, ведь Моне следовал определенным ограничениям, которые сам для себя установил и внутри которых предпочитал находиться. Его пейзажи часто кажутся созданными на пути приближения к реальному сюжету или отдаления от него. Складывается впечатление, что Моне останавливается на некоем промежуточном решении; само отсутствие в пейзаже каких бы то ни было характерных черт расслабляет наш взгляд, избавляет от потребности искать в картине что-то существенное. «Неформальный» импрессионистский сюжет всегда заявлен, но увиден каким-то случайным, безучастным к своему предмету взглядом. Что у Моне замечательно, так это «взгляд» на сам взгляд — обнаружение световой оболочки вещей, часто кажущаяся простодушной реконструкция восприятия с помощью точечного кода цвета и мазка — кода, который остается (до самых последних работ художника) безличным. Края, мешающие восприятию сюжета, кажутся случайным решением, как будто граница картины могла бы проходить немного левее или, наоборот, правее. Уменьшение структурной роли края за счет случайности выбора сюжета в сочетании с натиском на тот же край со стороны сплющивающегося пространства очень характерно для импрессионизма. Этот двойной и несколько противоречивый акцент на крае — предвестие трактовки картины как самодостаточного объекта: вместилище иллюзорного факта само становится фактом первостепенной важности, устремляющим нас к волнующим эстетическим вершинам.
Первой декларацией плоскостности и объектности стали в 1890 году известные слова Мориса Дени о том, что картина — это поверхность, покрытая линиями и красками, и только затем — композиция на определенный сюжет. Это одна из тех формул, которые могут звучать гениально или довольно глупо в зависимости от духа времени. Сейчас, зная, к чему могут привести антиметафоричность, антиструктурность, антииллюзия и антисодержательность, мы слышим в утверждении Дени общее место. Плоская картина — бесконечно истончающаяся оболочка модернистской целостности — порой кажется просто созданной для иронии в духе Вуди Аллена, и она уже вызвала немало ернических реплик. Каковые, однако, упускают из виду тот факт, что миф о картинной плоскости возрос на почве ее многовековой службы делу иллюзии. Модернистское ниспровержение этого мифа было героическим шагом, отразившим совершенно новое мировоззрение, которое позднее было доведено до банальности в эстетике и «технологии» плоскостности.
Буквализация картинной плоскости — большая тема. По мере сужения вмещающей содержание среды ее друг за другом покидали композиция, сюжет, метафизика, пока опустошение, как, говоря о Пикассо, констатировала Гертруда Стайн, не дошло до конца. Но весь отброшенный арсенал — иерархия жанров, иллюзия, гостеприимное пространство, бесчисленные мифы — вернулся в ином обличье и при помощи новых мифов обосновался на буквальных поверхностях, бесспорно их обесценив. Превращение литературных мифов в мифы тавтологические — такие, как объектность, единство картинной плоскости, равнозначность пространства, самодостаточность произведения, чистота формы, — еще дожидается своих исследователей. Без такого рода превращений искусство потеряло бы актуальность. В самом деле, перемены в нем часто лишь на шаг опережают устаревание, и в этом смысле его развитие повторяет законы моды.
Плодом совершенствования картинной плоскости явилась вещь с длиной и шириной, но без глубины, — своего рода перепонка, способная, согласно понятной биологам метафоре, к самопорождению собственных законов. Главный из них был усмотрен, разумеется, в том, что эта поверхность, сдавленная мощными историческими силами, не может быть прорвана. Ее узкое пространство, вынужденное изображать, не изображая, создавать символы, не опираясь ни на какие соглашения, произвело на свет множество новых соглашений без согласия между кем бы то ни было: цветовые коды, краски-подписи, персональные знаки, логически продуманные структурные концепции. Кубистские структурные схемы поддерживали статус-кво станковой живописи: картины кубистов центростремительны, их интенсивность нарастает к центру и ослабляется к периферии (не потому они склонны к малому размеру?). Более действенный способ установить пределы классической композиции в условиях двусмысленности краев нашел Сёра. Нередко он окаймлял свои холсты «внутренними» рамами из цветных точек, призванными отделить и очертить сюжет. Эти рамы-полосы как бы поглощают медленные движения ограниченной ими структуры. В других случаях, чтобы ослабить резкость краев, Сёра покрывал точками настоящую раму, чтобы взгляд мог беспрепятственно выходить за пределы картины и возвращаться назад.
Но лучше всех совладал с дилеммой картинной плоскости и ее стремления вовне Матисс. Его картины становились чем дальше, тем больше, словно глубина по воле топологического парадокса переводилась в ее плоскостной аналог. Место обозначалось теперь такими характеристиками, как верх и низ, лево и право, рисунком, который почти никогда не замыкает контур, не позволяя поверхности как-либо его подорвать, и цветом, который закрашивает всю поверхность с безучастным к ее различиям удовольствием. Глядя на большие холсты Матисса, мы не задумываемся о раме. Он с удивительным тактом разрешал дилемму горизонтального распространения и границ. Акцента на центре в ущерб краям или на краях в ущерб центру у Матисса не найти. Его картины не посягают на пустые участки стен. Они отлично выглядят почти везде. Гибкая, не скованная формой структура в сочетании с декоративной предусмотрительностью делает их замечательно самодостаточными. Их легко вешать.
Развеска картин — вот тема, которую нам следовало бы изучить глубже. Ее обычаи со времен Курбе остаются совершенно неисследованными. Между тем характер развески основывается на предпосылках, касающихся восприятия произведений. Развеска высказывается об их текущей интерпретации и оценке, бессознательно впитывая импульсы общественного вкуса и моды. В свою очередь публика столь же бессознательно считывает ее послание. Полагаю, есть все возможности соотнести «внутреннюю» историю живописи с «внешней» для нее историей развески. И начать здесь следовало бы не с официальных форм демонстрации искусства (как тот же Салон), а с капризов частных коллекционеров, составлявших у себя в кабинетах элегантные композиции из картин XVII–XVIII веков. Вероятно, первым случаем в истории модернизма, когда художник организовал при помощи развески собственное выставочное пространство, был персональный «салон отверженного», устроенный за стенами Салона 1855 года Курбе. Как он развесил свои картины? В какую последовательность он их выстроил, как обыграл их взаимоотношения и промежутки между ними? Думаю, ничего особенного он не сделал, и всё-таки это был первый случай, когда художник-модернист (к тому же тот, кого стали считать первым художником-модернистом) сам создал контекст для своих работ и тем самым вынес суждение об их ценности.
Даже радикальные для своего времени картины развешивали, как правило, традиционно. Заключенные в произведении указания в отношении его контекста, судя по всему, осознаются не сразу. Импрессионисты на своей первой выставке в 1874 году расположили картины почти вплотную — так же, как в Салоне. Прямо заявляющие о своей плоскостности и о неопределенности границ, импрессионистские картины и поныне экспонируются в традиционных золоченых рамах, функция которых лишь в том, чтобы сообщить им статус шедевров «старых мастеров» и предметов роскоши. Когда Уильям Ч. Сайц в 1960 году снял рамы с картин Моне для его блистательной ретроспективы в нью-йоркском Музее современного искусства, «раздетые» холсты можно было принять за репродукции, пока не становилось видно, как они овладевают стеной. Хотя та памятная развеска были не лишена эксцентричности, она точно уловила связь картин со стеной и явилась редким случаем кураторской решимости следовать за контекстными импликациями материала. Некоторые картины Моне Сайц повесил заподлицо со стеной. Вписавшись в стену, они словно переняли жесткость фрескового письма. «Сверхбуквализация» картинной плоскости огрубила их поверхность. Зримо выявилось различие между станковой картиной и фреской.
Отношение между картинной плоскостью и стеной за нею основополагающе для эстетики поверхности. Два сантиметра толщины подрамника в эстетических мерах равносильны пропасти. Станковую картину нельзя перенести на стену — интересно, почему? Что потеряется при подобном переносе? Края, поверхность, текстура холста, отрыв от стены. Глядя на картину, мы всегда помним, что она висит на стене или крепится к ней как-то иначе, что она — ценность движимая, находящаяся в обращении. После веков иллюзионизма кажется вполне обоснованной мысль о том, что эти параметры, вне зависимости от того, насколько поверхность плоскостна, суть последние прибежища иллюзии. В большинстве своем картины, вплоть до живописи цветового поля, остаются станковыми и реализуют свою буквальность вопреки остаткам иллюзионизма. В самом деле, эти остатки как раз и делают буквализм интересным, составляя своего рода секретный ингредиент диалектического топлива, снабжающего энергией позднемодернистскую станковую живопись. Скопировав образец последней на стену и повесив рядом оригинал, можно было бы убедиться в том, насколько существенна доля иллюзионизма в чистейших генах буквальной картины. Вместе с тем грубое фресковое письмо обнаружило бы важность поверхности и краев для станковой картины, которая обретается ныне в смутной, определяемой «буквальными» пережитками иллюзии зоне объектности.
Атакам, предпринятым на живопись в 1960-х годах, стоило позаботиться об уточнении, что их мишенью была не живопись, а станковая картина. Консерватизм живописи цветового поля представлял интерес, но только не для тех, кто понимал, что станковая картина неспособна избавиться от иллюзии, и отвергал возможность чего-то, спокойно висящего на стене и никому не мешающего. Меня всегда удивляло, что живопись цветового поля, да и позднемодернистская живопись вообще, не пыталась посягнуть на стену, не искала сближения между станковой картиной и росписью. Впрочем, живопись цветового поля соответствовала в этом смысле, и весьма настораживающе, социальному контексту. Она оставалась салонной: ей требовались большие стены и крупные коллекционеры, она неизбежно выглядела как высшее достижение капиталистического искусства. Напротив, ясно осознавал иллюзии, присущие станковой живописи, и не питал иллюзий в отношении общества минимализм. Вот уж кто не вступал в союз с богатством и властью, и его отчаянная попытка пересмотреть отношения художника с институциональной средой еще ждет своих исследователей.
Помимо живописи цветового поля следует упомянуть еще несколько изящных попыток позднемодернистского искусства выжать что-то еще из непокорной картинной плоскости, которая в своих нынешних буквалистских воплощениях выглядит уже убийственно глупо. На сей раз стратегия основывалась не на метафоре (убеждении), а на сравнении (выдаче одного за другое) — на заявлении, что картинная плоскость — «то же самое, что…» Многоточие заменялось чем-либо плоским, послушно укладывающимся на буквальную поверхность и сливающимся с нею, будь то Флаги Джонса, классные доски Сая Твомбли, огромные закрашенные «листы» линованной бумаги Алекса Хея или «записные книжки» Аракавы. Подавалась картина и как «то же самое, что занавеска», и как «то же самое, что стена», и как «то же самое, что небо». Обо всех этих «то же самое, что…» можно было бы написать неплохую комедию нравов. Подобных картинной плоскости вещей множество, в их числе и сама перспективная схема, сплющенная до двух измерений ради демонстрации дилеммы. Прежде чем оставить эту область мрачного в конечном счете юмора, отметим еще разрезы картинной плоскости (как говорил о своем жесте такого рода Лучо Фонтана, он «разрубил гордиеву поверхность»), доходящие до полного разрушения картины и вторжения в штукатурку стены. Наконец, к тому же кругу решений относится снятие картины вместе с поверхностью и краями с прокрустова подрамника и ее укладка на полу: ради пущей буквализации бумагу, стекловолокно или ткань прибивают, приклеивают или просто расстилают у стены. В связи с этим под рубрику художественного мейнстрима попала — кстати, впервые — значительная часть лос-анджелесской живописи; немного странно, когда всё ту же одержимость поверхностью, пусть даже и приправленную калифорнийским мачизмом, принимают подчас за провинциальную дерзость.
Все эти отчаянные усилия лишний раз убеждают в том, насколько консервативным движением был кубизм. Он продлил жизнь станковой живописи и отсрочил ее упадок. Кубизм можно было свести к системе, а системы преобладают в академической истории искусства, так как по сравнению с искусством их легче понять. Система — разновидность рекламы, продвигающая помимо прочего довольно одиозную идею прогресса как того, что происходит в результате устранения оппозиции. А в модернизме твердым оппозиционным голосом был Матисс, и этот голос спокойно, рационально говорил о цвете, который до такой степени пугал кубистов, что они долго предпочитали серую гамму. Клемент Гринберг в книге Искусство и культура рассказывает, как нью-йоркские художники преодолевали кубизм, небескорыстно оглядываясь на Матисса и Миро. Абстрактные экспрессионисты пошли по пути горизонтального распространения, отказались от рам и чем дальше, тем больше видели в крае структурную единицу, призванную ввести картину в диалог со стеной, на которой она висит. В этот момент из-за кулис явились галерист и куратор. Решив совместно с художником, как нужно демонстрировать получившиеся работы, они способствовали в конце 1940-х и в 1950-х годах самоопределению новой живописи.
В 1950–1960-х умами завладела новая проблема: сколько пространства необходимо произведению искусства, чтобы оно, как говорят, «дышало»? С тех пор как в картинах заложены требования к окружающему пространству, игнорировать их обиженное ворчание друг на друга стало сложнее. Что можно повесить рядом, а что нельзя? Эстетика развески развивается по мере формирования собственных обычаев, которые становятся конвенциями, а затем и законами. Мы вступили в эпоху, когда произведения искусства «воспринимают» стену как ничейную землю, открытую для проекции их представления о территории. Недалеки войны за контроль над границами: они уже назревают в «балканских конфликтах», то и дело вспыхивающих на музейных групповых выставках. Глядя на то, как произведения борются за территорию, а не за место в контексте современной галереи — никаким местом та давно уже не является, — испытываешь странную неловкость.
Все эти маневры на стене сделали ее отнюдь не нейтральной зоной. Будучи уже не пассивной опорой, а действующим лицом искусства, стена стала ареной противоборства идеологий; всякое новшество должно занимать по отношению к стене определенную позицию. (Остроумной репликой на эту тему стала выставка Джина Дэвиса, представившего затерянные в огромном пространстве микрокартины.) Как только стена превратилась в самостоятельную эстетическую силу, она начала менять всё, что бы на ней ни оказалось. Будучи контекстом искусства, она наполнилась содержанием, исподволь переходящим и на произведения. Выставка отныне делается под определенное пространство, которое художник обследует, словно санинспектор, изучая эстетику стены, которая сама придаст его работам «художественные качества», и вовсе не обязательно соответствующие замыслу. Мы в большинстве своем «считываем» развеску так же, как жуем жвачку, — бессознательно и автоматически. Решающим для раскрытия эстетического потенциала стены импульсом стало открытие, которое теперь, в ретроспективе, приобрело силу исторической неизбежности: станковая картина не обязана быть прямоугольной.
Ранние фигурные картины Фрэнка Стеллы имели, в соответствии с породившей их внутренней логикой, края в виде наклонных или ломаных линий. (Одним из немногих доступных критику инструментов для работы с ними остается различение индуктивной и дедуктивной структур, предложенное Майклом Фридом.) Эти картины активизировали стену: взгляд устремлялся по заданным линиям на поиск ее границ. Представленная Стеллой в 1960 году у Лео Кастелли выставка U-, T- и L-образных полосатых холстов «мобилизовала» каждый миллиметр стены, от пола до потолка, от угла до угла. В тесной окраинной галерее завязался беспрецедентный диалог между стеной и параметрами картин — плоскостью, краями, форматом. Картины были выставлены так, что впечатление серии и обособленности каждой из них вступили в соперничество. Развеска оказалась не менее революционной, чем произведения: став частью эстетики, она теперь эволюционировала параллельно картинам. Отказ от прямоугольного формата окончательно закрепил самостоятельность стены, тем самым навсегда изменив концепцию галерейного пространства. Часть мистики неглубокой картинной плоскости (одного из трех основных факторов реорганизации галереи) передалась контексту искусства.
Вернемся с учетом сказанного к типичному снимку экспозиции, о котором говорилось выше: просторные помещения, безупречно строгий декор, выстроенные редкой вереницей, словно дорогие бунгало, картины. В качестве последних сразу приходят в голову образцы живописи цветового поля — стиля, особенно авторитарного в своем требовании Lebensraum [жизненного пространства (нем.), понятие геополитической теории Ф. Ратцеля. — Пер.]. Картины встречают зрителя с такой же ободряющей надежностью, как колонны в классическом храме. Каждая из них берет себе столько пространства, сколько ей требуется, чтобы исполнить свою роль, прежде чем в дело вступит соседка. Иначе возникнет единое поле восприятия, живописный ансамбль, умаляющий уникальность каждого холста. Снимок экспозиции живописи цветового поля следует признать одной из завершающих точек модернистской традиции. Есть какое-то невыразимое великолепие в этом слиянии картины и галереи в единый контекст, всецело одобренный обществом. Нельзя не почувствовать себя свидетелем триумфа возвышенно-серьезного и вместе с тем рукотворного продукта, подобного сверкающему в зале автосалона «Роллс-Ройсу», который начинался некогда с несусветной конструкции в сарае за домом.
Каким может быть комментарий? Например, таким, как выставка, показанная Уильямом Анастази в 1965 году в нью-йоркской галерее Dwan. Анастази сфотографировал пустой зал, снял все размеры стен, отметил местонахождение электрических розеток, подсчитал площадь свободной поверхности. Затем все эти данные были перенесены шелкографическим способом на холсты, немного уступающие в размерах стенам, на которые они затем и были повешены. Закрыв стены их собственными изображениями, Анастази ввел произведение искусства в самую сердцевину ключевого для модернизма диалога между картинной поверхностью, росписью и стеной. История этого диалога послужила сюжетом его картин — сюжетом, раскрытым с остроумием и убедительностью, какие редко встретишь в письменных исследованиях. И еще, по крайней мере на меня, выставка Анастази произвела необычный отложенный эффект: когда картины сняли, стена сама стала своего рода настенным реди-мейдом, тем самым повлияв на все дальнейшие выставки в этой галерее.
Перевод: Дарья Прохорова