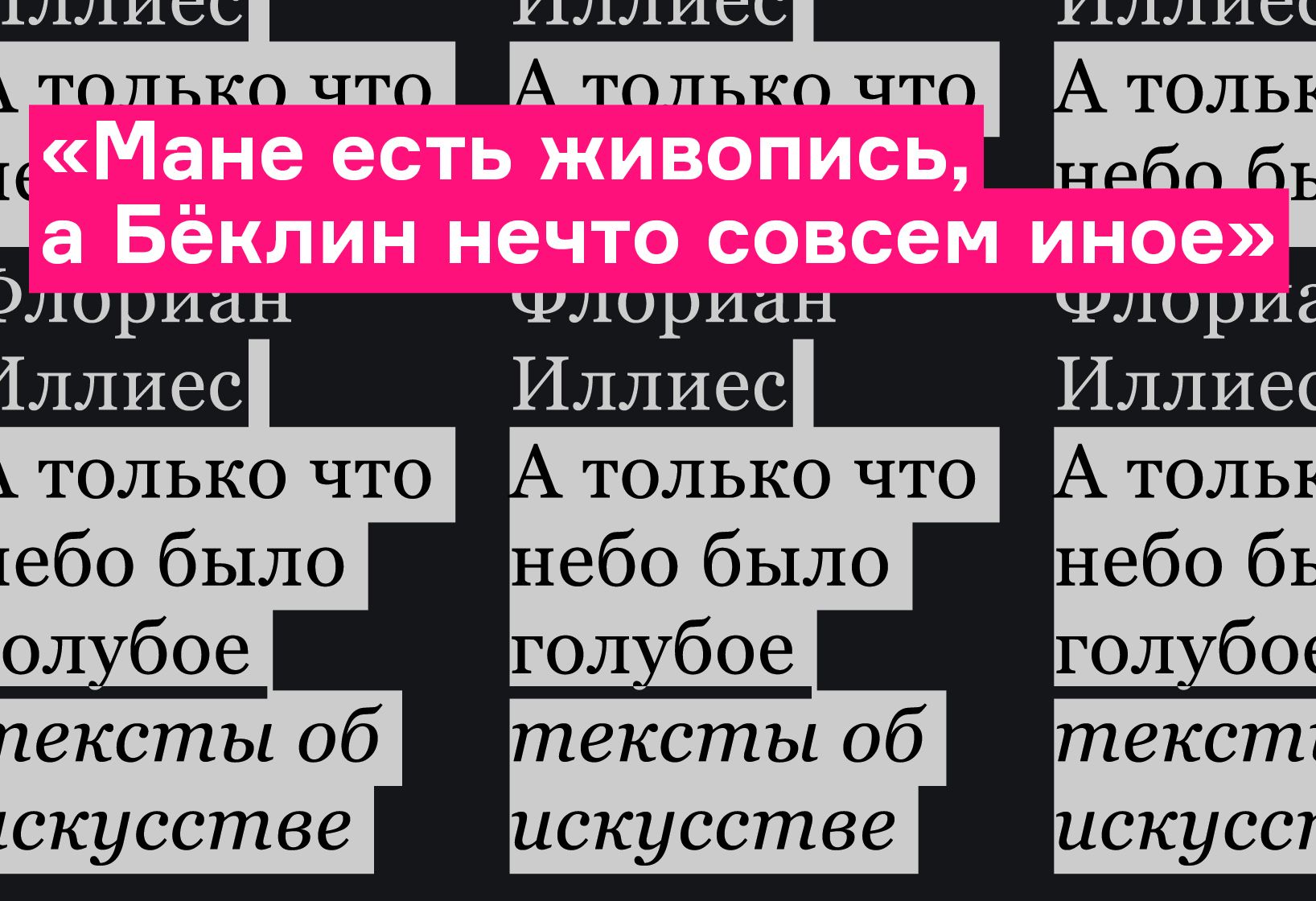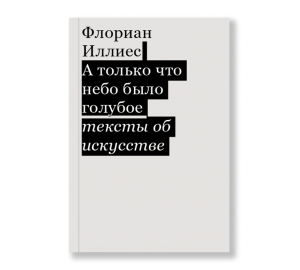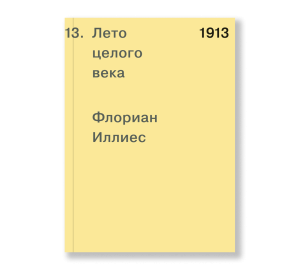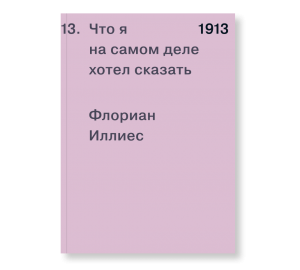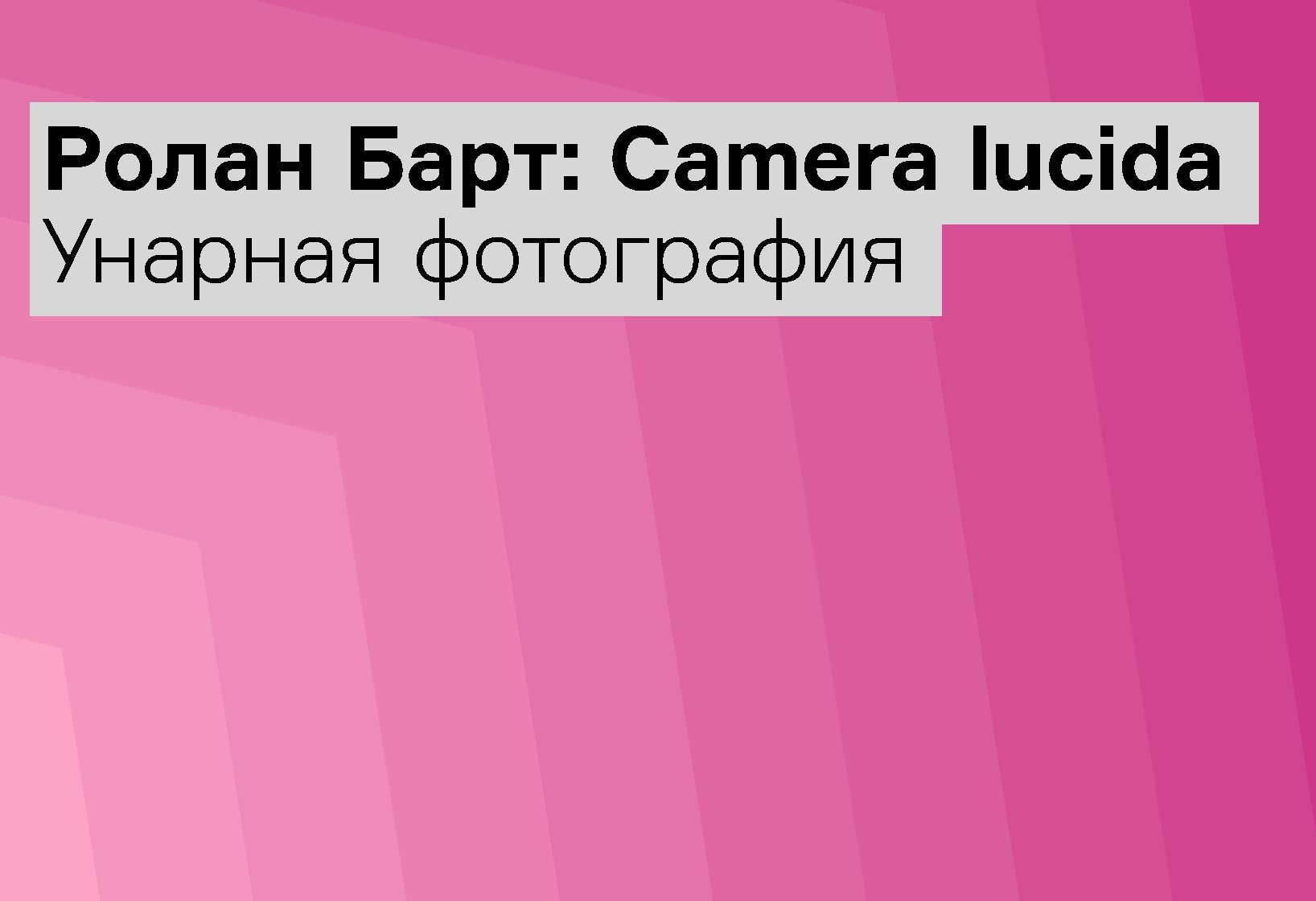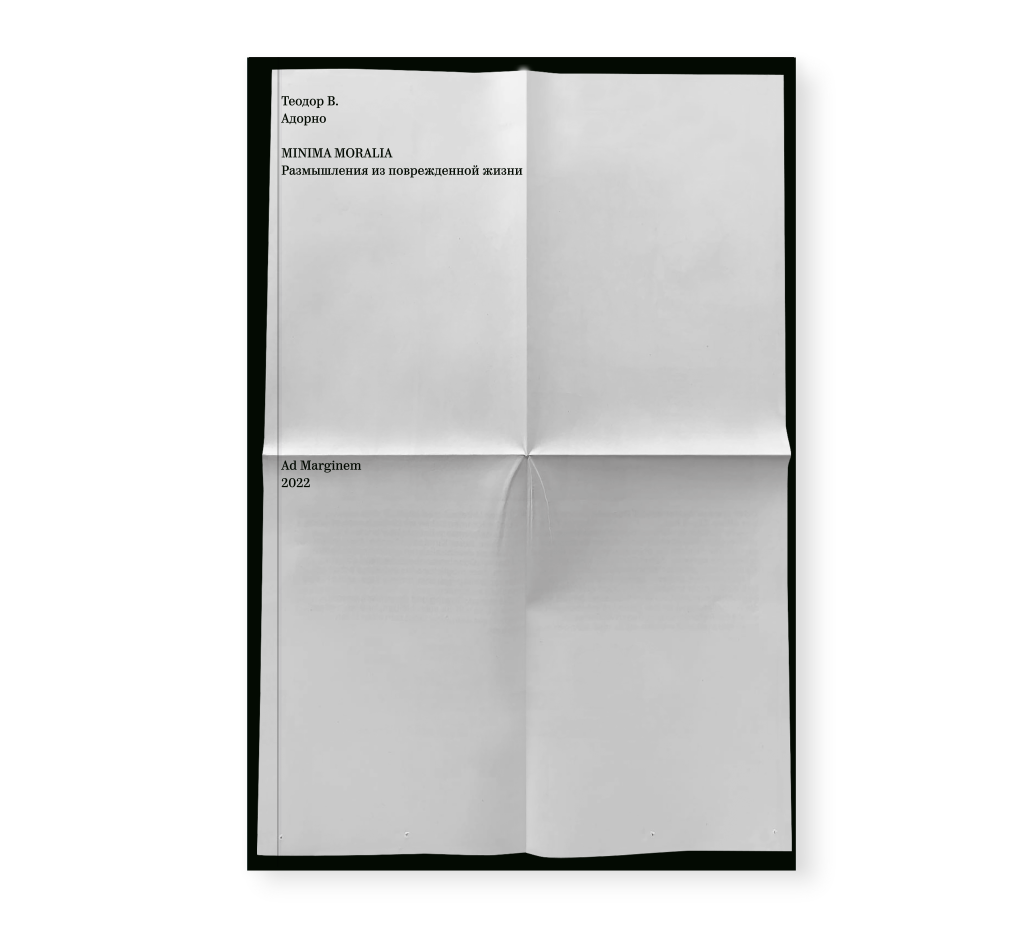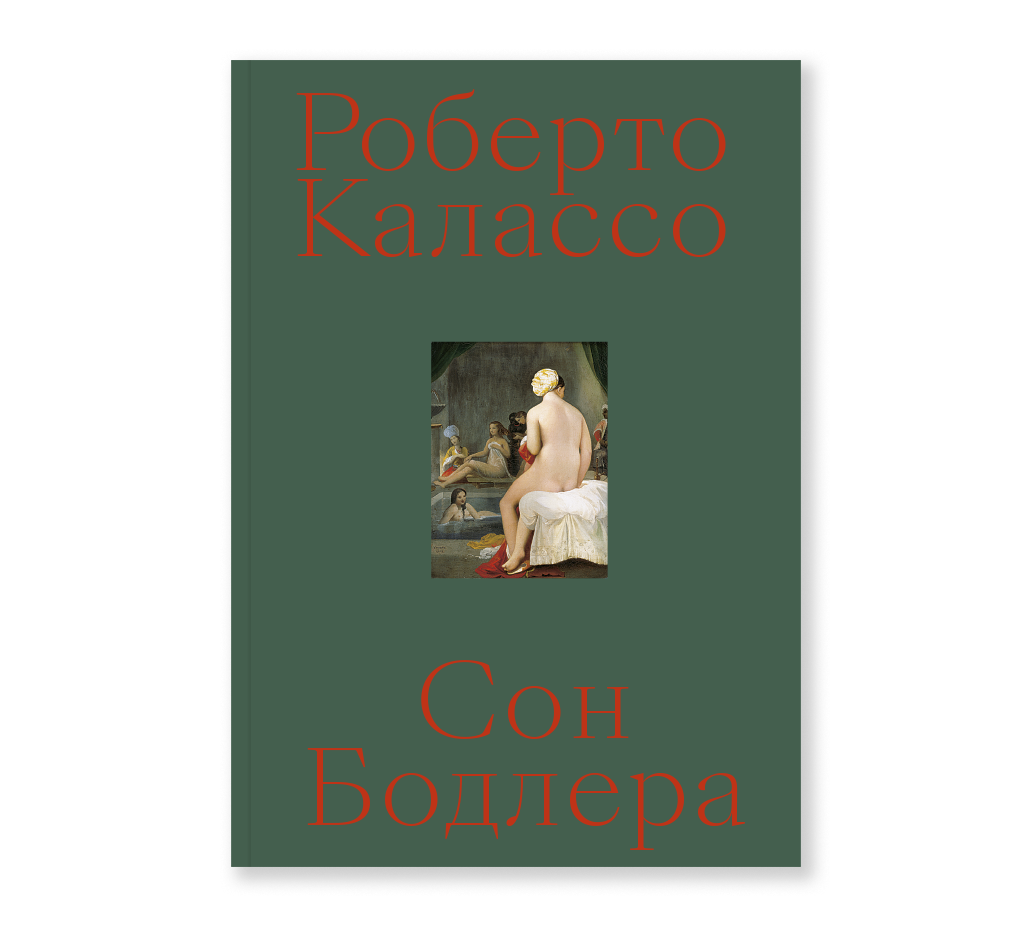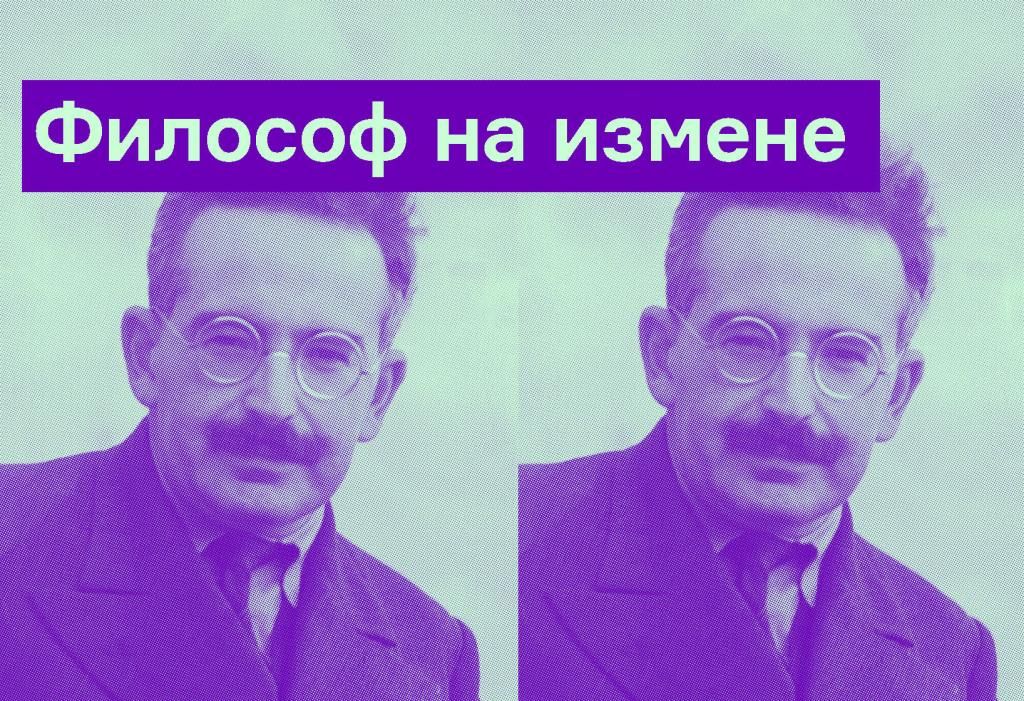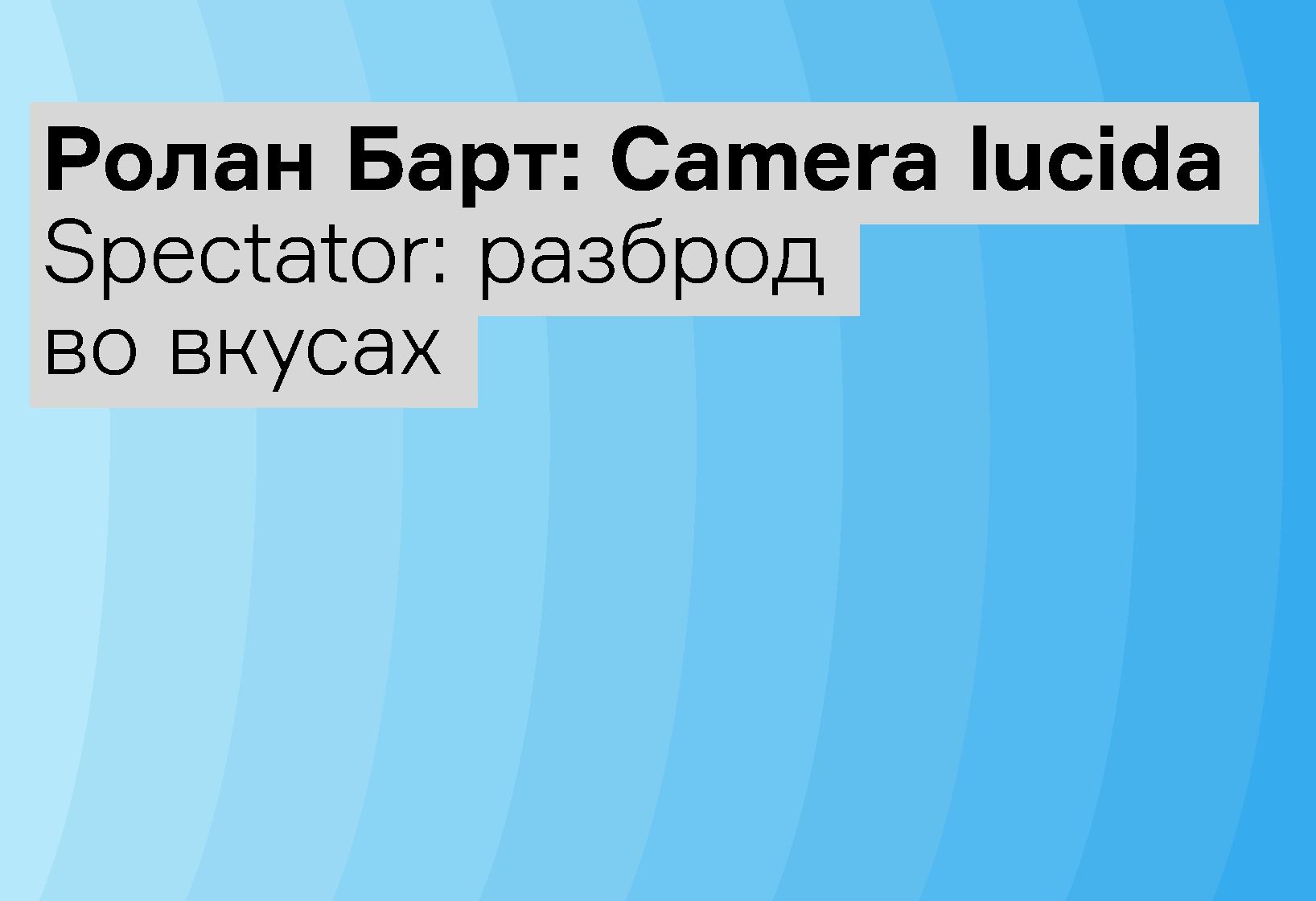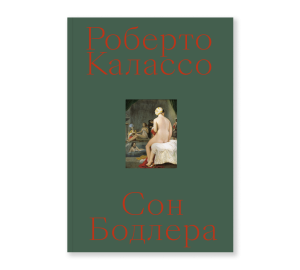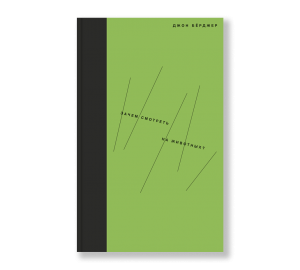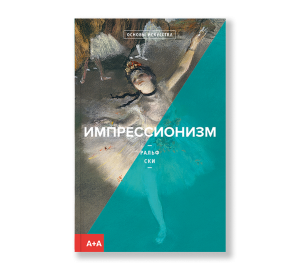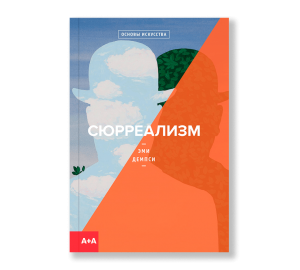Сегодня в нашем издательстве вышла электронная антология От картины к фотографии. Визуальная культура XIX-XX веков. Мы собрали в ней тексты Вальтера Беньямина, Зигфрида Кракауэра, Роберто Калассо, Розалинд Краусс и Джона Бёрджера. Публикуем текст Калассо Мономания Энгра, который вошел в антологию из ранее изданной нами книги Сон Бодлера.
Энгр принадлежал к числу тех редчайших людей, сущность которых целиком сводится к гениальности. Остальные его черты — нетерпимость, ограниченность, высокомерие, напыщенность — легко могли бы стать предметом нападок. Гений уравновешивал их с «фатальностью», которой, по мнению Бодлера, Энгру как раз недоставало. Вопиющая нелепость. Без живописи Энгра девятнадцатый век был бы лишен того металлического абстрактного света, который, не будучи ни естественным, ни потусторонним, ни искусственным, чем-то близок к утрированной реальности работ Элинги и Торренция.
«Китайский художник, заблудившийся в девятнадцатом веке на развалинах Афин» — эта характеристика Энгра, данная еще при жизни художника Теофилем Сильвестром, отразилась и на нашем сегодняшнем восприятии. Меж тем Энгр никогда не проявлял интереса ни к Китаю, ни к китайским произведениям искусства. Преклонялся он, как известно, перед Рафаэлем и греками. Почему же своему проницательному современнику он казался китайцем? Быть может, слова Сильвестра косвенным образом указывали на то, что больше всего сбивало с толку: чем старательнее Энгр подчинялся всевозможным канонам — становясь то греком, то назарейцем, то адептом готики либо Возрождения, в зависимости от изображаемой им эпохи, — тем очевиднее становилась его чуждость всему этому. Взгляд его фиксировал различные страницы истории так, словно принадлежал китайцу с «чистым и тонким сердцем» (как напишет Малларме): он подмечал все без исключения детали и копировал их, сохраняя при этом отстраненность по отношению к изображаемому предмету. Эта отстраненность изначально свойственна живописи Энгра и запрятана так глубоко, что сам Энгр едва ли догадывался о ее существовании. Более того, с точки зрения провозглашаемых им правил и принципов она должна была отвергаться как пагубное веяние нового времени.
То, что изображено на самых удачных картинах Энгра, похоже, не прошло через какой-то вербальный или концептуальный фильтр и напоминает покрытую лаком эктоплазму. С первых шагов Энгра в искусстве критики упорно пытались найти в его работах какой-то изначальный дефект. «Недостает природы», — говорили они, хотя сам художник не уставал превозносить ее. Или же обнаруживали у Энгра «радикальную неспособность воспринимать то, что в природе радует глаз», как писал Робер де Ла Сизеран в 1911 году, высказывая мнение, бытовавшее не одно десятилетие. Однако в этом мнении было что-то неубедительное — даже для тех, кто его разделял. Потому что, как замечал все тот же Сизеран, «этот чертяка сумел лучше всех выразить ту малость, которую ему удалось поймать». Что же это была за «малость», что за кусочек реальности, столь удачно переданный в работах Энгра? И что из реального мира могло быть им столь удачно поймано? Эти вопросы никто никогда не задавал. Возможно, потому, что они относятся не к области искусства, а скорее к метафизике и касаются того, кто — можно без колебаний это утверждать — в метафизике ровным счетом ничего не смыслил. По словам Валери, услышавшего это от Дега, «Энгр говорил, что карандаш должен скользить по бумаге так же легко, как муха ползает по стеклу».
Теофиль Торе достоин упоминания главным образом потому, что именно он задолго до Сванна «открыл» Вермеера и извлек его из мрака, где было непонятно все, начиная с написания его имени. Впрочем, этим заслуги Торе не исчерпываются. Когда Бодлер начал писать рецензии на Салоны 1845 и 1846 годов, единственным его соперником, от которого можно было ожидать чего-то подобного, был Торе. В те времена Бодлер нередко бывал у него, и это продолжалось до тех пор, пока политические причины не заставили Торе перебраться в Бельгию. Там много лет спустя Бодлер «с превеликим удовольствием» разыскал его. В одном из писем Анселю он описывал Торе с примечательной язвительностью: «Торе, хоть и республиканец, всегда отличался элегантностью манер».
Как для Бодлера, так и для Торе критично отзываться об Энгре, комментируя экспозицию Салона 1846 года, было делом принципа. Первый стремился громко заявить о своем желании примкнуть к сторонникам Делакруа; для второго Энгр был новоиспеченным диктатором, который на еще «не остывшем пепле Луи Давида и его династии» намеревался завладеть короной. Однако к тому моменту в защиту Энгра не было написано ничего, что бы по точности и эмоциональности могло сравниться с критическими замечаниями Бодлера и Торе. Никто не умел так, как Бодлер, пусть даже наспех и нехотя, описывать картины Энгра. И никто, кроме Торе, не сумел так полно изложить теорию, которой Энгр тайно следовал — при том что внешне подчинялся совсем другим принципам. Уверенно, непринужденно, как будто утверждая очевидное, Торе определил Энгра как классический пример фанатика формы. Лишь ей удается противостоять времени, тем самым даруя художнику египетскую вечность: «В сущности, господин Энгр является самым романтическим художником девятнадцатого столетия, если романтизм понимать как любовь исключительно к форме, как полное безразличие ко всем тайнам человеческой жизни, как скептицизм в философии и политике, как эгоистическую враждебность чувству общности и единства. Доктрина искусства ради искусства является, в сущности, своего рода материалистическим брахманизмом, адепты которого поглощены не созерцанием вечного, а манией внешней, преходящей формы». В этом высказывании нет ни одного неверного слова, а точность последних удручает.
Однако сложно представить себе что-то, еще дальше отстоящее от общепринятого мнения, вокруг которого не утихали несуразные схватки между Энгром и его противниками. Концепция «искусства ради искусства» была разработана Готье в предисловии к увидевшему свет в 1835 году роману «Мадемуазель де Мопен»; это была защитная реакция против постоянно растущего стада глупцов, требовавших от искусства «быть полезным». Впрочем, имелся в этом и эзотерический аспект, выявлявший другое: неукоснительное преклонение перед формой и его главенство над любыми другими задачами.
Однако в то время, когда Торе создавал свои тексты, никому и в голову не могло прийти применить концепцию «искусства ради искусства» к Энгру. Ему гораздо лучше подходила роль величественного, исполненного праведного гнева, ярого защитника «классичности» — любой классичности — против испорченности нового времени, наиболее ярким выразителем которой стал Делакруа.
Энгр пережил бурные эпохи, нигде, даже в уголке письма, не оставив ни единой пометки, позволявшей судить о том, как он воспринимал происходившее вокруг. Смены режимов означали для него разве что сокращение или увеличение количества заказов. Исключительно по этой причине падение Мюрата явилось для него горестным событием, так как повлекло за собой исчезновение великолепной «Спящей неаполитанки», которая была написана Энгром для Каролины Мюрат и пропала без вести. Торе был несгибаемым республиканцем — «всегда: до, после и во время». После 1848 года он будет пожинать плоды своей политической деятельности. По этой причине позиция Энгра не вызывала у него никакой симпатии. Тем не менее именно ему мы обязаны первым намеком на тип личности одержимого мономанией художника: «Таким образом, господин Энгр идет против отечественной традиции и, в частности, против недавно созданной концепции Луи Давида. Правда, от творчества Давида во французской школе кое-что останется: пристрастие к благородным поступкам и воодушевление перед актами героического самопожертвования. Но Брутов, Сократов, Леонидов сменили одалиски. У художника больше нет мнения: он опирается только на фантазию и тем самым отмежевывается от других людей, презирая с высоты своей гордыни все перипетии обыденной жизни». Диагноз поставлен отменно, хоть и сформулирован довольно комично. Брут и Леонид, наконец, исчезают, и взметнувшийся занавес являет нам одалисок. Такова заря нового искусства — и возвещал ее тот, чьим ежедневным занятием были гневные выступления именно против нового. Колдовскую игру смыслов, наполнявшую Салон, так никто и не разгадал. Впрочем, Торе сумел уловить не только это соотношение между двумя противоположными формами искусства. Его глаз способен был рассмотреть в отдельно взятых картинах Энгра нечто такое, чего не видели другие: «Живопись господина Энгра сродни тому, что называется примитивным искусством народов Востока, иначе говоря, раскрашенной скульптуре. С чего начинается искусство у индийцев, китайцев, египтян, этрусков? С барельефа, на который наносят краски; затем рельеф убирается, и остается лишь его контур, очертания, линия; нанесите цвет на внутреннюю часть этого примитивного рисунка — и вы получите живопись; но воздух, пространство там напрочь отсутствуют». Отсутствие воздуха и пространства, плоскостное изображение, лишенное атмосферы и глубины, — вот к чему много лет подряд подспудно стремился Энгр, продолжая называть себя «подлинно-историческим художником» (peintre de haute histoire) и выполняя официальные заказы, посвященные торжественным событиям. Но в то же время он сделал все, чтобы одалиски незаметно заняли место, предназначенное для героев. Энгр вполне соответствовал образу фанатика формы, описанному Торе. Правда, не знал об этом — либо ему не было до этого никакого дела; по крайней мере, он обращал на это не больше внимания, чем на собственное дыхание. Он просто дышал. В отношении всего остального у него имелся набор твердых принципов — не представляющих теоретического интереса, — к которому он обращался по любому поводу с видом глубоко оскорбленного человека. Современники ему верили. Что еще важнее — они не сомневались в том, что его живопись полностью соответствует его словам. Так Энгр прошел через свое время: подобно новейшему кораблю, который наблюдатели принимали за старую галеру.
Все очевидцы, описывая Энгра, отмечали комичность его облика. Теофиль Сильвестр, разумеется, и тут проявил чрезмерное усердие (вероятно, чтобы угодить Делакруа), создав нарочито недобрый, ядовитый и слишком реалистичный портрет художника: «Господин Энгр — крепкий, коренастый, потрепанный жизнью старик шестидесяти пяти лет; грубая внешность его удивительно контрастирует с вычурным изяществом его полотен и непомерными претензиями на олимпийское совершенство; со стороны его можно принять за удалившегося от дел рантье или испанского кюре в гражданском платье; цвет лица желтый, желчный; глаза черные, живые, недоверчивые, сердитые; редкие, подвижные брови; узкий, скошенный лоб на сужающемся к макушке черепе; короткие жесткие волосы, когда-то жгуче- черные, а теперь с проседью, расчесанные на две стороны и разделенные, как у женщин, пробором; большие уши; взбухшие вены на висках; торчащий вперед крючковатый нос, кажущийся коротким из-за длинной верхней губы; мясистые обвисшие щеки; выступающие скулы и подбородок, массивная челюсть, толстые надутые губы.
Похожий на одетого в городское платье слоненка, состоящий из бесформенных обрубков, он твердым шагом идет вперед на своих коротких ногах; движения его резки и порывисты; не держась за перила, он вприпрыжку сбегает по лестнице и, пригнув голову, ныряет в экипаж. Будь в его крови меньше буйства, он мог бы прожить целый век. Внимательная забота о себе вкупе с вызывающими манерами делают его по меньшей мере на двадцать лет моложе. Трудно оставаться серьезным в присутствии этого великого пошляка, лоб которого увенчан тройной короной: ночным колпаком, лавровым венцом и нимбом. Он никогда не смеется, опасаясь уронить собственное достоинство; что, впрочем, не мешает ему фамильярничать с натурщицами, горничными или продавцом книг на углу». Тут Сильвестр останавливается, будто перевести дух после того, как Энгр его усилиями сгинул в пучине гротеска.
Однако вскоре атака возобновляется — теперь уже на почве теории: «В отличие от Давида, подчинившего форму мысли, Энгр преследует цель создать культ формы путем упразднения мысли как таковой; свести задачу Искусства к чувственному и бесплодному созерцанию грубой материи, к ледяному безразличию перед тайнами души, волнениями жизни, судьбой человека, таинством созидания; при помощи прямых и изогнутых линий достичь пластического абсолюта, воспринимающегося как начало и конец всех вещей. Он создал новых Адама и Еву, но даже не заметил, что забыл наделить их душой. На какие заблуждения обречена по его вине французская школа и сколь велика его ответственность!»
Некоторые в высшей степени достойные примеры (среди которых — Вагнер, зачисленный Ницше в декаденты, и Стравинский, критикуемый Адорно) доказывают, что наиболее лестный отзыв вполне может поступить от злейшего врага — и именно тогда, когда тот, кажется, готов нанести сокрушительный удар. Теофиль Сильвестр, разумеется, не Ницше и тем более не Адорно, что видно уже по его прозе. Тем не менее несколько фрагментов его текста могут помочь нам приблизиться к разгадке тайны Энгра. «Культ формы путем упразднения мысли как таковой» — не в этой ли формулировке со крыто указание на отличие Энгра от его современников? «Упразднение», уничтожение мысли как необратимый акт высшей силы, как последняя возможная дань (в литургическом смысле) во славу формы и является той самой точкой, где фигура Энгра оказывается в полном одиночестве. Это то, что в учении Дзэн называется no mind, безмыслием, но применительно к «культу формы». Это подобно тайной концепции западной живописи, которая уже проступает в работах Вермеера и Шардена. Только теперь она проникает в портреты людей, у которых есть имя и история, портреты, в которых человеческая фигура имеет максимальную значимость. Эта тайная концепция никуда не делась, ее можно проследить в вазе, в шали, в складке на шелковой ткани. При этом все детали картины в своем таинственном и необъяснимом единстве стремятся к «пластическому абсолюту, воспринимающемуся как начало и конец всех вещей». Все точно так, как говорил Теофиль Торе. А «чувственное и бесплодное созерцание грубой материи»? Это новый подход к восприятию неодушевленных предметов. Что же касается «ледяного безразличия к тайнам души», то здесь Энгр даже предстает в образе невольного денди, достойного восхищения, настолько он окружен непрекращающимся и неприглядным мельтешением человеческих душ.
Энгр за работой: «Плотный, коренастый» человек, не видящий, насколько он смешон, бегает по своей мастерской на вилле Медичи, полагая себя Селевком, и бросается на постель, чтобы создать эффект скомканных простыней.
Энгр заявлял о себе, что он чужд своему времени, и любил, когда окружающие его поддерживали. Впрочем, угрюмый и мрачный Сент-Бёв не попался на эту удочку: «Господин Руайе-Коллар, равно как и господин Энгр, принадлежат нашему времени ровно настолько, насколько хотят дистанцироваться от него… Но связь со своей эпохой неизбывна и очень прочна, сколько ни пытайся ее разорвать». Время внесло в этот пункт ясность: нетерпимость Энгра заложена в самую основу современности — или, по крайней мере, того непродолжительного периода, когда в слове «современный», употребляемом Бодлером, ощущалась чарующая вибрация дерзости. Энгр мог сколько угодно рассуждать о Рафаэле и о «безупречности» рисунка — исходившие от него мощные флюиды от этого не ослабевали.
Живопись Энгра ближе скорее к Бронзино, чем к почитаемому им Рафаэлю. Более того: у своего кумира Энгр мало что взял. Рафаэлевские мягкость и плавность были ему чужды. Мир Энгра состоит из металла, камня, эмали, ткани.
Душа в нем присутствует не как таковая, а как водоворот, выплескивающийся в видимое. По-прежнему отдавая должное, как и многие его современники, идеалу красоты, Энгр демонстрировал на холсте нарочитое равнодушие к идее, словно та была помехой для возвышенного занятия живописью. Разумеется, его сентенции, равно как и его проклятия, имели иную подоплеку, но пройдет несколько лет — и другой мастер, член всевозможных академий, Кабанель, столь же яростно будет бить в набат по поводу деградации живописи, только на этот раз речь пойдет о Мане. Средства экзорцистского ритуала каждый из мэтров выбирал в соответствии с ситуацией. Но в обоих случаях эти средства были сколь чрезмерны, столь и бессмысленны.
По сути своей Энгр был невежествен, точнее, невосприимчив к культуре — в той же степени, в какой Бодлер был ею пропитан до мозга костей и потому не испытывал нужды в непрерывном развитии и самообразовании. При этом Энгр, разумеется, всячески демонстрировал свое почтение к классикам и всегда имел под рукой произведения некоторых из них (немного, около двадцати томов, и только самых известных, которых можно было найти в недорогих изданиях). Однако, взявшись за перо, он не умел изъясняться иначе как «грубо, коснояызчно, не выбирая выражений, напрочь игнорируя правила грамматики и правописания».
Как будто в его голове все еще функционировал древний участок мозга, как у рептилий, у которых подавлено левое полушарие. Энгр только внешне был современником своей эпохи. На самом деле он мог бы найти себе место в любой цивилизации, где ценилось не столько искусство, сколько изготовление талисманов.
В силу исторических причин Энгр пережил те же политические режимы, что Талейран и Шатобриан. И даже на один дольше. Он пережил все основные этапы современности, начиная со Старого режима и кончая Второй империей, и в придачу пародии на них. Однако в его случае невозможно говорить ни о верности, ни о предательстве или смене взглядов. Будучи человеком цельным — насколько вообще возможно таковым быть, — он «с абсолютным беспристрастием отдал свой карандаш и талант на службу всех форм власти — Первой империи, Реставрации, Июльской монархии, — не делая никаких различий между принципами правления и испытывая разве что возрастающую симпатию к деспотизму». Достоверный тон этого свидетельства Шарля Блана соскальзывает в язвительность. Этот опасный защитник умудрился высмеять Энгра так, как это не удавалось ни одному из врагов художника: «В плане общественного права Энгр отличался ограниченностью самого реакционного буржуа; он был недалек от Прюдома. Ничтожнейшая малость, способная нарушить видимое равновесие вещей, казалась ему тяжким преступлением и ввергала едва ли не в эпилептический припадок. Он, который обычно и мухи не обидел бы, оказавшись во власти своей инфантильной ярости, требовал ареста, суда и истребления всех обитателей вселенной».
Энгр правил рисунки своих учеников ногтем большого пальца, «оставляя глубокий след» на листе. Этот «глубокий след», оставленный без участия какого-либо инструмента, был последним оттиском формы — немой и самодостаточной силы, отпечатывающейся в сознании и предшествующей любому искусству. «Точность его исправлений поражала нас всех», — отмечал Амори-Дюваль.
С учениками Энгр занимался молча. Если же доходило до беседы, то он оказывался способен лишь на «отдельные бессвязные слова, восклицания, беспорядочные жесты» — как, например, в лишенном смысла споре о Рафаэле с многоречивым Тьером. И даже если Энгр был прав, ему все равно не удавалось это доказать. Лишенный умения внятно выражать свои мысли, он отстаивал одну-единственную идею, невыразимую в словах: идею совершенства. Точнее, некоего подобия совершенства — «совокупности линий, драгоценных лишь тем, чего они ему стоили, или тем, что они не стоили ничего». Эти линии обычно не понятны ни для кого, кроме ничтожного числа знатоков, «наслаждающихся ими тайно и в одиночестве». Другие их просто не замечают. Что же имел в виду Энгр? Эти слова кажутся предвестниками эзотерической теории, не имеющей ничего общего с сентенциями о рисунке как мериле «чистоты искусства» и о долге художника подражать природе.
Энгр как будто предупреждает нас, что его знание является загадкой прежде всего для него самого. В одном из писем он говорит о «непонятных ощущениях», заставляющих его противиться всему, что его окружает. Эти странные слова напоминают другую историю: однажды Стендаль во время описанного им в дневнике путешествия по Италии вдруг остановился и сказал: «Эти тайны являются частью внутренней теории, о них никому нельзя рассказывать». Можно предположить, что на Энгра одновременно воздействовали две силы: внешняя теория, суть которой вполне очевидна, неоднократно изложена и малоинтересна, и «внутренняя», настолько глубинная, что никогда, за редким исключением, не достигала осознанного вербального выражения, однако водила рукой художника, когда он творил.
«Кто умеет копировать, умеет и творить» — кажется, именно эту фразу любил повторять Лоренцо Бартолини, учившийся вместе с Энгром в школе Давида. В случае Бартолини, впрочем, этот девиз не привел ни к каким серьезным последствиям. Для Энгра, напротив, он приобрел метафизический смысл, ускользавший как от него самого, так и от его современников. Сегодня он превратился во «внятную загадку», почти что вызов каждому, кто созерцает портреты и множество других картин Энгра — из тех, что не соответствуют «стилю трубадур».
«Он возвел в абсолют правило копировать, рабски копировать все, что попадалось на глаза»: будучи одним из учеников в мастерской Энгра, Амори-Дюваль много раз слышал эти слова — и почти буквально претворял их в жизнь. Мощь Энгра заключалась вовсе не в верности природе — принципе, который он провозглашал в расчете на то, что слово «природа» придаст этой максиме ореол благородства. Она состояла в копировании, причем не простом, а «рабском». В копировании всего. Максима, заимствованная у друга Бартолини, была, пожалуй, единственным принципом Энгра, воображавшего, что он буквально целиком состоит из принципов. Он будто спешил с неистовой яростью воспользоваться коротким отрезком времени, что оставался до вступления человечества в эру тиражирования образов, — чтобы продемонстрировать всему миру, что воспроизводить можно и иначе: не рассеивая могущество природы, а сосредотачивая его в копии, которая парадоксальным образом становится уникальной. Такое раболепное подчинение видимому — чем бы оно ни было — позволяло накрыть его светящимся листом, с металлическим лязгом замыкавшимся в себе и существующим впредь отдельно от модели. Недоброжелатели упрекали Энгра в том, что его живописи не хватает объемности. Однако, оглядываясь назад, Энгра можно назвать «китайцем» совсем по иной причине: он был мастером копирования, посланником цивилизации, стирающей грань между копией и оригиналом. Впрочем, он даже не подозревал об этом, подобные рассуждения показались бы ему сущим бредом. Но тот, кто, сидя в нем, водил его рукой — и ногтем, оставляющим борозду на бумаге, — действовал именно в этом направлении. Так, две ипостаси художника не взаимодействовали между собой и даже не ведали о существовании друг друга, тем самым соблюдая условия тайного пакта, служившего основой энгровского искусства.
Высказывания Энгра — или, по крайней мере, те фразы, которые принято считать таковыми, — являют столь же разительный контраст его творениям, как и его внешность. Даже Шарль Блан, высоко ценивший Энгра, описывал его следующим образом: «Приземистый, коренастый, грубый и бесцеремонный в обращении, Энгр соединил в своем облике черты, противоречащие его идеям и красоте изображаемых им женщин. У него были массивные челюсти и узкий лоб, жесткие, низко растущие волосы, широкие скулы, короткий нос, длинная верхняя губа и большой, плотоядный рот — иными словами, лицо, чуждое красоте, зато несущее отпечаток характера и силы. Это лицо было всегда суровым; пристальный, пронзительный взгляд черных глаз выдавал человека, стоящего выше черни, но также далекого от изысканности, он свидетельствовал скорее об обидчивости и мрачности». Этот вполне зоологический портрет напоминает картину Жан-Батиста Дезе: обезьяна перед мольбертом собирается писать фигуру повернутой к зрителю спиной обнаженной женщины. Впрочем, модели, которых писал Энгр, были куда более привлекательными.
Разговор об Энгре — это разговор о женщинах Энгра. На это намекал Бодлер, когда рассуждал о его «безудержном и почти либертинском влечении к красоте». В живописи подобный неистовый либертинаж сродни фетишизму. Но не в том смысле, который был вложен в это слово сластолюбивым восемнадцатым веком. В Энгре было что-то до такой степени первобытно-неукротимое, что механизм славы, сочтя это постыдным, постарался все стереть. Но только этот немой, отделенный от культуры фон позволяет судить о том, сколь большое значение играл для Энгра фетиш. Энгру были чужды слова, эти главные элементы членораздельной речи. Друзья и почитатели старались не замечать, что знаменитый художник так и не постиг премудрости французской орфографии. Но шила в мешке не утаишь. Так, Шарль Блан не удержался и записал, что Энгр «почти всегда коверкал имена собственные. К примеру, он так и не научился правильно писать имя своего лучшего друга, мсье Гатто».
Без маниакально-эротической подоплеки живопись Энгра представляет собой «невероятное напряжение воли». Все меняется, однако, если за напыщенным прославлением Красоты увидеть возведенное в абсолют преклонение перед женщиной. Современники обошли вниманием эту тему — все, за исключением, разумеется, Бодлера, который по крайней мере однажды ее озвучил: «Нам представляется, что одной из отличительных черт дарования господина Энгра является любовь к женщине. Его либертинизм серьезен и убедителен. Господин Энгр никогда не бывает столь счастлив и столь всесилен, как в те моменты, когда его гений сталкивается с прелестями молодой красоты. Женская плоть с ее округлостями, складками, ямочками — ничто не укроется от внимания художника. Если бы «Паломничество на остров Киферу» заказали г-ну Энгру, результат наверняка получился бы не таким веселым и радостным, как у Ватто, но основательным и плодотворным, как античная любовь». Уже этого было бы вполне достаточно для дерзкого начала (автор строк — двадцатипятилетний Бодлер, еще подписывающий «Бодлер-Дюфаи» свои материалы в газете «Корсэр-Сатан»), но продолжение текста уводит в сферу личного: «В рисунке господина Энгра чувствуется особого рода поиск, определенные тонкости находятся на грани возможного и, может статься, являются результатом использования особых средств. К примеру, нас не удивило бы, если бы он прибег к услугам натурщицы-негритянки, чтобы придать еще большую выразительность формам „Одалиски“». Складывается впечатление, будто Бодлер предлагает Энгру в модели Жанну Дюваль.
«Устрашающее существо, общение с которым так же невозможно, как общение с Богом», балансирующее между безликой пустотой и «блеском всех красот природы, сосредоточенных в одном существе», женщина является причиной богословского раздора не только из-за своей причастности к первородному греху (который осмелились поставить под сомнение лишь теоретически недалекие философы Просвещения), но и по причине уникальной способности ее тела находить продолжение в металле, в минералах, в «сверкающем облаке окутывающих его тканей». Благодаря тайному союзу между женщиной и природой все ткани, в которые она облачается, становятся частью ее самой. В этом-то и состоит неизбывное чудо моды: систематическое присвоение человеком бездушной материи, без которой он утратил бы контакт с внешним миром.
Суждение о женщине, высказанное Бодлером в эссе, посвященном Константену Гису, могло бы быть проиллюстрировано портретами кисти Энгра. Нигде столь явно не проступает тайная связь между женщиной и обрамляющими ее драгоценными камнями, шалями, перьями, тканями, лепниной, деревом, металлами. Кардинальное различие между прозой Бодлера и живописью Энгра, созданными, казалось, для того, чтобы дополнять друг друга, заключалось в различии намерений: с одной стороны — Энгр со своими бесконечными присягами верности Рафаэлю, с другой — Бодлер со своей готовностью к провокации, в частности, когда рассуждает о женщинах и моде, попутно заявляя, что Рафаэль (и Винкельман) «тут не помогут», и при этом выражая готовность пожертвовать многим ради возможности «насладиться портретом кисти Рейнольдса или Лоуренса». Впрочем, намерения — это пустяк, когда речь идет о единоборстве разума и чувств. Совпадения, сходства чаще случаются между враждующими или вовсе не ведающими друг о друге соперниками, чем между мнимыми союзниками.
Подпись автора — обычно не самое удачное место в картине, если только художник не изобретет что-нибудь особенное. Самую изящную хитрость придумал Энгр для портрета мадам де Сенон. Эта чуть раскосая, известная своими вольными нравами уроженка Лиона, жившая в Риме так долго, что сходила за жительницу Трастевере, «не позирует как женщина, на которую смотрят; кажется, будто она просто скользнула взглядом по собеседнику, болтая с ним о пустяках, мало ее занимающих и почти не меняющих выражение ее лица». При этом Энгр дает зрителю возможность рассмотреть ее кольца (на двух руках их одиннадцать, причем пальцы довольно мясисты — приукрашивать увиденное отнюдь не в манере Энгра) и глубокое декольте, прикрытое вставкой из прозрачного муслина, которую крестьянки с юга Франции именуют modestie [досл. «стыдливость»; так называются кружева, прикрывающие грудь. — М. А.]. Работая над портретом, Энгр создал прелестный подготовительный рисунок, на котором грудь модели полностью обнажена, а платье красного бархата держится лишь на шелковых лентах.
За спиной дамы, восседающей на янтарного цвета шелковых подушках, темнеет большое зеркало, в котором мы видим отражение ее спины и угадываем очертания пилястра. Все остальное тонет в глубоком мраке, словно подушки, лежащие на краю бездны. Четкость линий женского тела безупречна, но волосы цвета воронова крыла практически сливаются с чернотой зеркала, от которой их отделяет лишь поблескивание камней диадемы. Темнота работает как аллегория, а рефлексы света добавляют рельефности ярко освещенной фигуре. Впрочем, родственникам виконта де Сенона до этого не было никакого дела, и портрет прокникшей в их семью чужеземки с сомнительной репутацией долгое время пылился у них на чердаке.
В нижнюю часть зеркальной рамы, как любовное послание или записка от близкого друга, вставлена визитная карточка с загнутым уголком, на которой написано: «Энг. Рим».
На Рождество 1806 года голова Энгра полна вполне языческих мыслей. Он пишет из Рима своим друзьям Форестье: «Я подумал, что Фетида, молящая Зевса за своего сына Ахилла, одной рукой обнимающая его колени, а другой тянущаяся к его подбородку, — отличный сюжет для картины, вполне соответствующий моим планам. Я не готов углубляться в детали этого олимпийского полотна, аромат амброзии от которого будет слышан за километры; не готов обсуждать персонажей, выражение их лиц и красоту их форм. Оставляю все это вашему воображению. Так или иначе, красота будет столь совершенна, что растрогает даже самых злобных псов, готовых растерзать меня. В моей голове картина почти готова, я ее вижу».
Итак, молодой постоялец виллы Медичи задумал написать полотно, «аромат амброзии от которого будет слышен за километры»; но как это сделать? Олицетворением античности в то время был Жан-Луи Давид. Предельно выразительные позы, зафиксированные жесты. Энгр знал кое-что об этом — он учился у Давида. Но где взять амброзию? В античности Давида не было ничего подобного. Энгр записывал в дневник возможные мифологические сюжеты: Геракл и Ахелой, Геба и Геракл, Пандора и Вулкан, эпизоды из жизни Ахилла. Все не то. Его внимание привлек жест, описанный Гомером: Фетида молит Зевса о милости к своему сыну Ахиллу, «одной рукой обнимая его колени, а другой — касаясь подбородка». А Гера в это время (так у Гомера) тайком наблюдает за происходящим. Энгр оставил карандашную пометку напротив соответствующего пассажа в своем экземпляре сочинений Гомера в переводе Битобе.За все прошедшие столетия художники ни разу не решились изобразить эту сцену из Гомера. Келюс в этой связи предположил, что они не принимали поэта в расчет,
потому что считали описанную им позу «чересчур простой, фамильярной, вульгарной и боялись навлечь на картину критику светского общества». Незадолго до Энгра Флаксман попытался проиллюстрировать эту сцену гравюрой — но не слишком убедительно. Рука Фетиды застыла в воздухе — а Зевс подпер подбородок своей: озадаченный патриарх. У Энгра, напротив, Фетида почти касается пальцем губ громовержца, прижимаясь обнаженной грудью к его бедру — поза давнишних любовников. Большой палец ее босой ноги касается его пальца. Эротика неоклассицизма еще не достигала таких вершин. Задуманное Энгром должно было воплотиться в грандиозное полотно: более трех метров в высоту и двух с половиной в ширину. Сцена, продуманная до мельчайших деталей, как будто перенесена из воображения художника сразу на холст, минуя кисти и краски.
Однако в 1811 году в Париже картину приняли плохо. Она вызывала у зрителей нечто среднее между замешательством и испугом. Если почитать комментарии к отчету Академии художеств, то возникает подозрение: а уж не поражал ли современников Энгра синдром частичной слепоты, когда они смотрели на его картины; и в будущем это будет продолжаться. Проблема восприятия касалась в первую очередь цвета — как будто он находился за пределами видимого спектра и потому был невидим глазу. Бодлер, пришедший в ярость от такой реакции, в какой-то момент написал: «Известно и общепризнанно, что живопись г-на Энгра серая. Откройте же глаза, стадо глупцов, и признайтесь, доводилось ли вам ранее видеть более яркую и блистательную живопись, большую изысканность тонов?» Как бы то ни было, Академия художеств вынесла по поводу «Зевса и Фетиды» следующее суждение: «Картина недостаточно рельефна и глубока, ей не хватает консистентности. Палитра слаба и однообразна. Цвет неба слишком однотонный, синий и тяжелый». И этот колорит — «слаб и однообразен»? Скорее уж вызывающе, неприлично избыточен. Французское государство, сначала купив картину, затем вернуло ее художнику. Тот не знал, куда ее пристроить. Спустя двадцать три года, вновь обретенная государством в результате сложной обменной операции — хитроумного маневра, придуманного Гране, старинным приятелем Энгра, с которого художник сделал один из лучших своих мужских портретов, — она оказалась в музее города Экс-ан-Прованс. Пройдут десятки лет, прежде чем Луи Жиле рискнет дать определение тому, что именно в ней смущало: «нечеловеческая сцена, гигантские размеры картины, вызывающие смутное беспокойство, дикий орел, угрожающе ультрамариновое небо, переходящее на горизонте в черные тучи,
сулящие грозу». Мастер, проповедовавший верность классической культуре и гармонии, выставил полотно, где «все непривычно и будто нарочно придумано, чтобы вызывать зубовный скрежет: утрированная яркость колорита, ядовитые эфир и озон, сочетание золота и индиго». Эта картина могла бы вызвать не меньше критики, чем в свое время «Завтрак на траве» Мане. Однако ничего такого не случилось — потому что она была запрятана в государственные запасники, а еще потому, что никто не решился связать с именем Энгра тройной скандал — эротический, хроматический и теологический. Скандал «ядовитого эфира». В картине есть и другой анахронизм: абсолютное отсутствие какой бы то ни было связи с предыдущей и последующей историей живописи. Если считать «Зевса и Фетиду» провозвестником чего-то или кого-то, то возникает лишь одно имя — американского иллюстратора Максфилда Пэрриша, редко когда поминаемого искусствоведами. Если бы не он, работа Энгра была бы подобна осколку метеорита.
Любому, кто смотрит сегодня на «Зевса и Фетиду», начинает казаться, что перед ним не картина, а гигантская переводная картинка. Что-то — и во времени, и в пространстве — отделяет этот более чем трехметровый прямоугольник от всего остального. Небесный свод за спиной повелителя богов не имеет ничего общего с небом за окнами музея. Его цвет — неизменная, неповреждаемая эмаль, быть может окружающая, говоря словами Гомера, «самую высокую из многочисленных вершин Олимпа». Что же касается Зевса и Фетиды, то они написаны совсем иначе, чем писал Давид, да и сам Энгр на заре своего творчества: будто с их уст готовы слететь возвышенные слова. Нет, они погружены в глубочайшую немоту, словно принадлежат к той геологической эре, когда слов еще не существовало, когда они были не нужны. Их тела как будто сделаны из минералов. Зевс левой рукой опирается на кучевые облака, которые, однако, тверды, как скалы. Мизинец его ноги чересчур мал по сравнению с другими пальцами: это выглядит чудовищно — но в те времена у всех было такое строение стопы. Взгляды орла и Геры, выглядывающей из-за кромки картины и замышляющей месть, устремлены на белую, бескостную руку Фетиды, тянущуюся к Зевесовой бороде. Гера чуть наклонена, как пространство эклиптики по отношению к оси мира, обозначенной жезлом, который Зевс сжимает в правой руке. В глаза сразу бросается то, что академики сочли отсутствующим в картине: рельефность, глубина, плотность, игра оттенков. Согласиться с ними можно лишь в одном: небо действительно выглядит «слишком одно образным и тяжелым». А тяжелое оно потому, что насквозь пропитано амброзией.
Сюжет был выбран Энгром потому, что этот жест Фетиды описал Гомер. Художник зацепился за эту деталь. Нимало не задумываясь о мифологической и теологической подоплеке, подчиняясь, как все гении, безотчетному порыву, он попал пальцем в небо.
Зевс и Фетида — единственная эротическая пара классической культуры, которую Энгр запечатлел на полотне. В других картинах женские фигуры либо одиноки, либо окружены другими женщинами; исключения — Афродита, раненная Диомедом, и Анжелика, ожидающая своего спасителя Руджеро. В обоих случаях сюжетной предпосылкой является акт насилия. Зевса и Фетиду мы, напротив, застаем в момент любовных объятий. (Антиопа же, заметим, всего лишь одалиска, преследуемая громовержцем.)
Что касается Зевса и Фетиды — это еще первая и главная пара, в которой союз невозможен. Вожделея Фетиду, Зевс вынужден отказаться от близости с ней, ибо в противном случае, согласно пророчеству Фемиды и Прометея, та зачала бы «сына, превосходящего силой отца», который сверг бы его с трона. Фетида для Зевса — конец его власти; в этом — исключительном — случае у него нет другого выбора, кроме как обуздать свой порыв.
Глядя на картину Энгра, мы осознаем, что Зевс, несмотря на всю его мощь, безоружен. Его могучий торс открыт и неподвижен. Единственное, едва уловимое движение совершает Фетида. Пальцы ее руки, аморфной, как щупальца обитателей моря, гладят бороду Зевса, другая рука лежит у него на коленях, большой палец босой ноги касается его стопы. Зевс в первый и единственный раз в жизни вынужден оставаться неподвижным. Уступить Фетиде — значит обречь себя на гибель. Взор его устремлен вперед; он отводит взгляд от тела искусительницы. Его фигура — олицетворение силы и в то же время глубочайшей тоски. Это заметил еще Шарль Блан, который, опустив мифологию, говорил о «лице, в котором величие сочетается с бесконечной печалью». Впрочем, физический контакт — ласкающие бороду пальцы, рука на бедре, прикосновение ноги — все же ему приятен. Становится ясно, почему от картины исходит столь мощное, почти болезненное эротическое напряжение. На ней изображено сильнейшее эротическое влечение. То, что мы видим, в высшей степени парадоксально. В сцене чувствуется запрет, тайна: неудовлетворенное желание владыки мира. Ему, кто подсматривал за нимфами и принцессами, а затем, подкараулив, набрасывался на них, невзирая на сопротивление, ему, единственному в своем роде непобедимому искусителю, озабоченному одним: чтобы Гера ничего не увидела, — попался орешек не по зубам. Вот он, предел политеизма, его подчиненность космическим циклам, из-за чего над любой властью есть другая, бóльшая: это — Время. Сложно сказать, был ли Энгр осведомлен о тайной связи Зевса и Фетиды. Вполне вероятно, он о ней не знал. Однако образы, порожденные мифами, существуют сами по себе — и появляются под кистью художника с той же легкостью, как и в бреде безумца.
Непристойность желания — вот что показал Энгр на своем необъятном холсте, притягивающем зрителя и заполняющем все его визуальное пространство. Шаг за грань дозволенного. До самой смерти художника картина не выставлялась, она так и не нашла покупателя. Критика обошла ее вниманием. Делаборд, автор первой монографии, отмеченной безоговорочным преклонением перед Энгром, едва ее упоминает. По сей день в объемной Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts указаны все картины Энгра на мифологические темы — все, кроме этой, самой грандиозной из всех. Жертвой пророчества Фемиды и Прометея оказался не только сам бог — но и его образ.
На месте Энгровской «Купальщицы Вальпинсона» могла бы оказаться любая модель, увиденная со спины. Склонная к полноте, она, конечно, проигрывает Кики с Монпарнаса, по воле Ман Рэя принявшей похожую позу для его «Скрипки Энгра». Картина, однако, остается непревзойденной. Из всех женских ню она ближе всего к полотнам Вермеера. Во-первых, из-за тканей, обрамляющих и драпирующих женскую фигуру. На голове модели — белый платок в красную полоску, накрученный на манер тюрбана: «единственный цветовой акцент в этом тонком, осторожном и бесшумном полотне»4. Вполне очевидно: Энгр был непревзойденным мастером по части украшать женские головки. Впрочем, пока еще мы не вышли за рамки традиции. В живописи волосы редко изображаются без украшений. Чего только не увидишь: ленты, шарфы, косынки, обручи, тиары, сеточки, сложные прически. У Энгра волосы ниспадают свободно только в двух картинах — «Одалиска с рабыней» и «Юпитер и Антиопа».
Взгляд, скользящий с головы на тело «купальщицы», вскоре обнаруживает еще одну ткань: светлая и тонкая, она накручена на левый локоть модели и ниспадает до земли. Понять, зачем она нужна, невозможно. Равно как и объяснить, почему в нее завернута рука. Разве что Энгру надо было противопоставить шелковистую кожу «купальщицы», гладь ее шеи, спины, ягодиц и ног — складкам на тканях. Первое место, где привлекают взгляд складки, это тюрбан; затем —скомканная ткань на локте: в ней едва ли не больше эротики, чем в самой купальщице. Но и это еще не все. Далее скомканная ткань спускается до пола, прикрывая ступню. В конечном счете женщина предстает в полной и безмятежной наготе, завуалированной лишь в трех местах: затылок (точка соединения головы и шеи — весьма ответственный момент), левый локоть и ступня. Во всем этом есть какая-то удивительная несуразность. И тем не менее мы постепенно приходим к выводу, что каждая деталь в этой композиции на своем месте. Ткань, древнее изобретение человека, нужное, чтобы преуспеть в этом мире, здесь свободна от всякой функциональности. Ее роль — быть контрапунктом телу, она подчеркивает его обтекаемость своими складками, узлами и заломами. Она создает определенные тени и через них то, что важнее всего в картине: свет. Но мы не можем с уверенностью сказать, откуда он льется.
Секрет «Купальщицы Вальпинсона» заключается в пространстве, куда помещена фигура: это не комната, а отгороженная шторами ниша, залитая ровным мягким светом. Понятно, что сцена скрыта от посторонних глаз — всех, кроме художника и стоящего за его спиной зрителя. Купальщица их словно не замечает. В картине есть и другая особенность — это фон, на первый взгляд представляющий серый занавес и показавшийся Шарлю Блану «унылой стеной холодного серого цвета». Однако стен, способных покрываться складками, подобно ткани, не существует в природе. И тем не менее ошибка Шарля Блана имеет объяснение. В том месте, где занавес касается пола, он ничем не отличается от серой стены. Под ним можно разглядеть отверстие, через которое в бассейн наливается вода. Действие происходит в хамаме. Эта картина — предвестник той самой турецкой бани, которая завладеет мыслями Энгра более чем на пятьдесят последующих лет. Первая проба останется в веках. В картине «Турецкая баня» 1862 года самая крупная фигура, ближе всех расположенная к зрителю, — это как раз «купальщица» 1808 года. Только на этот раз, чтобы развлечь подруг, она взяла в руки мандолину — хотя так и не рассталась с белым платком в полоску, как и пятьдесят четыре года назад намотанным на ее затылок. Теперь, правда, кто-то отдернул занавес — и вместо молчаливого одиночества нашим взорам открылась сцена с участием двадцати четырех обнаженных женщин. Они не образуют единой группы. В каждой из них осталась толика задумчивости и отрешенности «Купальщицы Вальпинсона». Кажется, эти двадцать четыре женщины, храня молчание на устах и неспешность в движениях, на протяжении пятидесяти четырех лет собирались в одном и том же месте, пока где-то за стенами дворца Наполеон одерживал победы и терпел поражения, сменяли друг друга политические режимы, рождалась фотография. Но эти женщины будто ничего не знали и не желали знать, занятые исключительно тем, чтобы запечатлеть свою позу на холсте, который в конце концов обрел форму круга — или зрачка, наблюдавшего за ними в течение всего этого времени.
«Купальщица Вальпинсона» подплыла к «Турецкой бане» не сразу, а с остановками — словно должна была глотнуть воздуха, выныривая на поверхность из глубин воображения. Вновь написанная Энгром в 1828 году, она сохранила белый платок на затылке, красные бабуши и ложе (не изменился даже рисунок складок, правда, куда-то делась подушка). Но самое главное — приподнялся занавес, дав возможность увидеть сцену, которая, возможно, была там всегда. В глубине видны шесть фигур, одна из которых плещется в бассейне.
Затем еще двадцать три года замысел держался в тайне. В 1851 году «купальщица» явилась в новом облике; сама картина была утрачена, но сохранилась гравюра Ревея и акварель Энгра, хранящаяся в Байонне. Сцена вновь изменилась. Та же поза, тот же белый платок в красную полоску — но исчезло ложе. Вместо него появился турецкий табурет, частично прикрытый брошенным на него платьем. Какая-то ткань по-прежнему обвивает локоть. На заднем плане — уже восемь женщин, одна из которых танцует, и бассейн. Вот последняя предварительная работа перед тем, как женские тела займут все пространство картины, пока еще четырехугольной. «Это слишком» — рассудила принцесса Клотильда. И Наполеон III, которому предназначалось полотно, отправил его прочь из Пале-Руаяля. Картина вернулась в мастерскую Энгра и, приобретя в результате доработки круглую форму, была впоследствии куплена Халиль-Беем, коллекционером всего, что считалось в то время недопустимым по причине эротической смелости (купил он и «Происхождение мира» Курбе). В конечном счете, в 1868 году он выставил ее на аукцион через каталог, предисловие к которому написал Теофиль Готье. Приобретя картину за двадцать тысяч франков, ее новым владельцем стал Констан Сэ. Халиль-Бей так прокомментировал это событие кому-то из своих друзей: «Смешная штука жизнь! С женщинами меня ждал обман, в игре — предательство, а мои картины принесли мне деньги!».
Вероятно, «Турецкая баня» обладает даром волновать ту субстанцию, что редко поднимается на поверхность из глубин психики. Даже такой обладатель безупречной светской репутации, как Жак-Эмиль Бланш, испытывает потребность извиниться за образы, рождающиеся под его пером, когда он рассуждает о картине: «Эти женщины с осоловевшими глазами — животные, созданные для наслаждений, влюбленные кошки, возлежащие в куче червей, если можно так выразиться по отношению к этим грешницам…» Бланша раздражает не эротическая составляющая, а «куча червей»: можно подумать, нижняя часть «Турецкой бани» изображает древний этап зоологической эволюции, предшествующий какой бы то ни было индивидуализации. Женщины или инфузории: разница между ними невелика.
Можно сказать, лица и груди этих «животных, созданных для наслаждений», рождаются из кишащей, еще неочеловечившейся материи. Вот что возникает в воображении, когда смотришь на «Турецкую баню». «Речь идет, — добавляет Бланш с неожиданной злостью, — о больном и извращенном вúдении старика, воспевающего женскую красоту». На этом неожиданном оскорблении можно было бы и остановиться.
Путь от «Купальщицы Вальпинсона» до «Турецкой бани» свидетельствует о мономании Энгра. Образы врезались в его сознание раз и навсегда; окружающее их пространство могло расширяться, меняться, но композиция, однажды отпечатавшаяся в мозгу, оставалась неизменной. За два месяца до смерти Энгр по-прежнему правил этюд Зевса, сделанный пятьюдесятью шестью годами раньше для картины «Зевс и Фетида», которая десятилетиями никого не интересовала и про которую художник Мартин Дроллинг, впервые увидев ее на вилле Медичи, написал своему сыну: «Может быть, Энгр хотел над всеми посмеяться?» Разумеется, смеяться ни над кем он не собирался — в частности, потому, что юмор был ему абсолютно не свойствен. Он всегда хотел лишь того, что внушала ему его мономания.
Так родилась «Турецкая баня»: композиция из двадцати четырех обнаженных женских фигур, лишенная сюжетного центра. В течение более чем пяти десятилетий эти ню постепенно заполняли пространство холста, словно мухи, попадавшие на липкую ленту. Надо сказать, центр у картины все же есть, правда немного смещенный влево. Это стоящая в нише огромная китайская ваза с синим орнаментом. Своим положением она сравнима с подвешенным яйцом на «Алтаре Монтефельтро» Пьеро делла Франчески. Разница лишь в том, что на вазе заметны рефлексы — только это и говорит о том, что внешний мир по-прежнему существует.
Энгр закончил «Турецкую баню» в восемьдесят два года, вписав квадратную композицию в круг. В течение почти полувека она была неведома для публики — пока не открылся Осенний салон 1905 года, на котором «один из залов был отведен двум художникам, дававшим повод для больших ожиданий». Этими художниками были Энгр и Мане. «Турецкая баня» притягивала посетителей как магнитом. Поль-Жан Туле, по воле случая давший великолепный отчет о происходящем, отмечал, что «зрители толпились вокруг картины, подходя вплотную, словно хотели ее лизнуть».
Несколько лет назад в ящике секретера Энгра были найдены четыре дагеротипа. На одном из них, сделанном Дезире-Франсуа Милле, мы видим стоящую на мольберте ныне утраченную картину. На заднем плане можно различить портрет мадам Муатесье, который теперь хранится в Национальной галерее искусств Вашингтона. Снимок сделан, без сомнения, в мастерской Энгра в Париже. На утраченной картине — лежащая на постели с закрытыми глазами обнаженная женщина. Ее левая рука закинута за голову, кисть правой руки лежит на животе между пупком и лобком. В лежащей можно узнать Мадлен Шапель, первую жену Энгра. Накануне нового брака художник избавился от картины, оставив себе лишь спрятанный в ящике дагеротип. Из соображений такта. Автор находки, Жорж Винь, предлагает эту версию, учитывая, что создание дагеротипа и второе бракосочетание Энгра разделяет короткий промежуток времени. Непосвященному зрителю дагеротип покажется одним из наиболее эротичных изображений начала фотографической эпохи. Его очевидная странность заключается в позе модели: она лежит не на спине и не на боку, а замерла в неудобном равновесии, позволяющем, однако, видеть ее тело анфас. Эффект, возникающий вследствие этого особого ракурса, создает иллюзию двоякой позы. Но напрасно мы будем искать в истории живописи аналог столь удачного изображения обнаженного тела — наполовину на спине, наполовину на боку. Что же заставило Энгра выбрать именно этот ракурс? Можно лишь сказать, что такая поза позволяет изобразить тело наиболее подробно, при ровном, мягком освещении, высветляющем правую грудь и левую сторону живота. Центром композиции является пупок женщины. Он как будто иллюстрирует слова Энгра: «Пупок — это глаз туловища». В итоге возникает эффект тотального видения: мы видим тело как будто сверху. Остается лишь спросить, почему до Энгра ни один художник не нашел и даже не пытался найти аналогичный ракурс. И еще: почему Энгр решил уничтожить картину, при этом сохранив ее фотографию? Ведь он, подобно многим своим современникам, отвергал этот способ запечатления реальности, отвергал настолько, что в 1862-м вместе с двадцатью шестью другими художниками подписал петицию, выражавшую решительный протест против «приравнивания фотографии к искусству».
Другая любопытная и случайная деталь: смуглый, почти как у мулатки, цвет кожи лежащей контрастирует в нижней части снимка с белизной простыни и подушки, а в верхней, меж планок мольберта, — с еще более яркой белизной пышных покатых плеч мадам Муатесье. Все это добавляет фотографии призрачности.
То, в какой позе изобразил Энгр обнаженную Мадлен, предполагает существенное отступление от традиционного живописного канона. Обнаженная женщина, возлежащая на подушках, — повторяющийся сюжет, который мы встречаем в картинах «Спящая Венера» Джорджоне, «Венера Урбинская» Тициана и «Олимпия» Мане. Во всех трех работах, несмотря на стилистические различия, просматривается кое-что общее: на лобке лежит именно левая рука — тогда как правая закинута за голову (у Джорджоне) или опирается на подушки (у Тициана и Мане). Левая грудь изображена в профиль, что создает ощущение, будто мы смотрим на фигуру сбоку. Внешне Энгр следует канону двух своих великих предшественников (Джорджоне и Тициана; Мане напишет свою «Олимпию» десятью годами позже, уже после появления дагеротипа картины). В основном он продолжает линию Джорджоне, из работы которого взяты три элемента: закрытые глаза, рука, закинутая за голову, и другая на лобке. Однако, отходя от канона, Энгр переворачивает фигуру. В результате на животе лежит правая рука, а за голову закинута левая. Кроме того, обе груди написаны фронтально, а рельеф, выделяющийся на темном фоне, образован плечом и рукой, лежащей на правом бедре. Обе Венеры — и Джорджоне, и Тициана — и тем более Олимпия Мане не отгораживаются от мира и не отвергают его. Венера Урбинская и Олимпия готовы к контакту с любым, кто войдет к ним в комнату; Венера Джорджоне способна пробудиться ото сна и приметить забредшего в ее владения странника. Мадлен Энгра, в противоположность им, своей позой напоминает карточную фигуру, замкнутую в себе и не желающую видеть мир сквозь смеженные веки. Лишь мягкому, рассеянному свету подставляет она свое тело, и кажется, будто за сбитыми простынями ее ложа — не комната, а пустота. Можно сказать, что на этот раз Энгр попытался избавиться, ни много ни мало, от пространства. В картине нет ни безмятежного пейзажа Джорджоне, ни тициановской просторной залы, в глубине которой две женщины роются в огромном сундуке; нет даже тесного темного алькова, в котором Олимпия ожидает своих клиентов. Это исключительно встреча женского тела (представленного до середины бедер, притом что сама картина, по-видимому, имела в ширину больше метра) и охватывающего его взгляда.
Если вокруг утраченного ню Энгра, сфотографированного Дезире-Франсуа Милле, убрать раму, мольберт и фрагмент портрета мадам Муатесье на заднем плане, то изображение обнаженного тела Мадлен Шапель можно было бы вполне принять за дагеротип, подобный тем, на которых фотограф Дюрьё запечатлевал некоторых натурщиц, например прославленную мадемуазель Амели; фото последней вошло в альбом, составленный Дюрьё для Делакруа, она стала прообразом «Одалиски», написанной художником в 1857-м. Таким образом, эта картина Энгра могла стать фотоматериалом для Делакруа, и два смертельных врага оказались бы связаны через призрачный образ первой жены Энгра, а жест мадемуазель Амели в образе одалиски Делакруа (закинутая за голову рука) мог быть повторен Энгром на рисунке номер 2001.
На Всемирной выставке 1855 года были представлены сорок три картины Энгра, приклеенные, словно марки, вплотную друг к другу — как тогда было принято. «Большая одалиска» была придавлена к самому низу стены закованной в доспехи розовощекой «Жанной д’Арк»; почтенная мадам Гонс оказалась под оголенными прелестями Венеры Анадиомены, а Керубини и мсье Бертен — под тяжелым «Апофеозом Наполеона I»; затем перед зрителем представала спина «Купальщицы Вальпинсона», рифмующаяся с округлым животом юной Венеры. Дойдя в своих рассуждениях о выставке до полотен Энгра, Бодлер сразу же ввел в оборот прилагательное «разношерстный», добавив, что Энгр пользуется «огромным и неоспоримым признанием»: он словно намекал на то, что признание это, при всей своей прочности и широте, основано на радикальном непонимании. Бодлер уточнял, что Энгр порождает ощущение «разношерстности, причудливости куда более таинственной и сложной, чем та, что отличала живописную школу эпохи Республики и Империи, с которой, однако, он начал свои путь». Иначе говоря, этот художник, отныне почитаемый всеми — дворянством, буржуазией, академиками, — был самым странным порождением мира живописи со времен Давида, этого «холодного светила», который, уже будучи загадкой сам по себе, вдохновлял и других художников на то, чтобы помещать своих вымышленных персонажей в «зеленоватое освещение, эту странную интерпретацию солнечного света». Странность Энгра была столь велика, что, вступая в «храм его творений», зритель испытывал какое-то диковинное «недомогание», похожее на обморок, который происходит с человеком «в разреженным воздухе, среди паров химической лаборатории или же в фантасмагорической обстановке». Этих слов достаточно, чтобы увести нас прочь от любой природы. И все же разговор идет о художнике, который к этой самой природе не переставая обращался. Впрочем, никто не утверждал обратное. Меж тем Бодлер пишет о «фантасмагорической обстановке», впервые вводя в тексте о живописи это прилагательное (вся ирония в том, что текст касается Энгра). Прилагательное не предвещает ничего хорошего; и действительно, далее в тексте говорится о том, что действие происходит среди «людей-автоматов, смущающих наши чувства своей чересчур явной и ощутимой чужеродностью». Ни дать ни взять толпа мутантов; но ведь речь идет о персонажах Энгра: это дамы из буржуазного или благородного общества, выдающиеся мужи, богини и герои истории. Даже все написанное Бодлером о рассказах По звучит менее тревожно, чем эти слова. Речь идет о «сильном впечатлении», являющемся, в сущности, проявлением первобытного ужаса. Это не возвышенное чувство, порожденное произведением искусства. Нет, это ощущение «низшего, почти нездорового порядка». С вершин «прекрасного идеала», о котором еще твердили скромные эпигоны Винкельмана, тогда еще облеченные властью (Бодлер по их поводу восклицает: «Сколько их теперь у нас развелось и до чего же они пришлись по душе тем, кому лень думать!»), мы летим в пучину психопатологии. Как это объяснить? Бодлер высказывает смелое предположение: неоспоримая сила Энгра — следствие ущербности. Его живопись является предвестником весьма прискорбного факта: «воображение — главное из всех дарований — исчезло». Этим Бодлер сказал достаточно, чтобы сбить с толку не только своих современников, но и сегодняшнего читателя. Однако он делает еще один провокационный шаг: сближает Энгра с тем, кто с ним меньше всего сопоставим, — с грубоватым, завораживающим Курбе. Что же между ними общего? Их произведения своеобразны тем, что «отмечены сектантским духом, убийственным для таланта». Расширяя круг ассоциаций, Бодлер переходит от психопатологии к политике. Так, Энгр и Курбе являются предвоплощением русских нигилистов и агентов «охранки» — преследующих различные цели, но использующих одинаковые средства. Ведь в живописи важны главным образом средства: «В своей борьбе с воображением они повинуются различным мотивам; и два противоположных фанатизма приводят их к одной и той же жертве».
Неудивительно, что статья об Энгре была отвергнута редакцией «Пэи». Вряд ли они что-нибудь в ней поняли, но безошибочно почуяли, что в написанном содержится какая-то — и немалая — крамола. Критическое искусствоведение, которое Бодлер определил здесь для себя как жанр, было замаскированной метафизикой. Она не воспринималась как таковая, но нарушала прозаический строй. Меж тем Бодлер рассуждал о метафизике именно так: вплетая эти рассуждения в высказывания, относящиеся к живописи, психологии, политике — или к чему-либо другому. Действовать иначе было нельзя. В том же отчете о Всемирной выставке 1855 года он признается: «Как и все мои друзья, я не раз пробовал замкнуться внутри какой-то одной системы и в этих рамках проповедовать в свое удовольствие. Однако любая система — это проклятие, которое толкает нас к постоянному отречению; мы вынуждены все время изобретать новые системы, и этот тяжкий труд превращается в суровое наказание». Таким образом, существующая система не подходила Бодлеру. Для него метафизика была прежде всего мощным наркотиком, который дарует одиночество; доктриной, изобилующей паралогизмами не меньше, чем сновидения. Но это была также единственная возможность быть всегда открытым, чтобы уловить любой «плод спонтанной, творческой активности мира». Это была единственная сила, перед которой он преклонялся: «многообразная и многоцветная красота, бушующая на неисчислимых спиралях жизни». На Всемирной выставке, рядом с полотнами Энгра, эта красота могла быть представлена коллекцией китайских предметов искусства (из собрания Монтиньи, экс-консула в Шанхае), которую единодушно проигнорировали все «присяжные критики», за исключением Готье. Или же проявиться в каком-нибудь «таинственном цветке, чьи сочные краски деспотически приковывают зрение, а форма дразнит взгляд». И здесь вновь природа и искусство сменяют друг друга в качестве альтернативных форм «творческой активности мира».
Впрочем, не только ненависть ко всякого рода системам удерживает Бодлера от «философского отступничества». Боль подспудно ощущается в его словах, когда он пишет: «У меня нет времени и, вероятно, должного умения, чтобы выявлять законы, перемещающие из одного места в другое творческую активность». Это означает, что ему вечно не хватало спокойствия и досуга, чтобы разработать полноценную, развернутую и исчерпывающую теорию. Ему всегда требовался повод — будь то Салон, рецензия на книгу или выставка — чтобы внезапно и по касательной запустить в эпицентр обсуждения свои мысли-озарения, полные неожиданных аллюзий и зачастую весьма далекие от предмета разговора. Вынужденные до поры томиться в подполье, они неожиданно вылезали наружу в каком-нибудь абзаце текста, уводили беседу в сторону, а затем снова прятались. Покинув философские аудитории, мысль вступала в фазу потаенного существования, рядилась в чужое платье, меняла обличье, будто стремилась обрести новую жизнь, да не одну, и под чужим именем.
Энгр неоднократно заявлял, что «живопись больше чем на три четверти зависит от рисунка», и всю жизнь поносил колористов, метя при этом в своего главного врага. Но глядя сегодня на картины Энгра, мы сразу отмечаем, как мастерски он использует цвет. Более того: именно цвет, а не рисунок — по крайней мере, в портретах — поражает зрителя в первую очередь. Это, пожалуй, один из наиболее ярких примеров того, как Энгр упорно не понимал самого себя. Однако все куда серьезнее. Дело в том, что в этом суждении художник невероятным образом совпадал с тенденцией времени. Для большинства его современников, равно как и для ближайших потомков, колорит его картин нередко становился объектом издевки, словно художник был не способен обращаться с красками из-за слепой преданности рисунку. Еще Робер де ля Сизеран отмечал «ядовитые голубой и желтый» в роскошном портрете принцессы де Брольи: он имел в виду кричащий контраст между желтым дамаском кресла, на которое опирается принцесса, и ее великолепным голубым платьем. Вообще-то этим гипнотическим сочетанием можно любоваться бесконечно. Совершенно очевидно, что восприятие цвета меняется от эпохи к эпохе.
Колорит Энгра не хотели воспринимать, потому что он раздражал. В эссе «Салон 1846 года» Бодлер делает первый шаг к его объяснению (хоть и с явной неохотой, поскольку обзор выставки сосредоточен на восхвалении Делакруа): «Господин Энгр обожает цвет, как хозяйка модного ателье. Видеть, с какой натугой он выбирает и сочетает тона, и занятно, и тягостно. Плод его усилий, не всегда диссонирующий, но горький и резкий, обычно нравится извращенным поэтам; однако длительное смакование мучительной борьбы художника в конце концов утомляет их, и они неизбежно ищут отдохновения в полотнах Веласкеса или Лоуренса». Содержащийся в этих словах намек противоречит бытовавшему тогда мнению о колорите Энгра. Никто не посмел бы заявить, что выбранные Энгром цвета «горьки и резки». И, еще хуже, что они могут нравиться «извращенным поэтам». Но кто был ближе всего к образу «извращенного поэта», если не сам молодой Бодлер? Это был Париж 1846 года, еще не пресытившийся декадансом, где уже говорили о скором выходе книги его стихов под названием «Лесбиянки». Ход мысли Бодлера понятен: колорит Энгра для него — что-то в высшей степени противоестественное, натужное, тревожное, возможно, зловещее, он погружает нас в пространство, где «все предстает в почти пугающем искусственном освещении: там нет ни золотистой ауры, окутывающей идеальные пейзажи, ни спокойного и ровного сияния подлунного мира». Это дерзкое суждение Бодлеру пришлось высказать вскользь, будто бы речь идет совсем о другом.
Линия против цвета, цвет против линии: этот спор, подобно шраму отмечающий историю живописи, вновь оживает благодаря Делакруа и Энгру. Складываются две партии, обменивающиеся оскорблениями и проклятиями. Рассуждения о том, что такое линия и что такое цвет, отныне сопровождаются ссылками — как правило, шантажистскими — на природу. О рисунке — по крайней мере, однажды — рискнул высказаться Валери: «Рисунок — это акт разума». Но что же тогда цвет? Коль скоро он является антиподом линии, он не должен быть связан с разумом? И почему участники спора всегда ссылаются на мораль? Энгр в особенности: «Рисунок — это честность искусства». Знаменитое высказывание.
Впрочем, даже если отвлечься от морали, противопоставление все равно остается. Пуссен и Рубенс олицетворяют фактически два противоположных, расходящихся пути. Делакруа и Энгр также. Если смотреть на живопись как на антипод рисунка, она оказывается на уровне чувственности, где образ противостоит образу, восприятие — восприятию, а слова и вовсе не нужны. Все это прослеживается в творчестве Энгра. Его миру чужды слова — и собственные, и современников. Все, что с ним происходит, является результатом подчинения и поклонения видимому, что сродни ужасу перед древними, дремучими суевериями. В творениях Энгра царит избыточность. Ее можно было наблюдать в некоторых интерьерах голландских мастеров семнадцатого века. Теперь же она стала повсеместной. Заполнила общественную и семейную жизнь. Готова к выезду на «ужин в город» или на бал. Она принимает образ перчаток, атласных складок, шалей, косынок, лорнетов, вееров, лент, бантов, бахромы, камей, колец, перьев, горжеток… И женских тел, на которых все это надето. Предметы, камни, ткани, люди — все имеет одну природу. Имя ей — фетиш.
Некоторые портреты Энгра вызывают у зрителя ощущение правдоподобности, как работы Веласкеса. Тем не менее эти художники представляют собой два противоположных начала. О Веласкесе говорили, что он способен «написать воздух». Торе даже пытался объяснить, как именно: «Необходимо „создать пустоту“ вокруг фигур и предметов, чтобы те казались как будто окруженными воздухом. Веласкес никогда не использует чистый цвет для написания фона, он создает его из оттенков и нюансов — зеленоватого, грязно-розового, жемчужного, серебристого». Это внимательное описание никак не применимо к Энгру. Потому что у него воздух отсутствует. Впрочем, ощущение безвоздушности возникает по другой причине. Когда смотришь на его картины, то кажется, что пустота присутствует не только вокруг фигур, но и позади них. Словно все они, несмотря на тщательно выписанные морщинки и складки одежды, являются плодом галлюцинации. Это не означает, что они лишены психологической сущности. Порой она может проявляться весьма ярко, как на портрете мсье Бертена. Дело в другом: зритель как будто получает тайный сигнал, подсказывающий, что персонажи картины являются участниками некой игры с переодеванием, в которой социальная функция того, кто изображен на картине — будь то хоть герцог Орлеанский, — оказывается лишь предлогом, тогда как на холсте перед нами предстают профессиональные натурщики, облаченные в соответствующие костюмы. Все те, чьи портреты создал Энгр, составляют отдельную категорию особей, генетически отличающуюся от животного мира, о чем проницательно писал Бодлер: «Фигуры на его картинах напоминают безупречные трафареты, заполненные мягкой, неживой материей, не имеющей ничего общего с человеческим телом». Если «художником среди художников», как называл его Мане, является Веласкес — живописец, не нуждающийся в эпитетах, характеристиках, похвалах, — то его аналогом на лишенной кислорода планете будет Энгр. Противоположные во всем, они оба, различными путями, о которых не осталось свидетельств, достигают конечной цели в живописи: правдоподобия.
Энгр не откликнулся на появление фотографии, в отличие от других художников его эпохи, принявших — за редким исключением (Делакруа) — фотографию в штыки. Энгр интегрировал ее в свою живопись еще задолго до того, как она была изобретена.
Однажды на это обратил внимание Шарль Блан, когда рассматривал в квартире Энгра (набережная Вольтера, 11) сделанный свинцовым карандашом групповой портрет семьи Форестье, «собравшейся в гостиной городского дома: отец с непокрытой головой и с табакеркой в руке, мать, принарядившаяся по случаю позирования, молодая девушка перед клавесином и гость» (и еще прислуга в дверях, застигнутая в тот момент, когда она обернулась). Блан сказал: «Вы предвосхитили фотографию за тридцать лет до того, как появились фотографы». Разумеется, Энгр начал спорить, пустившись в рассуждения о натуре: «Рисунок, которым вы любуетесь, натура преподнесла мне в готовом виде: я ничего не изменил». Однако Блан попал в точку. Иначе трудно понять, почему сделанные свинцовым карандашом портреты Энгра так сильно отличаются от многовековой традиции. Чтобы измерить эту внезапно образовавшуюся колоссальную дистанцию, достаточно сравнить портрет семьи Форестье (1806) с портретом Александра Ленуара и его жены, написанным в 1809 году Давидом. Энгр сформировался в школе Давида. По всей вероятности, именно он написал подсвечник на портрете мадам Рекамье. При этом обретение творческой независимости не потребовало от него ни сил, ни времени; так, портрет мадемуазель Барбары Банси, подписанный «Энгр. Ученик Давида» и датируемый 1797 годом — о чем свидетельствует различимый на заднем плане парашют, впервые испытанный Андре-Жаком Гарнереном в октябре того же года, — уже демонстрирует это радикальное расхождение. Портреты Давида продолжают манеру Фрагонара, в частности технику штриховки; Фрагонар же продолжает Ватто. С Энгром все иначе. Притом что пространство полотна создают лишь клавесин и дверной косяк, гостиная и собравшиеся в ней люди в высшей степени реалистичны. Позы их, включая собачку у ног мадам Форестье, непринужденны и спонтанны, словно не было долгих часов позирования. Энгр создал новый собирательный образ буржуазного мира во всех его многочисленных вариациях. Что же касается четы Ленуар кисти Давида, то это портрет последних представителей рода, позировавшего художникам из поколения в поколение, чуть меняя стиль и одеяние в соответствии с духом времени.
Непредсказуемый стиль «трубадур» исторических по лотен Энгра предполагает существование мелодрамы и сочинений Вальтера Скотта — в той же степени, в какой его графика открывает великую эпоху романа. Английские туристки во Флоренции, уплатив ему сорок два франка за поясной портрет и шестьдесят три за портрет в полный рост, бежали записываться гражданами Республики Писателей в надежде, что их имена приметят ищущие новых персонажей литераторы, начиная с Остин, Бронте, Стендаля, Бальзака и заканчивая Генри Джеймсом и Прустом, которым, еще предстояло появиться на свет.
Энгр имел обыкновение называть себя «peintre de haute histoire» (подлинно историческим художником) — и ничто не могло привести его в бoльшую ярость, чем стук в дверь и слова: «Не здесь ли живет художник, что пишет портреты?» Тем не менее, исчезни его исторические картины, мир искусства и зритель вполне могли бы этого не заметить. Но что, если бы та же участь постигла четыреста пятьдесят графических портретов, за которые Энгр брался в основном ради денег? Случилась бы катастрофа, масштабы которой сравнимы с исчезновением редкого зоологического вида, лишенного близких «родственников» и замкнутого в себе. Или с угасанием церковного языка. Еще Амори-Дюваль, говоря об этой стороне творчества Энгра, замечал, что «ничего подобного не было ни в одну эпоху». Рисунки Энгра принадлежат не к «подлинной истории», а к «подлинной жизни» — если таковая существует; это своего рода comedie humaine, «человеческая комедия», бессловесная, навсегда врезающаяся в память.
В том же 1824 году, когда зрители смогли увидеть написанный Энгром портрет «Генриха IV, играющего со своими детьми», на обозрение посетителей Салона была выставлена еще двадцать одна картина, посвященная различным эпизодам жизни монарха (страшно себе представить). Выбирая сюжеты, Энгр следовал исключительно духу времени. Прислушивался — и продолжал творить. Он глубоко переживал, если его работы не нравились. Но вместе с тем внутренний голос безошибочно подсказывал ему, какой гипнотической силой обладают его карандашные портреты. Именно по этой причине он не пожелал включать их в ретроспективную выставку 1855 года. («Иначе ни на что другое даже не взглянут», — заметил Энгр.)
Можно предположить другую, скрытую причину, по которой он не захотел выставлять свою графику. Как-то Амори-Дюваль спросил Энгра, закончил ли тот графический портрет одной его знакомой. Энгр ответил так: «Ах, мой друг, не надо об этом… Он ужасен. Я разучился рисовать… Я больше ни на что не способен… Женский портрет! В мире нет ничего сложнее, это невыполнимая задача… Завтра снова возьмусь за работу, нужно начинать все сначала… Хоть плачь». В глазах у Энгра, добавляет Амори-Дюваль, действительно стояли слезы.
Если у Энгра имелся какой-то тайный свод правил — а на эту мысль наводит колоссальная разница между его творениями и заявленными принципами, — то он должен был начинаться со следующего пункта: женский портрет — дело, которому нет равных по сложности, в силу причин теологического и космического порядка, разъясняемых, возможно, в следующих, нам неведомых пунктах. Отсюда — ожесточение, упорство и высочайшее мастерство, с которыми Энгр всю свою жизнь писал женщин. Не исключено, что именно по этой причине он всю свою жизнь возвращался к «Турецкой бане»: она была воплощением этого вызова судьбе, и поэтому Энгр придавал ей такое значение. По некоторым сведениям, он собирался изобразить на ней около «двух сотен купальщиц». Понятно, почему Энгра охватывал ужас всякий раз, когда очередная безымянная светская дама приходила к нему позировать для портрета свинцовым карандашом.
Последними словами Энгра можно считать фразу, сказанную им на пороге собственного дома, когда после музыкального вечера он провожал дам и помогал им облачаться в меха, в то время как ледяной январский ветер врывался в двери и все настаивали, чтобы хозяин поскорее вернулся в тепло. «Энгр будет жить и умрет, служа дамам», — сказал художник. Спустя несколько дней он действительно умер.
Перевод: Александр Юсупов