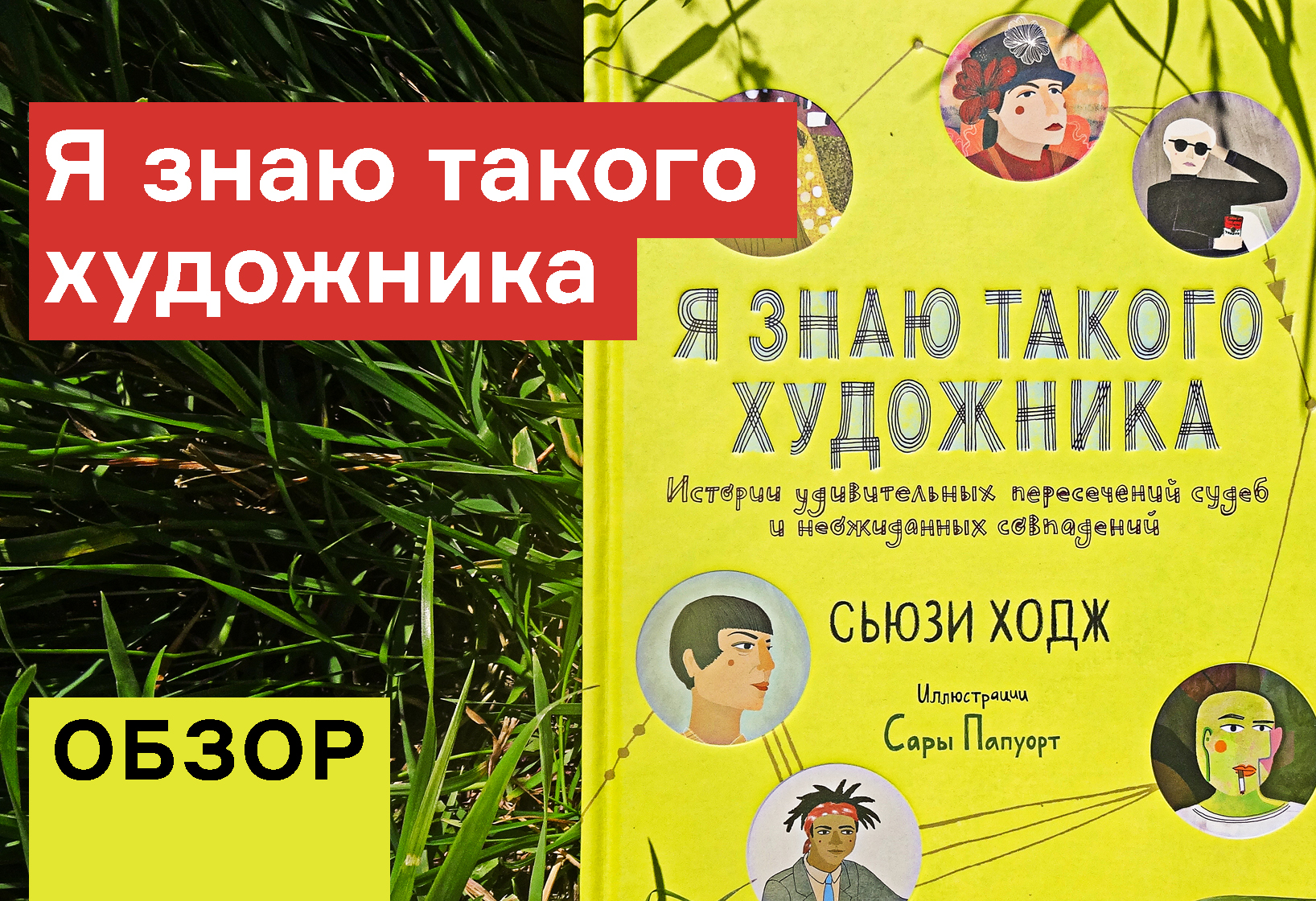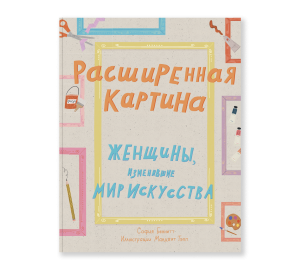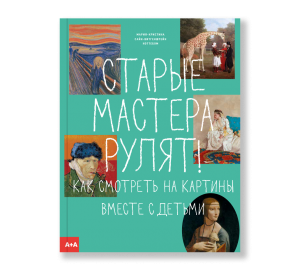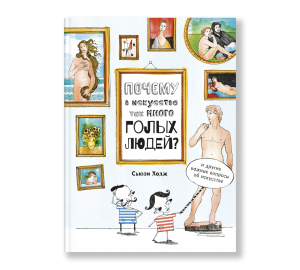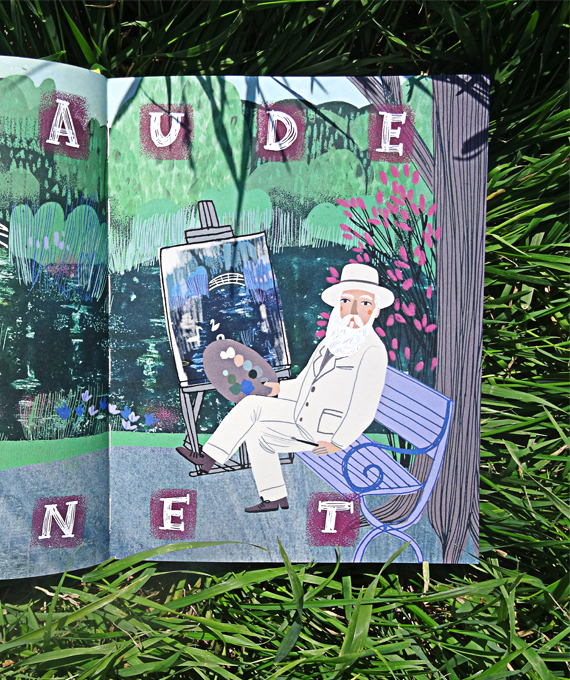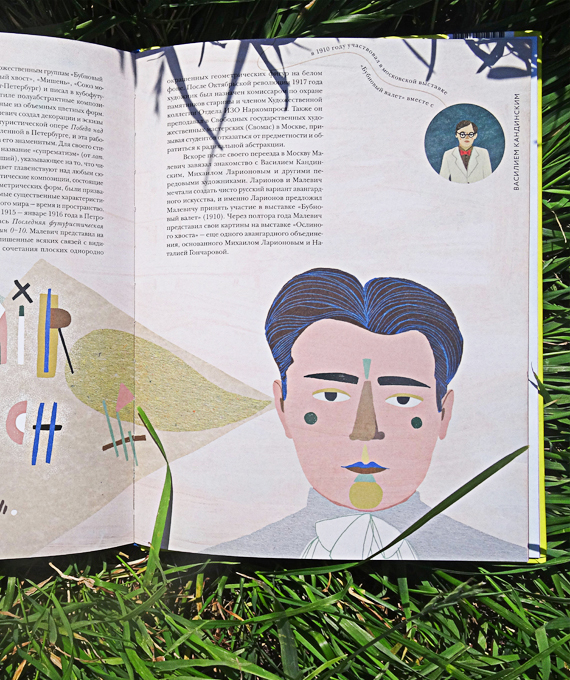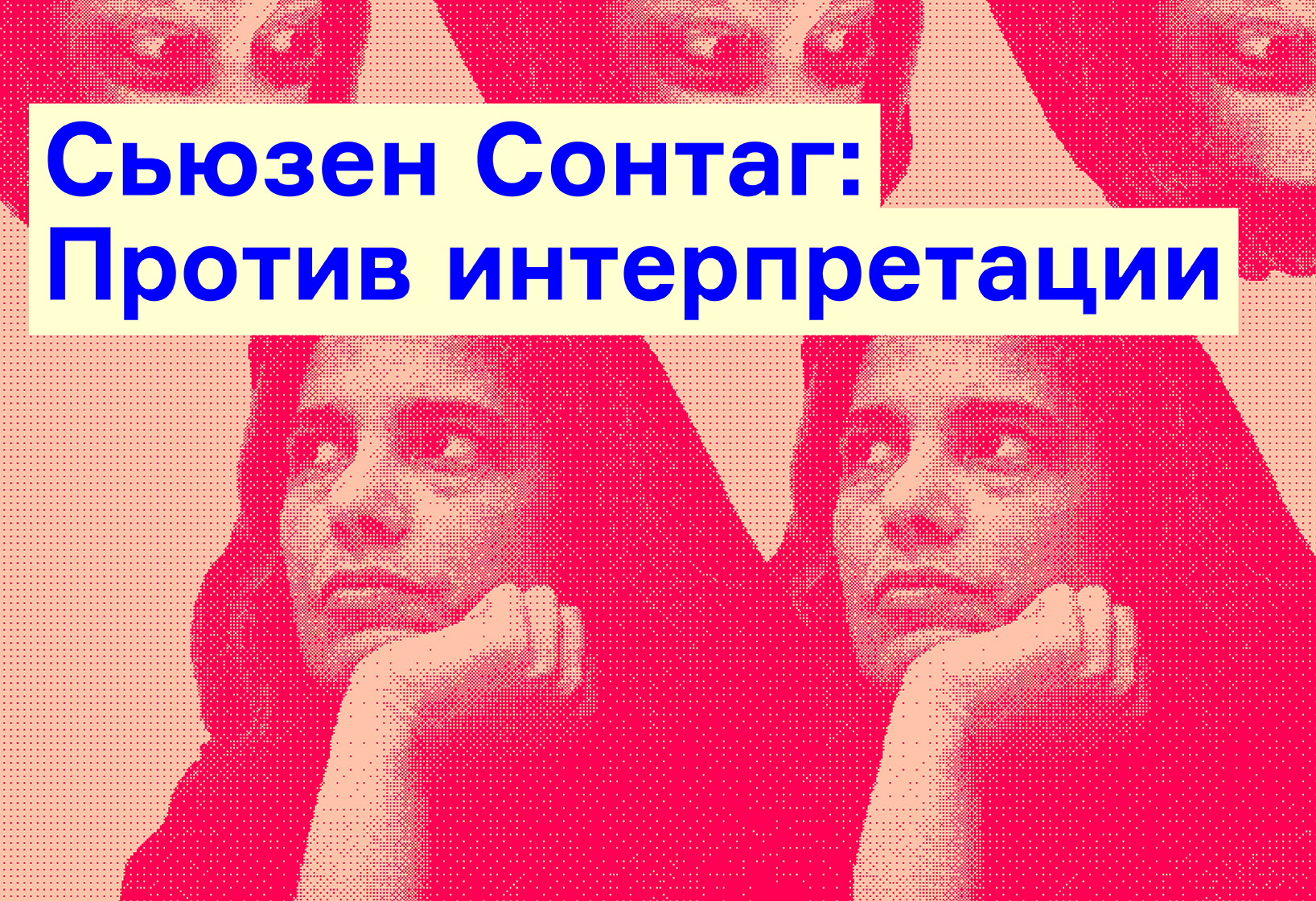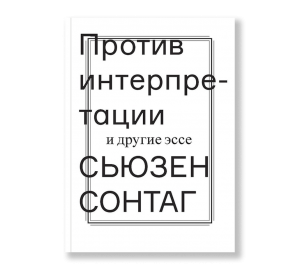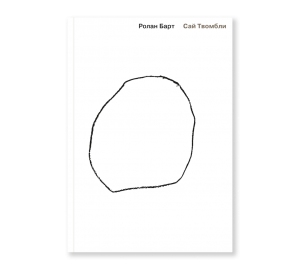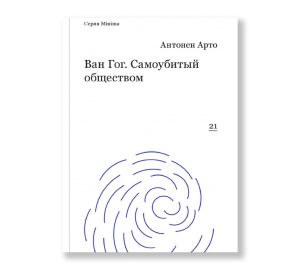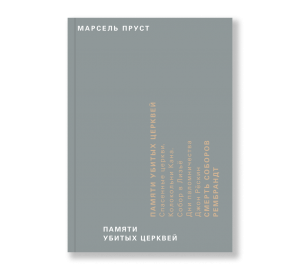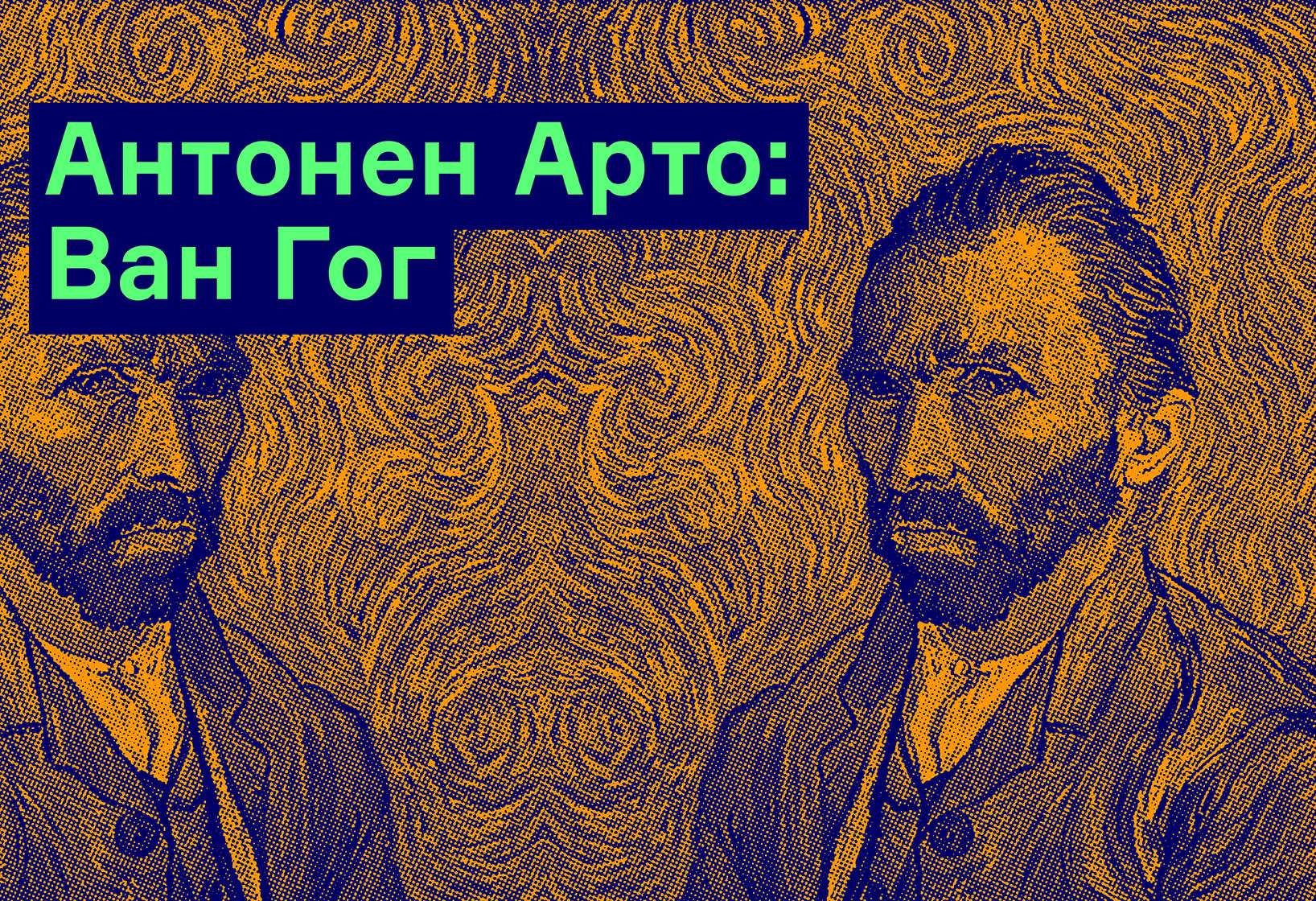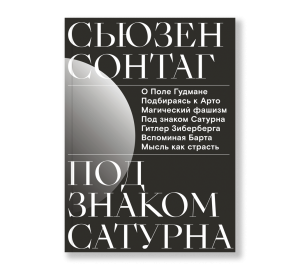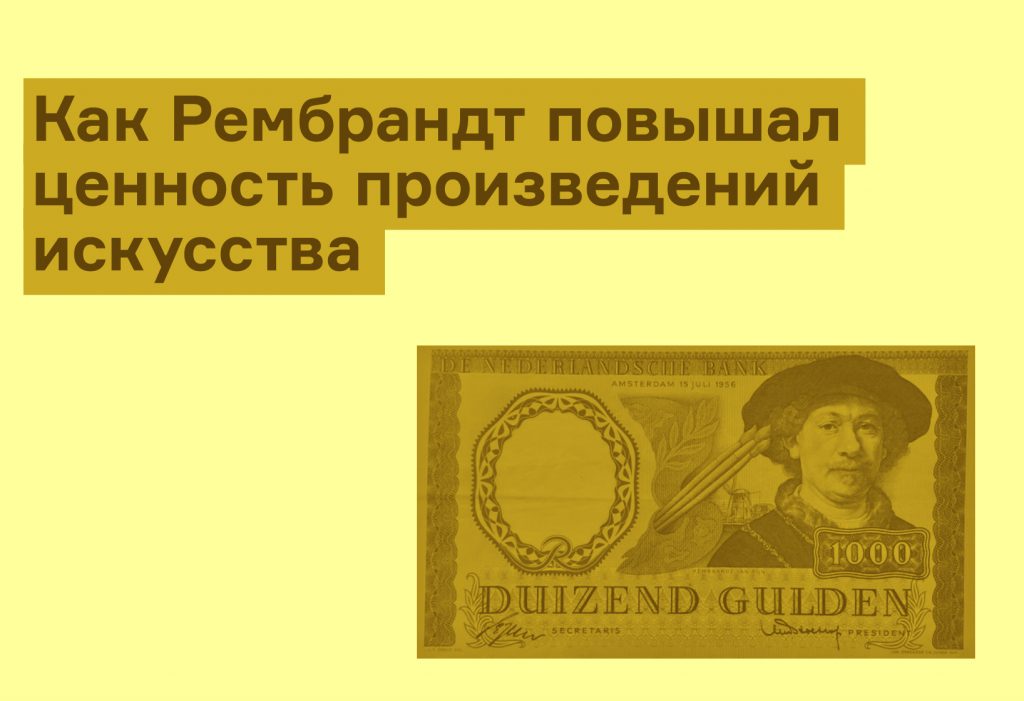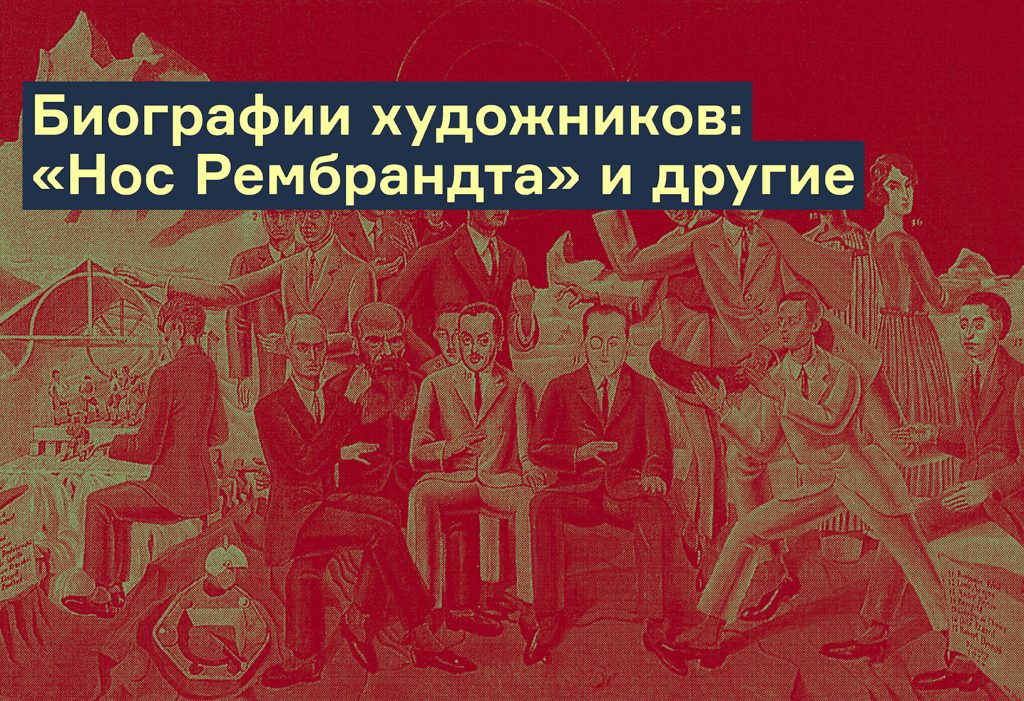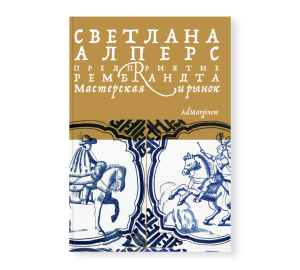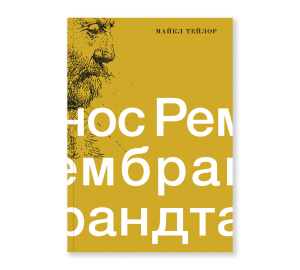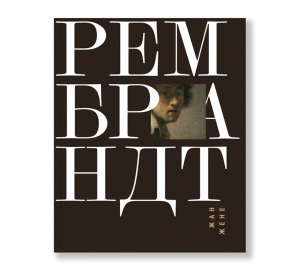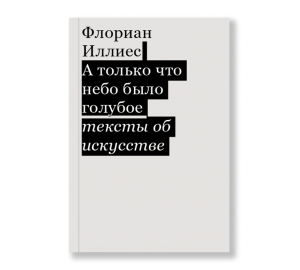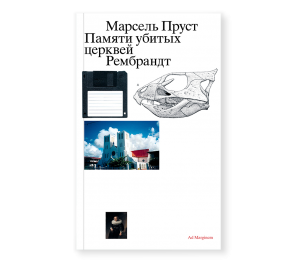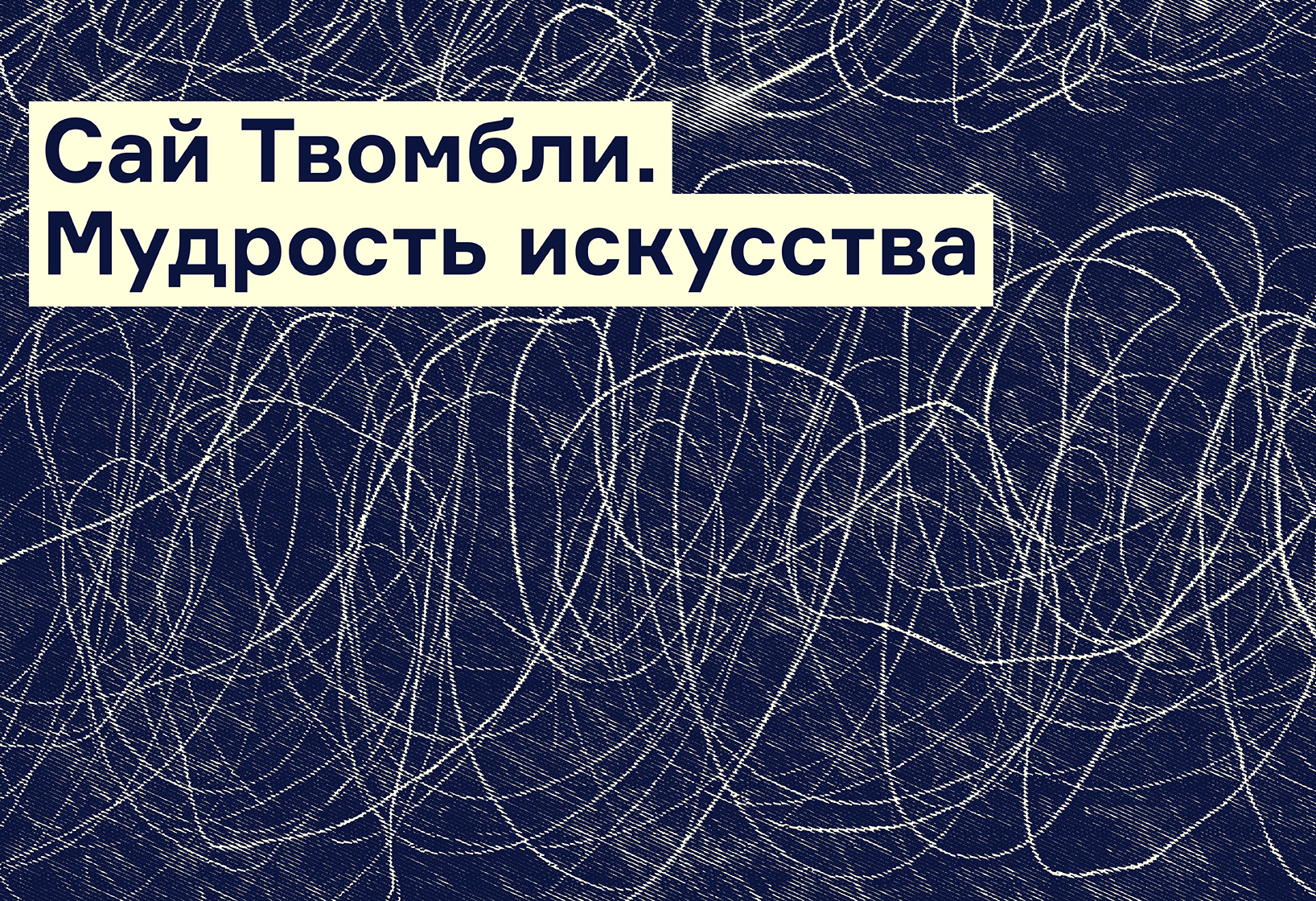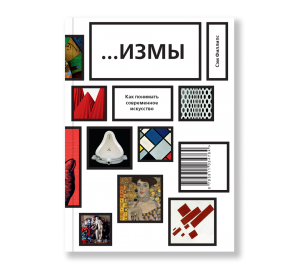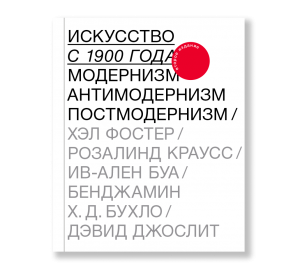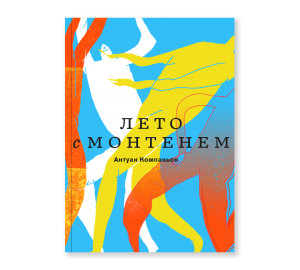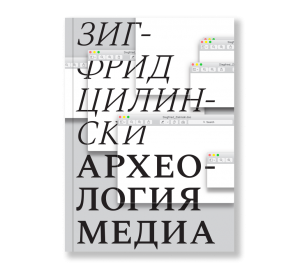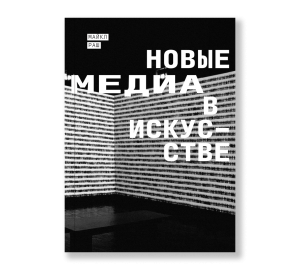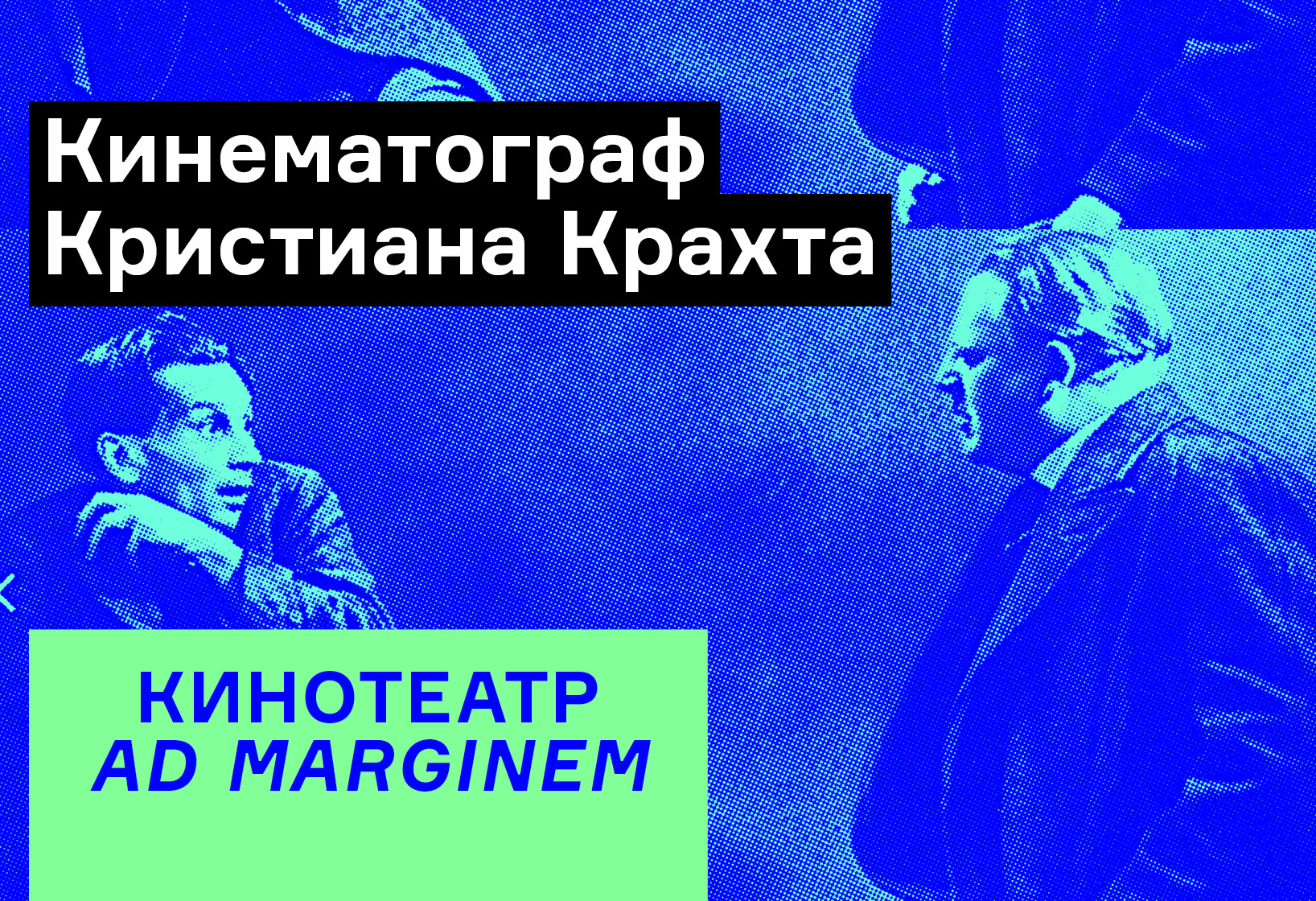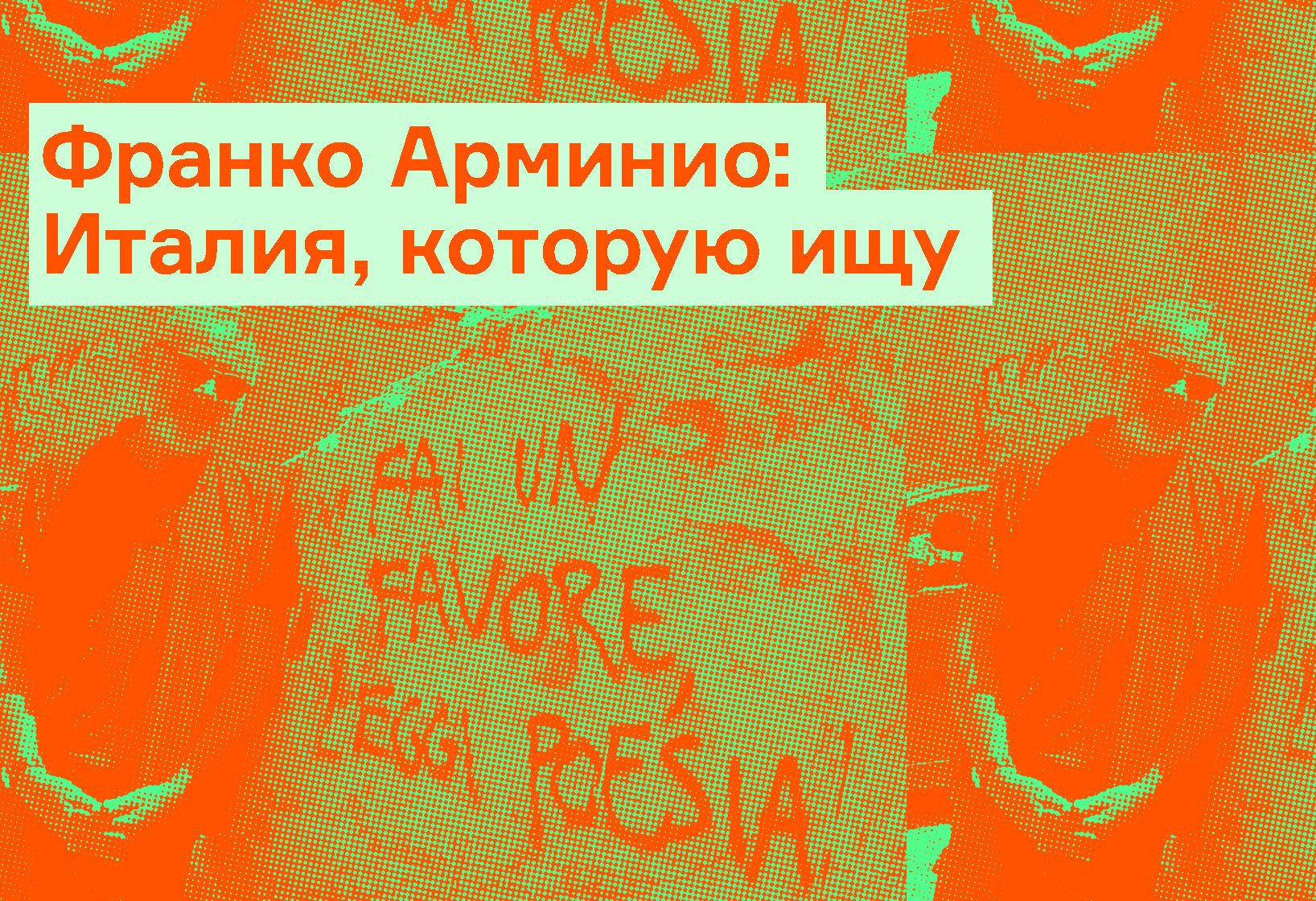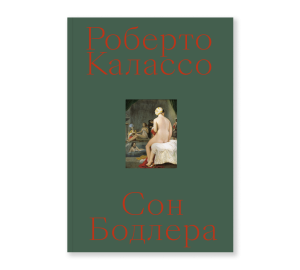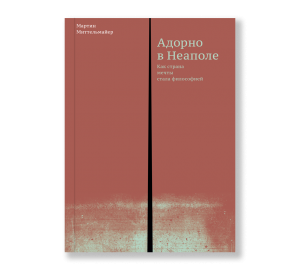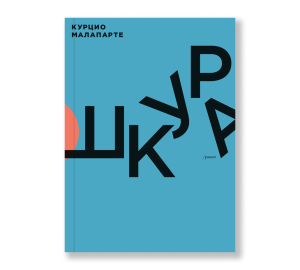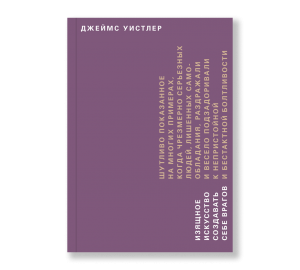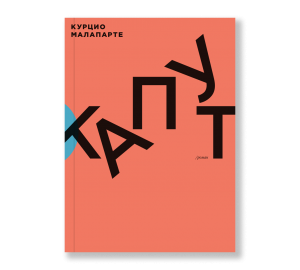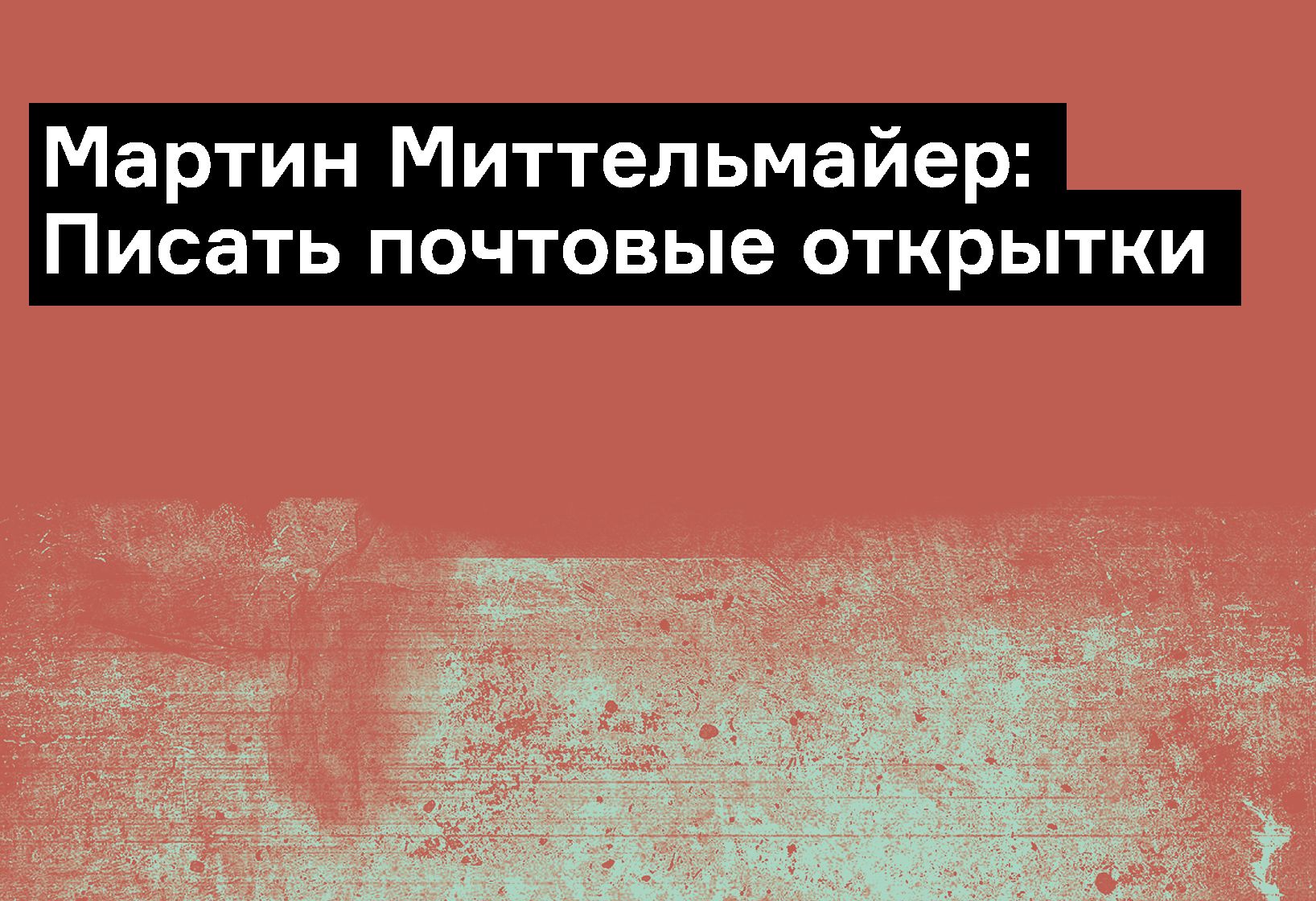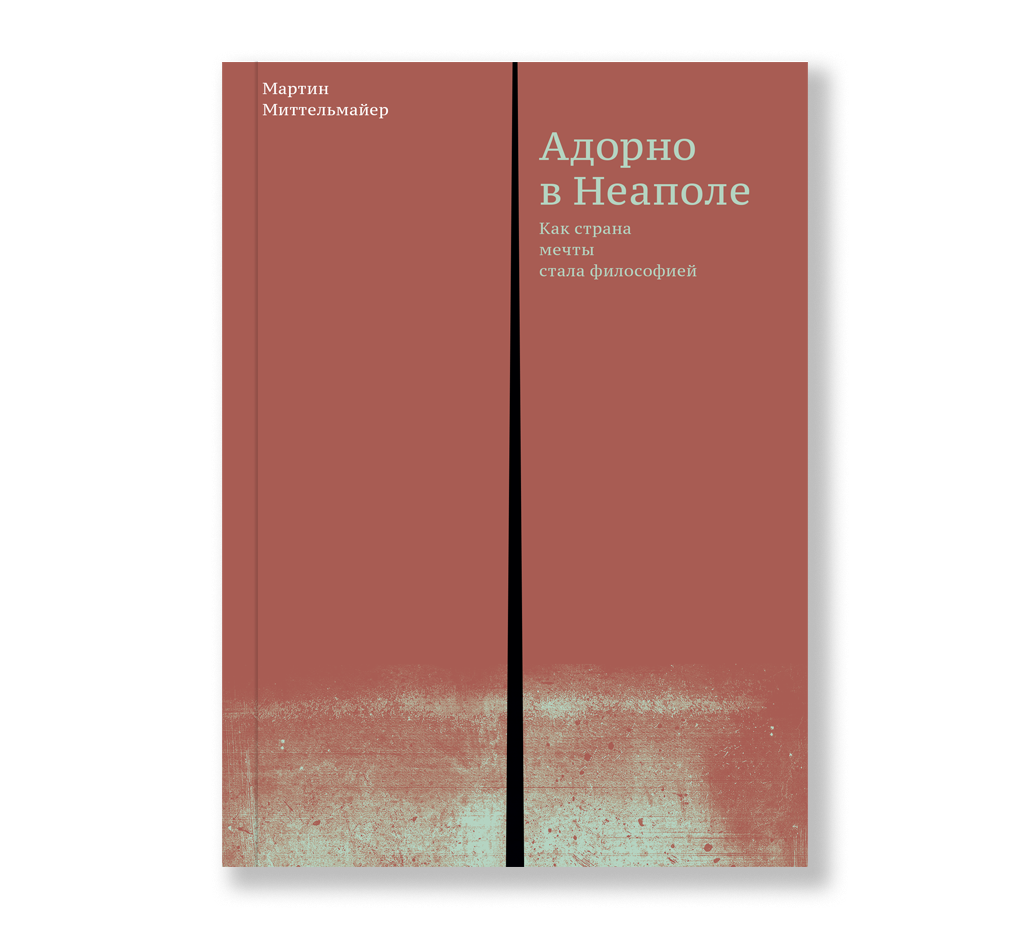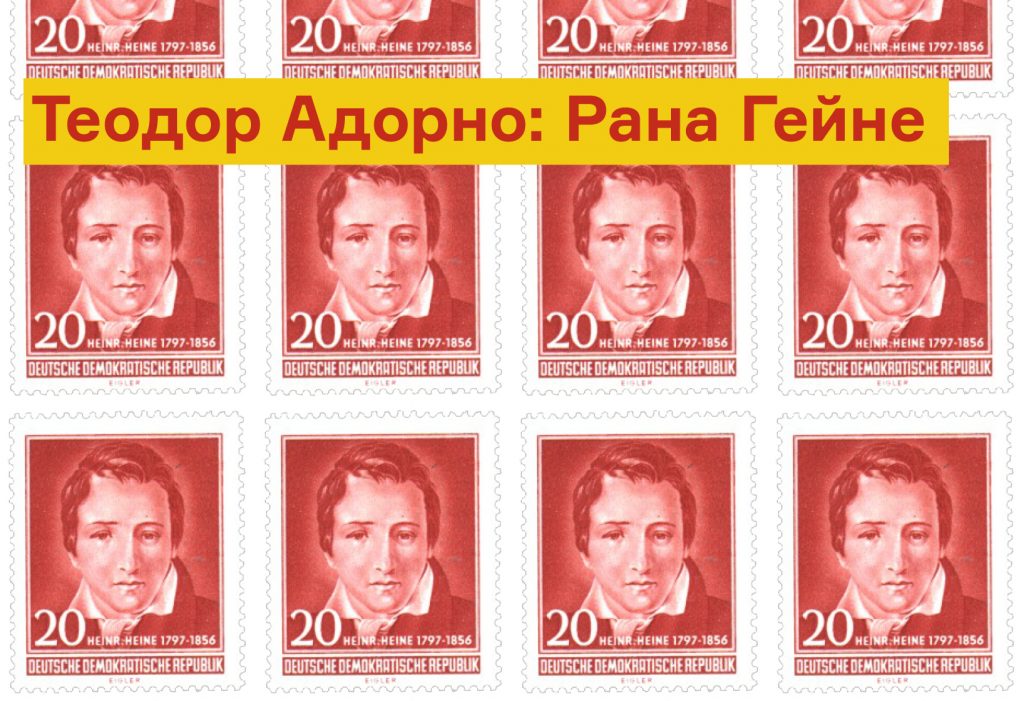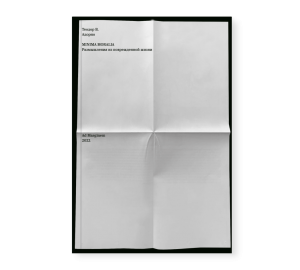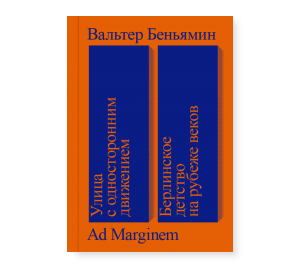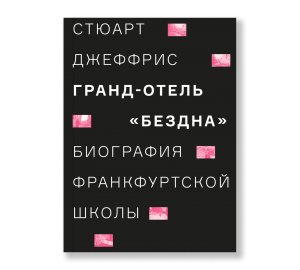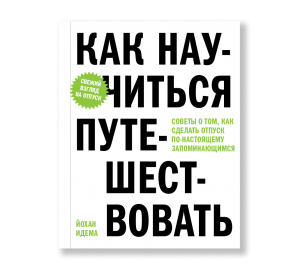Продолжая тему эссе в нашем каталоге, мы подготовили четыре отрывка для публикации в журнале — Рембрандт Пруста, Ван Гог. Самоубитый обществом Арто, Против интерпретации Сонтаг, Мудрость искусства. Сай Твомбли Барта. Все они — совершенно не похожие друг на друга, но одинаково замечательные, а иногда и уже ставшие классическими — предельно субъективны, полемичны, автопортретны. Публикуем сегодня Арто о Ван Гоге.
Вступление
Ван Гога можно было бы назвать человеком психически здоровым: за всю жизнь он всего-то навсего сжег себе руку, да и в остальном лишь однажды отрезал себе левое ухо, и это — в мире, где каждый день поедают вагины в соусе из трав или гениталии новорожденного, исстеганного до полного исступления — выхватывая того чуть ли не из лона матери.
Это не поэтический образ, но реальность, повсеместно и повседневно повторяющаяся и практикуемая по всему свету.
А потому, сколь сумасбродным ни покажется такое заявление, наша нынешняя жизнь продолжается, как ни в чем не бывало, в своей давнишней обстановке разврата, анархии, хаоса, бреда, беспутства, хронического безумия, буржуазного ступора, психической аномалии (ведь анормальным стал не человек, но весь мир), намеренной непорядочности и невероятного лицемерия, сального презрения ко всему, что являет хоть какое-то благородство, повсеместного утверждения миропорядка, целиком основанного на торжестве первобытного бесправия, и, наконец, преступления, возведенного в систему.
Дело плохо, так как больному сознанию в настоящий момент ни за что не следует исцеляться. Соответственно, увечное общество изобрело психиатрию — для защиты от пристального внимания некоторых выдающихся умов, чей дар ясновидца не давал ему покоя. Жерар де Нерваль не был безумцем, но его всё равно обвинили в этом, чтобы обесценить те важнейшие откровения, которыми он готовился с нами поделиться, и, помимо таких обвинений, на него обрушились и удары по голове: в прямом смысле слова — удары по голове однажды ночью, с тем, чтобы выбить из него воспоминания о чудовищных фактах, которые он собирался обнародовать и которые от этих ударов перешли у него в сферу сверхъестественного, поскольку силы всего общества, тайком сплотившегося тогда против сознания Нерваля, было достаточно, чтобы заставить его позабыть об их реальности.
Не принадлежал к безумцам и Ван Гог, но картины его стали настоящей горючей смесью, атомными бомбами, и на фоне прочих полотен, свирепствовавших в то время, их перспектива грозила серьезно поколебать личиночный конформизм буржуазии Второй Империи и прихлебателей как Тьера, Гамбетты, Феликса Фора, так и Наполеона III.
Ведь мишенью живописи Ван Гога была не какая-то общая беспринципность нравов, а конформизм самих институтов общества. И даже природа с ее перепадами климата, приливами и зимними штормами после пришествия Ван Гога на нашу землю теряет всякую привязку к реальности.
Понятно, что все институты социума тут распадаются, а медицина, предстающая никуда не годным гниющим трупом, провозглашает Ван Гога безумцем.
Но, в сравнении с неуемным здравомыслием Ван Гога, психиатрия сама видится загоном горилл, одержимых манией преследования и способных смягчить самые ужасающие приступы страха и удушья, которые только знал человек, лишь своей смехотворной терминологией, достойным порождением их ущербных мозгов.
Действительно, нет такого психиатра, который не был бы заведомым эротоманом.
И я не думаю, что правило застарелой эротомании психиатров допускает хоть какие-то исключения.
Несколько лет назад один из них, мой знакомец, восстал против такого поголовного обвинения всей той группы заправских негодяев и патентованных мошенников, к которой он принадлежал.
Я, господин Арто, заявил он мне тогда, никакой не эротоман, так что извольте предъявить хоть какое-то доказательство, позволяющее вам выступать с подобными обвинениями.
Да вы на себя посмотрите, г-н Л., вот вам и все доказательства, они у вас на лбу клеймом стоят, гнусный мерзавец, урод этакий.
Такие кроят мир мотыгой, хватают объект своих вожделений и катают затем под языком — всё равно что фигу во рту держат.
Вот уж у кого всякое лыко в строку.
Ежели при совокуплении у вас из глотки не вырвалось знакомое кудахтанье и одновременное бульканье в горле, пищеводе, уретре и анусе, провозгласить себя удовлетворенным вы никак не можете.
И от такого сотрясения всех внутренних органов у вас образовалась некая складка — воплощенное свидетельство омерзительного разврата, — которую вы пестуете из года в год, и она всё ширится, поскольку ни под какой закон социальных условностей не подпадает; но складка эта противоречит иному закону: когда страдает ущемленное сознание, поскольку всем вашим поведением вы перекрываете ему кислород.
Всякое неуемное сознание вы называете бредом, параллельно удушая его своей гнусной сексуальностью.
И, кстати, в этом плане бедняга Ван Гог был непорочным, с его целомудрием не сравнится ни серафим, ни девственница, ведь именно они запустили и первыми раскочегарили великую машинерию греха.
Возможно, впрочем, г-н Л., вы — из породы неправедных серафимов, но уж людей соблаговолите оставить в покое, тело Ван Гога, чистое ото всякого греха, не запятнано и безумием — его, кстати, один только грех и вызывает.
И в католический грех я не верю, но верю в преступную похоть, от которой все гении земли нашей, все настоящие сумасшедшие из лечебниц как раз убереглись, или тогда, значит, они не были (по-настоящему) помешанными.
И что вообще такое настоящий безумец?
Это человек, который предпочел скорее сойти с ума — в социально принятом смысле, — чем пойти против некоей высшей идеи человеческой чести.
Именно так общество задушило в своих лечебницах всех, от кого решило избавиться или оградить себя — за то, что отказались стать его сообщниками в череде отборных гадостей.
Ведь умалишенный — это и тот, кого общество не захотело услышать и кому помешало изречь невыносимые истины.
Но в этом случае интернирование — не единственное его оружие, и у действующего заодно скопища есть другие средства, чтобы покончить с теми, чью волю оно решило сломить.
Помимо мелких чар местечковых ворожей есть и вселенский сглаз, в который периодически оказывается вовлечено всякое растормошенное сознание.
Именно так в случае войны, революции или еще лишь зреющего социального потрясения сознание масс испытывается — и пытает само себя, и выносит приговор.
Бывает также, что его провоцируют и выводят из себя отдельные громкие случаи.
Такой вот коллективный сглаз поразил Бодлера, Эдгара По, Жерара де Нерваля, Ницше, Кьеркегора, Гёльдерлина, Кольриджа, поразил он и Ван Гога.
Это случается и днем, но, как правило, чаще всего — ночью.
Тогда причудливые силы вздымаются и сливаются под астральным сводом, этим подобием темного купола, где, перекрывая всякое человеческое дыхание, клубится ядовитая агрессия злого духа большинства людей.
Именно так тех редких провидцев доброй воли, вся жизнь которых на этом свете стала сражением, в любое время дня или ночи, в глубине самого настоящего кошмара наяву окружает гигантская засасывающая воронка, оплетает щупальцами неодолимая тирания эдакого гражданского колдовства, которое скоро открыто станет частью общепринятых нравов.
Перед лицом этого единодушного свинства, которое с одной стороны опирается на секс, а с другой, кстати, — на богослужение или прочие духоподъемные ритуалы, вовсе не выглядит бредовой решимость выйти ночью с двенадцатью свечами на шляпе, чтобы рисовать пейзаж с натуры; а как иначе — справедливо заметил однажды наш друг актер Роже Блен — мог Ван Гог осветить себе путь?
Что же до обожженной руки, то это самый настоящий героизм, а отрезанное ухо — неумолимая логика, и, повторюсь, мир, который денно и нощно без остановки поедает несъедобное, чтобы дойти до конца в своем злом умысле, по этому поводу должен просто заткнуться.
Постскриптум
Ван Гога погубило не само бредовое состояние, а то, что он был — физически — узлом, средоточием проблемы, вокруг которой испокон веков бьется неправедный дух человеческой расы.
Суть ее — в превосходстве плоти над духом, или тела над плотью, или духа над ними обоими.
И где в этом бреду место человеческого я?
Свое я Ван Гог искал всю жизнь с нездешними энергией и устремленностью и не покончил с собой в приступе безумия, выведенный из себя неудачей в поисках, — напротив, как только он нашел его и понял, кем и чем он был, коллективное сознание общества, решив покарать отщепенца, самоубило его.
И то, что случилось с Ван Гогом, ничем не отличается от того, что обыкновенно происходит в ходе оргии, богослужения, отпущения грехов или прочих обрядов освящения, одержимости, овладения суккубом или инкубом.
В итоге оно заполонило его тело — это общество, прощенное, посвященное, освященное и одержимое, стерев в нем только обретенное сверхъестественное сознание, и, точно потоп черных ворон в каждом волокне древа его жизни, залило его последним всплеском и, подменив его, прикончило.
Вот логика всего физического существования современного человека: жить — или считать, что живет, — он может, лишь будучи одержимым.
Самоубитый обществом
Чисто линейная живопись давно уже сводила меня с ума, когда я наконец открыл для себя Ван Гога: он рисовал не линии или формы, а объекты бездвижной природы, точно охваченные судорогами.
И остающиеся без движения.
Словно пораженные чудовищным ударом той бездвижной силы, говорить о которой все осмеливаются лишь обиняками и понять которую после всех тех разъяснений, что подсовывают нам наш мир и сама нынешняя жизнь, стало решительно невозможно.
Но как раз ее сокрушительные удары, да-да, сокрушительные удары именно этой силы раз за разом обрушивает Ван Гог на все формы природы и предметы нашего мира.
Точно расцарапанные гвоздем, пейзажи у Ван Гога обнажают свою ощерившуюся плоть, злобу своих вспоротых складок, преображаемых, вместе с тем, некоей неведомой силой.
Выставка картин Ван Гога — всегда событие историческое, и не в истории явлений живописных, а в самой настоящей Истории с большой буквы.
Поскольку даже голод, эпидемия, извержение вулкана, землетрясение или война не обращают так в бегство монады воздуха, не сворачивают шею fama fatum, невротической участи вещей, с ее искривленным злобой лицом, как живопись Ван Гога, — извлеченная на свет, представленная зрению, слуху, прикосновению и обонянию на стенах галереи, — наконец-то заново вброшенная в события дня, возвращенная в течение жизни.
На последней выставке Ван Гога в музее Оранжери нет всех великих картин несчастного художника. Но среди выставленных хватает пляшущих водоворотов, встопорщившихся хохолками карминных кустов; пустых тропинок, над которыми вздымаются тисы; багрянистых солнечных дисков, крутящихся над пшеничными снопами чистого золота; Спокойных папаш и портретов Ван Гога кисти Ван Гога, чтобы напомнить, из каких непристойно обыденных вещей, людей, материалов и стихий выплавил он эти подобия величественных хоралов, эти фейерверки, эти озарения, пронизывающие воздух — наконец, это «Великое делание» вечного и вневременного превращения.
Как и остальные его полотна, те вороны, которых он нарисовал за два дня до смерти [картина Пшеничное поле с воронами (июль 1890) предположительно закончена 10 июля, за 19 дней до самоубийства Ван Гога. — Пер.], не открыли ему путь к несомненной посмертной славе: но они указали живописи на холсте или, скорее даже, оставшейся за его пределами природе потайной путь к возможной запредельности, к реальности, неизменно готовой проявиться за порогом этой двери, распахнутой Ван Гогом в загадочное и зловещее потусторонье.
Редко когда увидишь, чтобы человек со смертельным залпом в чреве громоздил бы так на холсте черных ворон, а вокруг — подобие кажущейся смертельно бледной (и уж точно бедной) равнины, где винный окрас земли остервенело схлестывается с грязной желтизной полей.
Но никакому другому художнику не удалось бы найти для своих ворон такого трюфельно-черного, «нажористого» и одновременно как бы фекального черного цвета крыльев, захваченных врасплох опускающимся вечерним светом.
О чем плачет земля внизу, под крыльями этих ворон-благовестниц (слышит эту весть, должно быть, один Ван Гог) — и, с другой стороны, великолепных провозвестниц того зла, которое его самого уже не тронет?
Ведь до сих пор никто не показал нам землю такой грязной простыней, скрученной засохшим вином, вымоченной кровью.
Небо на картине — совсем низкое, раздавленное, багрянистое, точно края молнии.
Причудливый сумеречный полог пустоты, разливающейся за грозовым разрядом.
Точно черных микробов из самой своей селезенки самоубийцы, Ван Гог выпустил этих ворон в нескольких сантиметрах от верха и в то же время как бы низа картины, вторя черному шраму той черты, где взмах их роскошных перьев нависает над вспенивающейся земной бурей, грозя задушить ее с высоты.
И вместе с тем вся картина выглядит роскошно.
Роскошно, величественно и покойно.
Достойный спутник-Харон для того, кто при жизни не раз пускал шутихой пьяное солнце над загулявшими стогами сена и кто, в отчаянии и с пулей в брюхе, не удержался и залил всё вокруг кровью и вином, смочил землю последними каплями кислого вина и прогорклого уксуса, одновременно ликующими и мрачными.
Так тон последнего полотна Ван Гога — при том, что сам он никогда не выходил за пределы живописи — вторит резкому и дикому звучанию донельзя патетичной, страшной и страстной елизаветинской драмы.
Вот это и поражает меня больше всего в Ван Гоге, всем художникам художнике, сумевшем, не превосходя того, что называется и, собственно, всегда и было живописью, не выходя за рамки тюбика, кисти, кадрировки натуры и холста и не обращаясь к бытописательству, повествованию, драме, образному действию, внутренней красоте сюжета и предмета, так вдохнуть жизнь в природу и ее объекты, что иная волшебная сказка Эдгара По, Германа Мелвилла, Натаниэля Готорна, Жерара де Нерваля, Ахима фон Арнима или Гофмана не скажет вам о психологии и драме больше, чем его грошовые картины — почти все, кстати (словно сознательно), невзрачные размером.
Подсвечник на сиденье, плетеное кресло из зеленой соломы, на кресле книга, и драма готова.
Кто войдет в эту комнату?
Гоген или какой-нибудь другой призрак?
Как мне кажется, зажженная на плетеном кресле свеча обозначает лучащуюся границу, разделяющую таких несхожих меж собой Ван Гога и Гогена.
Суть их эстетических разногласий, реши мы ее изложить, возможно, не представила бы большого интереса, но помогла бы пролить свет на глубинное человеческое расхождение в самом естестве Ван Гога и Гогена.
Гоген, как мне кажется, считал долгом художника поиск символа, мифа, возвеличивание обыденной жизни до уровня мифа,
тогда как Ван Гог был убежден, что миф нужно уметь вычленить и в самой приземленной повседневности.
И здесь, на мой взгляд, он был чертовски прав.
Поскольку реальность неизмеримо выше любой истории, любой басни, любого божества и любой надреальности.
Просто нужен гений, чтобы ее истолковать.
Чего не добился ни один художник до бедняги Ван Гога, и никто не сделает после него, поскольку я уверен, что на сей раз, вот прямо сейчас, сегодня, в феврале 1947 года, вся реальность, и даже миф реальности — вся мифическая реальность — сливается в единое целое.
Так, никто после Ван Гога не сумел ударить в тот великий кимвал, тот сверхчеловеческий, извечно сверхчеловеческий колокол, на потаенный зов которого и отзывается повседневность, нужно лишь пошире открыть уши, чтобы уловить, как вздымается ее ответная волна.
Именно так звучит сияние свечи: мерцающая свеча на зеленом плетеном кресле звучит, точно дыхание того, кто любовно склонился над уснувшим больным.
Это звук диковинной критики, глубинного и удивительного суждения, чей приговор, всё больше уверяешься, Ван Гог позволит нам предугадать лишь позже, много позже, в день, когда лиловые отсветы на плетеном кресле окончательно затопят картину.
Даже если видны они становятся не сразу, нельзя не заметить этих полос лилового света, постепенно пожирающих раму огромного кривого кресла, старого разлапистого кресла зеленой соломы.
Источник этих отсветов словно находится где-то вовне, оставаясь причудливо скрытым, точно тайна, ключ к которой, пожалуй, был только у Ван Гога — и он унес его с собой.
А если бы Ван Гог не умер в 37 лет? И я не взываю тут к Великой Плакальщице с вопросом, сколькими несравненными шедеврами обогатилась бы живопись, поскольку после Ворон не могу даже помыслить, чтобы он написал еще хоть одну картину.
Думаю, что умер он в свои 37 потому, что, увы, подошла к концу его прискорбная и возмутительная история задушенного злым духом.
Ведь из жизни он ушел не по своей воле, не из-за боли от безумия как таковой.
А под давлением злого духа, который за два дня до его кончины звался доктором Гаше, психиатром-любителем: он-то и стал прямой причиной его смерти — причиной действенной и самодостаточной.
Читая письма Ван Гога брату, я пришел к твердому и искреннему убеждению: доктор Гаше, «психиатр», действительно ненавидел Ван Гога, художника, и ненавидел он его как художника, но превыше всего — как гения.
Практически невозможно быть одновременно врачом и человеком честным, но по-бесчестному невозможно оставаться психиатром, не будучи одновременно пораженным самым бесспорным безумием — болезненной неспособностью сопротивляться застарелому (даже атавистическому) рефлексу болота, который делает всякого человека науки, когда его это болото засасывает, этаким прирожденным и естественным врагом любого гения.
Медицина порождена болью — хотя куда чаще она порождается болезнью и даже, напротив, провоцирует и создает все предпосылки болезни, чтобы оправдать свое существование; психиатрия же рождается из плебейского перегноя тех, кто стремится сохранить боль в корне болезни и кто исторг из собственного небытия подобие швейцарской гвардии, чтобы подавлять в зародыше любой порыв праведного бунта, лежащий в основе всякого гения.
Непонятый гений кроется в каждом сумасшедшем — сияющие в его голове идеи пугают окружающих, — а потому выход из того удушения, что уготовала ему жизнь, он смог найти лишь в бреду.
Доктор Гаше не убеждал Ван Гога, что стремится выправить его живопись (как мне доводилось слышать от доктора Гастона Фердьера, главврача лечебницы в Родезе: он-де намеревался выправить мою поэзию), но отправлял его писать с натуры — заживо похоронить себя в пейзаже, укрыться от боли размышлений.
Только вот стоило Ван Гогу отвернуться, как доктор Гаше перекрывал ему ток мысли.
Вроде бы без злого умысла, а так — осуждающе скривив нос, как на какой-нибудь безобидный пустяк (которому всякий буржуа земли нашей бессознательно приписывает древнюю магическую силу сотни раз подавленной мысли).
Так доктор Гаше отбирал у Ван Гога не только изводившую того проблему, но и возможность расти, точно подпитанные серой саженцы — жуть, сродни гвоздю, застрявшему в глотке, перекрывшему воздух, — и вот так Ван Гог, парализованный, балансирующий над бездной дыхания, и рисовал.
Ведь Ван Гог был ужасно восприимчивым.
Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его все время словно задыхающуюся и вместе с тем какую-то завораживающую физиономию мясника.
Такого древнего мясника, умудренного и уже отошедшего от дел — это лицо в полумраке не дает мне покоя.
Ван Гог изобразил себя на великом множестве полотен, и, сколь бы хорошо они ни были освещены, я никогда не мог отделаться от тягостного ощущения, что свет в них точно подделали, что у Ван Гога отняли свет, без которого невозможно прокладывать и размечать в себе самом свой путь.
И если кто и мог бы указать ему такой путь, то уж явно не доктор Гаше.
Но, как я уже говорил, во всяком живущем психиатре гнездится отвратительный и непристойный атавизм, заставляющий его видеть врага в каждом стоящим перед ним художнике и гении.
А доктор Гаше, мне это хорошо известно, сумел оставить по себе в истории образ наперсника Ван Гога (которого он лечил и который в итоге наложил на себя руки у него дома), его последнего друга на земле, эдакого ниспосланного провидением утешителя.
Мне, вместе с тем, все больше кажется, что именно доктор Гаше из Овер-сюр-Уаза вынудил Ван Гога в тот день — день, когда тот покончил с собой в Овер-сюр-Уазе, — вынудил, повторюсь, свести счеты с жизнью, ведь Ван Гог был одной из тех натур, чье непревзойденное здравомыслие позволяет им в любых обстоятельствах смотреть далеко вперед — заглядывать в бесконечную и грозную даль за непосредственной и видимой действительностью фактов.
То есть дальше того их осознания, что обыкновенно хранит сознание.
В глубине своих точно опаленных и лишенных ресниц глаз мясника Ван Гог неустанно предавался одной из тех темных алхимических операций, предметом которым служит природа, а котлом или тиглем — человеческое тело.
И, как мне известно, доктор Гаше неизменно находил, что это его утомляет.
Тут, впрочем, стоит видеть не следствие обычной врачебной заботы, а свидетельство столь же сознательной, сколь и непризнанной, зависти.
Дело в том, что Ван Гог пришел к такой стадии озарения, когда мысль в беспорядке отступает под натиском все поглощающих разрядов — когда мысль больше не стачивает вас, а сходит на нет, и когда остается лишь подбирать тела, то есть, я хочу сказать, ГРОМОЗДИТЬ ТЕЛА.
Это уже не мир астрала: перед нами — вселенная прямого творения, перекрывающего тем самым и сознание, и мозг.
И мне как-то не доводилось видеть тело без мозгов, которое утомляли бы бездвижные опоры.
Эти опоры бездвижности — мосты, подсолнухи, тисы, оливки под деревом, сенокосы. Они больше не движутся.
Они замерли.
И кому могло бы примечтаться, что под ударом лезвия, вспарывающего их непроницаемый трепет, они будут только крепчать?
Нет, доктор Гаше, опора никогда никого не утомляет. Это силы бесноватого, они воздвигают, не сдвигая.
И я подобен в этом бедняге Ван Гогу — я больше не думаю, но с каждым днем все приближаю восхитительное вскипание моего внутреннего я и хотел бы посмотреть, как та или иная медицина станет пенять мне на утомление.
Ван Гогу задолжали некую сумму, по поводу которой, как гласит история, Ван Гог вот уже много дней как сильно переживал.
Такова склонность натур высоких — тех, что всегда чуть выше реальности: объяснять все нечистой совестью,
полагать, будто ничто не случайно и всякое приключающееся с вами зло вызвано сознательным, разумным и согласованным недоброжелательством.
Психиатры в это никогда не верят.
А гении верят всегда.
Если я болен, значит это сглаз, и я не могу считать себя больным, если при этом не верю, что кому-то на руку лишить меня здоровья, присвоить его себе.
Ван Гог так же считал, что его сглазили, и прямо говорил об этом.
И я убежден в его правоте и как-нибудь расскажу, кто и как эту порчу навел.
А доктор Гаше и был тем гротескным цербером, гнойным и чирейным цепным псом в лазурном пиджаке и топорщащимся от крахмала белье, преградившим бедняге Ван Гогу путь, чтобы вычистить у того из головы все здравые мысли. Ведь, если бы здравый взгляд на вещи был распространен повсеместно, общество просто не могло бы дальше существовать — но мне известны герои земли нашей, которым это даровало бы полную свободу.
Ван Гог не сумел вовремя стряхнуть узы сосавшей из него кровь семьи, только и мечтавшей, чтобы гениальный Ван Гог ограничился живописью, не требуя в то же время революции, необходимой для телесного и физического расцвета его озаренного духа.
Сколько их было между доктором Гаше и Тео, братом Ван Гога, этих смрадных сговоров семей с главврачами психлечебниц по поводу больного, которого те им привели.
— Вы уж присмотрите, чтобы такие мыслишки у него не заводились; а ты, слышишь, доктор говорит, забрасывай такие идеи — один вред от них, на всю жизнь так в смирительной рубашке и останешься.
— Ну что вы, господин Ван Гог, опомнитесь — право слово, это просто совпадение, да и потом, заглядывая так в тайны Провидения, никогда ничего хорошего не добьешься. Я месье Такого-то прекрасно знаю — милейший человек; что за мания преследования, всюду вам тайный сглаз мерещится.
— Обещал он с вами расплатиться — значит расплатится. Будет вам упорствовать, сколько можно в обычной задержке видеть что-то злонамеренное.
Такие вот задушевные увещевания миляги-психиатра: вроде бы пустяк, а на душе словно остается след от черного язычка, безобидного язычка ядовитой саламандры.
И порой этого достаточно, чтобы толкнуть гения на самоубийство.
Бывают дни, когда сердцем так чудовищно чувствуешь тупик, точно палкой оглушили — от одной лишь мысли, что дальше пути нет.
Ведь именно после беседы с доктором Гаше Ван Гог как ни в чем не бывало вернулся к себе в комнату и застрелился.
Я сам девять лет провел в сумасшедшем доме и мыслью о самоубийстве одержим никогда не был, но прекрасно помню, как после каждого разговора с психиатром на утреннем обходе хотелось повеситься от одной только мысли, что удушить его нет никакого шанса.
Тео, может, и помогал брату деньгами, но, несмотря на это, всё равно считал того сумасбродом, юродивым и блаженным и всячески пытался утихомирить его, вместо того чтобы последовать за ним в бреду.
И даже если он потом умер от сожалений, какая разница?
Дороже всего на свете Ван Гогу была его убежденность художника — чудовищная, фанатическая и апокалиптическая вера озаренного — в то, что мир обязан подчиниться его представлению, должен вновь заплясать в пружинистом и свободном ото всякой психологии ритме таинственного уличного праздника и на глазах у всех вернуться в раскаленный тигель.
А это значит, что на картинах старины Ван Гога — мученика Ван Гога — вызревает сейчас апокалипсис, сбывшийся апокалипсис, и земле без него ни за что не рвануть вперед сломя голову.
Ведь пишут или рисуют, высекают, лепят, строят и выдумывают все, только чтобы вырваться наконец из ада.
По мне, так из ада скорее выведут пейзажи этого безобидно-бесноватого, нежели кишащие персонажами композиции Брейгеля-старшего или Иеронима Босха: они в сравнении с ним — всего-навсего художники, тогда как Ван Гог — лишь бед- ный невежда, старающийся не ошибиться.
Но как объяснить ученому: что-то непоправимо сместилось в дифференциальном исчислении, квантовой теории или похабных и столь бестолково литургических ордалиях прецессии равноденствий — сместилось от сияния креветочно-алого стеганого одеяла, которое Ван Гог так нежно взбил в излюбленном уголке своей постели; от крошечной вспышки зеленого веронеза, прокаленной лазури лодки, над которой разгибается со своим бельем прачка из Овер-сюр-Уаза; сместилось под лучами этого солнца, ввинченного над серым углом деревенской колокольни со шпилем вон там, в глубине, а на вас несется гигантская масса земли, ищущая на переднем плане музыки волну, в которой можно было бы свернуться и замерзнуть.
о вио профе
о вио прото
о вио лото
о тете
К чему описывать картину Ван Гога! Никакое описание постороннего не сравнится с тем, как просто нанизывает повседневные объекты и оттенки сам Ван Гог, настолько же великий писатель, что и художник: описание произведений у него оставляет впечатление самой поразительной аутентичности.
Что такое рисование? Как им овладевают? Это умение пробиться сквозь невидимую железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты умеешь. Как же все-таки проникнуть через такую стену? На мой взгляд, биться об нее головой бесполезно, ее нужно медленно и терпеливо подкапывать и продалбливать.
8 сентября 1888
В моей картине Ночное кафе я пытался показать, что кафе — это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Словом, я пытался, сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и винно-красным, нежно-зеленого и веронеза с желто-зеленым и жестким сине-зеленым, воспроизвести атмосферу адского пекла, цвет бледной серы, передать демоническую мощь кабака-западни. И всё это под личиной японской веселости и тартареновского добродушия.
23 июля 1890
Может быть, ты посмотришь набросок сада Добиньи? Это одна из самых дорогих для меня моих работ. Прилагаю также другой набросок — хижины, крытые соломой, и еще два с полотен в 30, изображающие бескрайние хлеба после дождя…
На переднем плане сада Добиньи — розово-зеленая трава, слева — зелено-лиловый куст и пень с беловатыми побегами; в центре — клумба роз; справа — изгородь я стена, а под стеной фиолетовая листва орешника. Затем живая изгородь из кустов сирени, аллея подстриженных желтых лип, и — в глубине — сам дом, розовый, с голубоватой черепичной крышей. Скамья и три кресла, черная фигура в желтой шляпе и на переднем плане черный кот. Небо бледно-зеленое.
Как, кажется, просто вот так писать!
Ну что ж! попробуйте и потом расскажете мне, удастся ли вам, не будучи автором картины Ван Гога, описать ее столь же просто, сухо, бесспорно, долговечно, окончательно, прочно, смутно, всеобъемлюще, аутентично и чудодейственно, как в этом его коротеньком письме.
(Ведь аршином для поверки служит тут не то, как широко вы размахнулись или как жестоко вас скрутило, а просто способность держать перо.)
Так что я не стану описывать картину Ван Гога после него самого, скажу лишь, что Ван Гог — настоящий художник, потому что он наново собрал природу, точно согнав с нее последний пот и погоняв как следует, и пучками, да что там, почти монументальными снопами красок выплеснул на свои полотна вековую россыпь первородных элементов, ужасающее стихийное напряжение апострофов, черт, запятых и палочек, из которых — после него в том уже нельзя усомниться — и создано всё, что являет нам природа.
И плотину скольких тычков локтем исподтишка, схваченных наживо отведенных глаз и зарисованных с натуры сжатых век пришлось снести световым потокам лепящих реальность сил, прежде чем их наконец обуздали, как бы вознесли на полотно — и приняли?
На картинах Ван Гога нет призраков, нет видений или галлюцинаций.
В них — палящая истина послеобеденного солнца.
Постепенно проясняющийся тягучий первородный кошмар.
И не остается ни кошмара, ни его последствий.
Лишь боль непресуществленного.
Мокрый блеск травы, пшеничного стебля, который вот-вот сорвут.
За что природе однажды придется расплатиться.
Как и обществу — за его безвременную смерть.
Прижатая ветром пшеница, а над ней, запятой, — крылья единственной птицы: какой художник, строго говоря, художником не являющийся, отважился бы, подобно Ван Гогу, взяться за сюжет столь обезоруживающей простоты?
Нет, на картинах Ван Гога нет призраков, нет драмы, сюжета и, я бы даже сказал, объекта — ведь что такое вообще живопись с натуры,
если не подобие стальной тени мотета на несказанную древнюю мелодию, лейтмотив ее собственной безнадежной темы?
Это вид неприкрытой и чистой природы — какой она раскроется, если суметь подойти к ней достаточно близко.
Свидетельством тому — этот пейзаж расплавленного золота, отлитой в древнем Египте бронзы, где огромное солнце ложится на крыши, истекающие — почти что растекающиеся — сиянием.
И никакая апокалиптическая, иероглифическая, призрачная или патетичная живопись не оставит по себе такого ощущения задушенной тайны — точно бессмысленно запирающегося трупа, с отсеченной головой, почти раскрывшего свой секрет на плахе.
Я думаю тут не о спокойном папаше или той диковинной осенней аллее, где последним прохожим горбится старик, вцепившийся в рукоятку зонта, точно старьевщик, сжимающий свой крюк.
На ум тут вновь приходят его вороны с крыльями черного трюфельного глянца.
На ум вновь приходит его пшеничное поле: колосок к колоску, и все сказано, а на первом плане — несколько головок мака, рассыпанных мягко, едкими и нервными мазками, редкой россыпью, нарочитыми и бешеными обрывистыми точками.
Только сама жизнь вскрывает так оголенную кожу, вещающую из-под распахнутой сорочки, и взгляд невесть почему скользит скорее влево, а не вправо, к пригорку завивающейся плоти.
Но все именно так, и это факт.
Это так — и всё.
Полна тайн и его спальня, такая очаровательно крестьянская и точно напоенная запахом спекающейся пшеницы — будто видишь, как колосья подрагивают вдали, за скрывающим их окном.
Такой же сельский — и цвет старого стеганого одеяла, алого, как мидия, как морской еж, креветка, средиземноморская барабулька, как прокаленная паприка.
И это, несомненно, вина Ван Гога, если цвет одеяла с его кровати так идеально вписался в реальность: ума не приложу, какой ткач сумел бы воспроизвести его неописуемую закалку столь же удачно, как Ван Гог, словно изливший кумач этого несказуемого пигмента на полотно из самой глубины своего мозга.
И я не знаю, сколько святош-преступников, грезящих об охристом золоте в нимбе их так называемого святого духа, о бескрайней лазури высеченного их «марийным» долотом витража, смогли бы вычленить в воздухе, вырвать из его лукавых пазух эти бесхитростные цвета, которые — событие сами по себе, тогда как каждый мазок кисти Ван Гога на Холсте — больше события, хуже несчастного случая.
Порой на выходе получаешь комнатушку — чистенькую, но словно с капелькой елея или ладана, какие не сыскать никакому бенедиктинцу, доводящему до ума свои укрепляющие здоровье настойки.
А порой — простой стог, раздавленный гигантским солнцем.
Своей жемчужно-белой стеной, на которой, точно крестьянский амулет, неприступный и утешительный, висит полотенце грубого сукна, эта комната напоминала мне о Великом делании.
Такой меловый, воздушный белый цвет порой пронзительнее древних пыток, и именно в этой картине бедного великого Ван Гога лучше всего заметна его застарелая скрупулезность в работе.
В этой уникальной дотошности глухого ко всему, упоенного мазка — весь Ван Гог. Цвет вещей рядовой, незнатный — но до того точный, столь любовно точный, что ни один драгоценный камень не сравнится с ним в редкости.
Просто из всех живописцев Ван Гог, наверное, остается самым настоящим художником, единственным не пожелавшим выйти за пределы живописи, строго повинуясь ей как рецепту творчества, как строгой рамке для его рецептов.
И вместе с тем — единственным, бесспорно единственным, кто оставил живопись (безжизненный акт изображения природы) безоговорочно позади: в его несравненном отображении природы бьет фонтан неиссякающей силы, сверкает вырванный в самом ее сердце первоэлемент.
В его отображении пульсирует дыхание, бьется нерв, которых у самой природы нет, которые своей природой и своей атмосферой правдивее дыхания и нерва настоящей природы.
Сейчас, когда я пишу эти строки, я вижу, как кроваво-красное лицо художника надвигается на меня в частоколе выпотрошенных подсолнухов, в восхитительном сполохе мутно-багровых углей и ультрамариновых трав.
И все это — посреди хлещущего нас точно метеоритного дождя атомов, где видно каждое их зернышко, доказательством тому, что свои картины Ван Гог задумывал, конечно, как художник — и только как художник, — но который также, уже тем самым, был и редчайшим музыкантом.
Органистом бури, замершей на мгновение и заливающейся хохотом в прозрачном, умиротворенном пейзаже меж двух приступов — но, как и сам Ван Гог, природа прямо говорит нам: они готовы оставить этот мир.
Взглянув на любую написанную картину, от нее можно отвернуться — больше ничего она уже нам не скажет. Но грозовой свет живописи Ван Гога начинает свои мрачные повествования как раз тогда, когда мы на нее больше не смотрим.
Ван Гог — только художник, и не больше, тут нет философии, мистики, ритуала, психургии или литургии, нет истории, литературы или поэзии, его подсолнухи отливающего бронзой золота просто нарисованы — написаны, как подсолнухи, и не больше, — но, чтобы понять обычный подсолнух, нам теперь нужно обращаться к Ван Гогу — точно так же, чтобы понять настоящую грозу за окном, грозовое небо, настоящую равнину, мы уже не можем не обратиться к Ван Гогу.
Наверное, такая гроза бушевала в древнем Египте или над равнинами семитской Иудеи, возможно, мрак так же сгущался над Халдеей, Монголией или на взгорьях Тибета — которые, насколько мне известно, и сегодня стоят все там же.
И вместе с тем, взглянув на эту равнину — усаженную пшеницей или усыпанную камнями, белую, точно зарытые в землю кости, — над которой нависает древнее багрянистое небо, я не могу поверить, что горы Тибета действительно существуют.
Ван Гог — только художник, и не больше, он взял рецепты самой чистой живописи и не отступил от них ни на шаг.
То есть, рисуя, он не пошел дальше тех средств, что предлагала ему живопись.
Грозовое небо, выбеленная мелом равнина, холсты, кисти, его рыжие волосы, тюбики краски, его желтая рука, его мольберт, но когда все тибетские ламы еще только раздувают своими юбками пламя призванного ими апокалипсиса, Ван Гог даст нам заранее прочувствовать его кипение в картине, жути на которой — ровно столько, чтобы заставить нас сдвинуться с места.
Однажды его вот так осенила решимость не выходить за рамки натуры, но, взглянув на картину Ван Гога, нельзя поверить, что преодолеть их вообще возможно.
Самая простая натура — свеча, зажженная на соломенном кресле с лиловой рамой — под кистью Ван Гога скажет нам много больше, чем целая череда греческих трагедий или драм Сирила Тернера, Уэбстера или Форда [Сирил Тернер (1575–1626), Джон Уэбстер (1578–1634), Джон Форд (1586–1649) — английские драматурги елизаветинской эпохи. Арто возвращается к сравнению/противопоставлению живописи Ван Гога и елизаветинской драмы. — Пер.], до сих пор, кстати, так и оставшихся несыгранными.
Без всякой литературы я представлял себе, как на меня надвигается лицо Ван Гога, кроваво-красное во взрыве его пейзажей,
коан
тавер
тенсур
пуртан
в сполохе,
в хлещущем нас дожде,
во взрыве, —
мстящих за тот мельничный жернов, который бедный безумец Ван Гог всю жизнь таскал на шее.
Ярмо необходимости писать, не зная, для чего, ни для какого мира.
Ведь не ради же этой вселенной, нет, не для этой планеты работали мы всю жизнь, боролись, выли от ужаса, голода, горя, ненависти, возмущения и отвращения, не ради нее нас всех травили, но именно ей нас всех и сглазили, и из-за нее мы в конце концов покончили с собой, ведь не все ли мы, как и бедняга Ван Гог, самоубиты обществом?!
Рисуя, Ван Гог отказался от живописательства, но не чудесно ли, что этот «не больше, чем художник» — больший художник, чем все остальные, ведь сырье живописи, сама краска у него всегда на первом плане, ведь цвет у него — ровно тот, что только выдавлен из тюбика, и в нем один к другому отпечатываются волоски кисти, а мазок нанесенной на холст краски словно искажается в его собственном солнце, и точка над И, запятая, самый кончик кисти словно бы ввинчены в цвет, захваченный врасплох, брызжущий искрами, который художник укрощает и заново взбивает со всех сторон, так вот, не чудо ли, что среди всех художников этот «не больше, чем художник» — еще и тот, с кем легче всего забываешь, что перед нами — живопись, живопись, призванная отобразить найденную им натуру, — и кто обрушивает на нас, изливает с бездвижного полотна чистую загадку, незамутненную загадку замученного цветка, пейзажа, изрубленного, вспаханного и отжатого со всех сторон его захмелевшей кистью.
Его пейзажи — былые грехи, еще не обретшие тот апокалипсис, с которого они начались, но который они не преминут найти.
Почему картины Ван Гога кажутся мне замогильными снимками давно ушедшего мира, где метаться по небу и радостно сиять в конечном счете могли лишь его солнца?
Наверное, потому что в этих скрученных судорогой пейзажах, в их цветах живет и умирает вся история того, что однажды назвали душой.
Души, внемлющей телу, и Ван Гог прислушивался к душе своей души, к женщине, усиливая и без того зловещую иллюзию.
Было время, когда никакой души не существовало, и разума тоже, что же до сознания, никто о нем тогда и не думал, да и где, кстати, была бы мысль в этом мире, сложенном исключительно из элементов, бьющихся друг с другом и распадающихся, не успев восстановиться, ведь мысль — роскошь мирного времени.
И кто из художников сумел лучше невероятного Ван Гога понять феноменальный характер задачи — ведь у него любой истинный пейзаж точно заложен в потенции тигля, где он начнется заново.
Ну а старина Ван Гог был королем, против которого, пока тот спал, придумали любопытное злочинство, имя которому — византийство, образчик, средоточие и обоснование греха всего человечества, которое издавна только и умело что поедать художника «о натюрель», дабы исполниться его честности.
Как и со всем остальным, еще один способ освятить ритуалом собственную трусость!
Ведь человечество не хочет обременять себя жизнью, не хочет втискиваться в природную толчею сил, из которых и состоит реальность, чтобы получить на выходе тело, которому не страшна никакая буря.
Ему всегда приятнее довольствоваться просто существованием.
А истинную жизнь человечество обычно черпает в гении художника.
Тогда как Ван Гог, опаливший себе руку, никогда не страшился войны во имя того, чтобы жить — то есть чтобы разделить факт жизни и идею существования, ведь вполне можно влачить существование, не обременяя себя бытием, и можно просто быть, не тяготясь потребностью сиять и блистать, подобно бесноватому Ван Гогу.
Именно это сияние и отняло у него общество, пустив его на свое византийство — культуру показной честности, истоком и опорой которой является преступление.
Вот так Ван Гог и умер самоубитым — просто потому, что всё сознание мира не могло его больше выносить.
Поскольку, если не было ни духа, ни души, ни сознания, ни мысли, была гремучая ртуть, заскорузлая лава, камень одержимости, стойкости, был бубон, запекшаяся опухоль и струпья этого заживо освежеванного.
И король Ван Гог дремал, высиживая грядущее возвестье вскинувшегося бунтом здоровья.
Как так?
А так, что доброе здравие суть мириады изъедающих тебя болей, восхитительной горячки жизни, источенной сотней ран — и их надо пестовать, нужно дать плодиться и размножаться.
В ком не сидит тлеющий в преддверии взрыва запал и сжатое пружиной головокружение, жить не достоин.
Вот такой целебный диктамнон взбрело в голову взрастить бедняге Ван Гогу.
Но недремлющее зло сразило его.
Византиец в его маске человека честного подкрался к Ван Гогу, чтобы вырвать из него зерно, чтобы собрать только зарождавшееся (природное) зерно.
И Ван Гог тем самым потерял тысячу лет.
От чего и умер в свои 37, так и не начав жить, поскольку еще до него любой бабуин изжил собранные им силы.
Вот это-то всё сейчас и нужно будет вернуть, чтобы он смог воскреснуть.
Человечеству — трусливому бабуину, мокрой шавке — живопись Ван Гога противопоставляет время, когда не было ни души, ни духа, ни сознания, ни мысли — одни лишь первоэлементы, то смыкающиеся цепочкой, то бешено разлетающиеся.
Пейзажи нечеловеческих конвульсий, исступленных потрясений — так лихорадка стачивает тело, чтобы привести его к идеальному здоровью.
Тело под кожей — раскаленный завод,
и, снаружи, больной сияет,
лучится
всеми своими разорванными порами.
Как пейзаж
Ван Гога
в полдень.
Только бесконечная война может объяснить недолговечный мир, как убегающее молоко объясняет ковш, в котором оно кипело.
Остерегайтесь прекрасных пейзажей Ван Гога — клокочущих и мирных, скрученных судорогой и упокоенных.
Это как здоровье между двумя приступами горячки, которая вот-вот пройдет.
Как лихорадка меж двух пиков восставшего здоровья.
Настанет день, и живопись Ван Гога, вооружившись и горячкой, и добрым здравием,
вернется, чтобы взбить бурей пыль того мира за решеткой, который сердце его не могло больше выносить.
Постскриптум
Хочу вернуться к картине с воронами.
Где еще увидишь, как земля вот так уравнивается с морем?
Из всех художников Ван Гог обдирает нас глубже всего, до костей — но так и мы сбрасываем путы наваждения — одержимости переиначиванием предметов, решимости осмелиться согрешить другим, когда кажется, что земля не может быть цвета плещущегося моря — но именно таким морем Ван Гог, словно ударами мотыги, бросает нам в лицо свою землю, пропитывает винным цветом всё полотно, и вот уже земля пахнет вином, плещется посреди пшеничных волн, тянется сумрачным петушиным гребнем к низким тучам, которые сбегаются со всех сторон на небе.
Но, я уже говорил, самое невыносимое в этой истории — та пышность, с которой выписаны вороны.
Их цвет, сочащийся мускусом и нардом, трюфелем, точно сошедшим с роскошного стола.
В багрянистых волнах неба две-три вздыбившиеся дымки — точно стариковские головы — осмеливаются корчить рожи конца времен, но вороны Ван Гога тут как тут, чтобы приструнить их — или, скорее, сбить с них спесь, но что сам Ван Гог хотел сказать этой картиной с ее придавленным небом, написанной словно бы в тот самый миг, когда он стряхивал с себя земной удел: такой у нее странный, почти торжественный колорит — рождения, венчания, ухода, слышишь, как вороньи крылья мощно бьют в кимвал над землей, поток которой Ван Гог, кажется, уже не в силах сдержать.
А потом смерть.
Оливковые рощи Сен-Реми.
Солнечный кипарис.
Спальня.
Сбор оливок.
Алискамп.
Кафе в Арле.
Мост, нагнувшись с которого так хочется коснуться воды, в порыве дерзкого возвращения в детство, куда окунает вас поразительная рука Ван Гога.
Вода синяя,
но не водяной лазурью,
а синькой жидкой краски.
Перед нами прошел наложивший на себя руки безумец, вернувший природе воду со своей картины,
но кто вернет ее ему?
Ван Гог — безумец?
Пусть тот, кто сумел хоть однажды по-настоящему взглянуть на человеческое лицо, посмотрит на автопортрет Ван Гога — я имею в виду тот, что с мягкой шляпой.
С вершин своего здравомыслия Ван Гог являет нам лицо рыжего мясника, который рассматривает нас, следит за нами, вглядывается, скосив глаза.
Не знаю, какой психиатр мог бы всмотреться в лицо человека с такой сокрушительной силой, словно скальпелем раскраивая его неопровержимую психологию.
Глаза Ван Гога полны бесспорной гениальности, но в том, как он рассекает меня из самой глубины полотна, где зарождается его взгляд, я чувствую: им в этот момент движет гений уже не художника, но философа, каких мне в жизни ни разу не довелось повстречать.
Нет, это взгляд не Сократа — пожалуй, до Ван Гога только у несчастного Ницше был такой взгляд, раздевающий душу, освобождающий тело от души, оголяющий человеческое тело, отбрасывающий прочь уловки духа.
Взгляд Ван Гога подвешен, ввинчен, спрятан под колпаком тонких век и куцых бровей без единой складки.
Этот взгляд из глубины лица, вырубленного секачом точно хорошо обтесанный ствол, пригвождает, пронзает насквозь.
Но Ван Гог уловил мгновение, когда зрачок вот-вот вытечет в пустоту, когда этот взгляд, пущенный в нас точно заряд метеора, принимает блеклый цвет пустоты и наполняющей ее бездвижности.
Вот так Ван Гог, лучше всякого психиатра, и нащупал свою болезнь.
Я пронизываю, возвращаюсь, всматриваюсь, зацепляю, вскрываю, моя бездыханная жизнь больше ничего в себе не таит, да и потом, небытие — это обычно не больно, а потому я снова ухожу вовнутрь, безотрадное отсутствие наваливается на меня и порой затопляет, но я вижу его насквозь, так ясно, я знаю даже, что такое небытие, и могу рассказать, что там внутри.
И Ван Гог был прав — можно жить ради бесконечности, всегда стремиться к бесконечному, на земле и в поднебесных сферах его достаточно, чтобы утолить и тысячу самых великих гениев, и если Ван Гогу не удалось, как он того хотел, озарить им всю свою жизнь, то лишь потому, что этому помешало общество.
В открытую, сознательно запретило.
Нашлись однажды палачи и на Ван Гога, как были они и у Жерара де Нерваля, Бодлера, Эдгара По и у Лотреамона.
Те, что сказали ему как-то: «А теперь хватит, Ван Гог, пора в могилку, мы по горло сыты твоим гением, ну а бесконечность — она только для нас».
Ведь не от поисков же бесконечного умер Ван Гог, не они задавили его горем и удушьем — а от вставшего на пути болота тех, кто еще при жизни решил, что бесконечность — на их стороне и против него; и Ван Гог мог бы найти столько бесконечности, что хватило бы на всю жизнь — да вот только звериное сознание массы решило забрать ее для своих оргий, в которых нет ни толики живописи или поэзии.
Да и потом, в одиночку себя не убиваешь.
Никто никогда не рождается в одиночестве.
И умирать тоже одному ни у кого не получается.
Но в случае самоубийства нужна целая армия неправедных существ, чтобы толкнуть тело на такой противоестественный поступок — лишить себя своей собственной жизни.
И я уверен, что в бесповоротную минуту смерти всегда рядом кто-то еще — он-то и отбирает нашу собственную жизнь.
Вот так Ван Гог сам себя и осудил: потому что жизнь его подошла к концу и, как ясно из его писем брату, потому что из-за рождения у того сына, он счел себя лишним ртом.
Но больше всего Ван Гог хотел наконец окунуться в ту бесконечность, к которой, по его словам, уносишься, как на поезде к звездам [Письмо Тео в июле 1888 года: «Подобно тому, как нас везет поезд, когда мы едем в Руан или Тараскон, смерть уносит нас к звездам». — Пер.], на который садишься в тот день, когда окончательно решаешь покончить с жизнью.
Однако со смертью Ван Гога — так, как она случилась — дело было совсем не так.
Первым Ван Гога отправил в мир иной его брат, объявив о рождении племянника, затем — доктор Гаше, который, вместо того чтобы прописать ему покой и одиночество, отправил того писать с натуры, хотя и понимал, что Ван Гогу в тот день лучше бы отправиться в постель.
Поскольку здравомыслию и чувствительности такой закалки, как была у мученика Ван Гога, вот так в лоб не противостоят.
Бывают дни, когда кому-то, чтобы наложить на себя руки, хватит и простого возражения: и никакое сумасшествие, никакие ярлыки безумца тут ни при чем — напротив, достаточно быть в трезвом уме и добром здравии.
Я в похожем случае не стерпел бы, не натворив беды, коли мне твердили бы: «Господин Арто, да вы бредите», как это не раз случалось.
А Ван Гогу именно так и сказали.
И от того в горле у него и свернулся тот ком крови, что его и убил.
Постскриптум
Кстати, о Ван Гоге, магии и сглазе — помнят ли посетители музея Оранжери, приходившие в последние два месяца к его картинам, обо всем, что делали, что приключалось с ними каждый вечер на протяжении февраля, марта, апреля и мая 1946 года? Может, в один из вечеров воздух вокруг, само дыхание улиц как бы растеклись студенистым эфиром, а свет звезд и небесного свода вдруг потух?
И Ван Гога — того, что написал кафе в Арле — рядом не оказалось. А я был в Родезе, то есть всё еще на этой планете, тогда как обитателям Парижа, наверное, хотя бы на одну ночь не терпелось ее покинуть.
И не потому ли это, что все они, как один, причастны к тем вселенским гадостям, когда сознание парижан, покидая реальность, на часок-другой остраняется в одном из тех повальных выплесков ненависти, свидетелем, да что там, объектом которой я не раз становился за девять лет моего интернирования? Сейчас ненависть, как и вымаранные ей по ночам пассажи, подзабылись, а те, кто столько раз обнажал свои душонки низменных свиней, сейчас приходят смотреть Ван Гога, кому при жизни они или их отцы и матери так ловко свернули шею.
И не упал ли в один из тех вечеров, о которых я говорю, на углу бульвара Мадлен и улицы Матюрен огромный белый камень, точно исторгнутый в ходе недавнего извержения вулкана Попокатепетль?
Перевод: Сергей Дубин