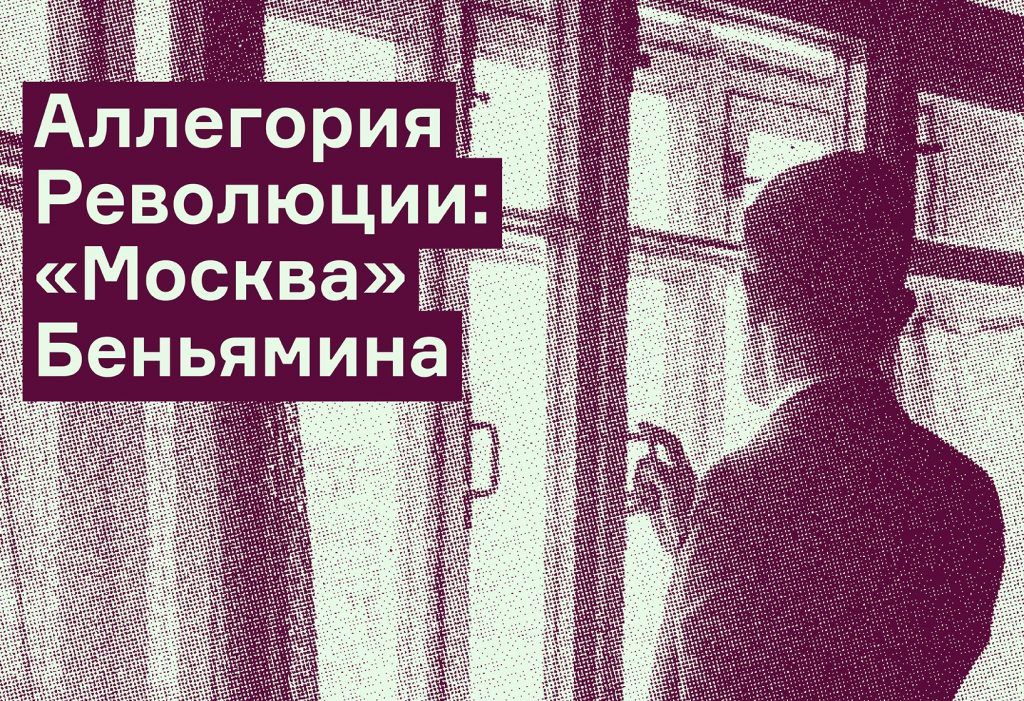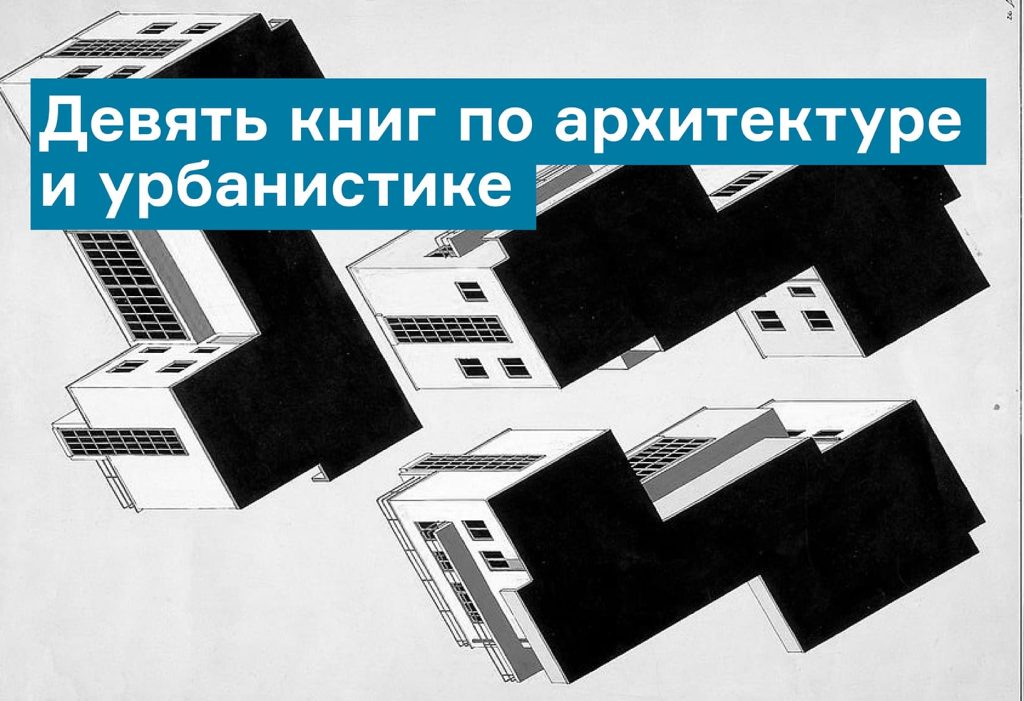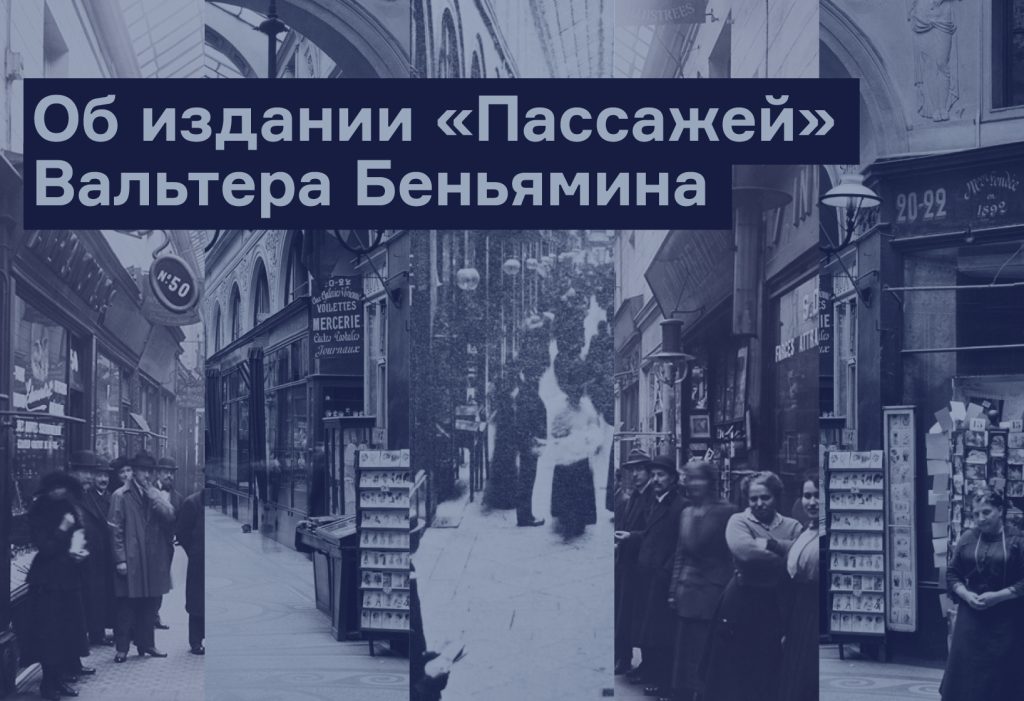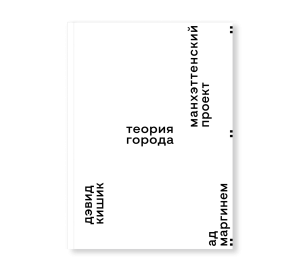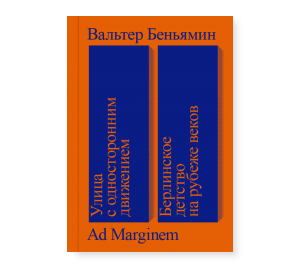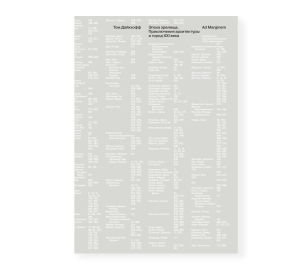«Беньямин для меня то же, что Вергилий для Данте»

К выходу «Манхэттенского проекта» редактор перевода книги Ольга Гаврикова взяла интервью у ее автора — профессора бостонского Эмерсон-колледжа, писателя и философа Дэвида Кишика. Какую роль сыграл Беньямин и его «Московский дневник» в «Манхэттенском проекте»? Почему для Кишика урбанизм и модернизм — это одно и то же? И при чем тут «Моби Дик» и сериал «Наследники»? Об этом и многом другом читайте в материале.
О.Г.: Вы пишете, что «„Манхэттенский проект“ можно рассматривать как case study по урбанизации, в котором Нью-Йорк XX века выступает парадигмой», при этом Вальтер Беньямин является неотъемлемой частью этого проекта. Как же они соотносятся? Что такое Беньямин в вашем нью-йоркском нарративе? Парергон, метафора, одна из многих? Нечто иное?
Д.К.: Парадигма, словами самого Беньямина, подобна водовороту в потоке становления. Ее легко определить в пространстве и времени, но сама она объясняет нечто, выходящее далеко за пределы своей конкретной истории и географии. Для Фуко паноптикум выступает парадигмой современного дисциплинарного общества. Для Агамбена Освенцим — это парадигма современной биополитики. Для Беньямина Париж — парадигма современного капитализма. Но если эти мыслители использует свои парадигмы для критики нашего современного мира, я рассматриваю Нью-Йорк как парадигму эмансипаторного элемента в самом сердце современности. В моей книге урбанизм и модернизм — одно и то же. Современными нас прежде всего делает не индустриальная революция, а урбанистическая. В этом контексте Беньямин для меня то же, что Вергилий для Данте. Он мой проводник или учитель, открывший мне смысл, прекрасно сформулированный Кальвино в «Невидимых городах»: «Ищите и учитесь распознавать, кто и что среди преисподней не является преисподней, а затем помогите им вытерпеть, дайте им простор».
О.Г.: Очевидно, что Беньямин в вашей книге не столько действительный герой, сколько скорее призрак, или даже очки, через которые вы смотрите и размышляете, что вполне соответствует характеру его собственных текстов, да и вашего теоретического труда. Однако в разговоре об урбанистических текстах Беньямина сложно не вспомнить его «Московский дневник». «Наиболее личный, полностью и безжалостно откровенный документ <…> его жизни. С ним не может сравниться ни одна из его прочих попыток дневниковых записей <…> даже записки очень личного характера, сделанные им в 1932 году, когда он подумывал о самоубийстве», как писал о нем Гершом Шолем. Проблемная любовная история Беньямина с Асей Лацис будто бы снова возникает в вашей личной истории в прологе к «Манхэттенскому проекту», однако общее повествование не отличается эмоциональным и личным началом, оно скорее интеллектуальное и призрачное (уже на уровне названия — проект, теория). Не могли бы вы прокомментировать такой обезличенный подход к Нью-Йорку и вашему Беньямину?
Д.К.: Из «Московского дневника» я заимствовал свои любимые строки для одного из описаний Нью-Йорка: «Каждая мысль, каждый день, каждая жизнь лежат здесь, как на лабораторном столе. Как если бы это был металл, из которого во что бы то ни стало нужно извлечь неизвестное вещество, он должен будет терпеть проводимые над ним эксперименты до полного изнеможения. Ни один организм, ни одна организация не может избежать этого процесса». Грубость и беспощадность жизни в метрополии, ее отчужденная, меланхоличная и одинокая природа подталкивает Беньямина к странной любви: не той, что с первого взгляда, а той, что он называет «любовью с последнего взгляда», вспоминая о былых объятиях, уже после того, как городская оргия превратилась в клубок сонных потных тел. Однако гораздо более личное и эмоциональное начало содержится в моем описании Нью-Йорка, который связан не столько с урбанистическими раздумьями Беньямина, сколько с моим личным опытом жизни на острове Манхэттен с 1999 года. Я не до конца осознавал это, когда писал «Манхэттенский проект», и принял это совсем недавно в своей последней книге «Self Study».
О.Г.: Метафора сна, мечты и пробуждения является одной из центральных в «Пассажах», и, безусловно, присутствует и на страницах «Манхэттенского проекта». В последнем мы читаем: «пробуждение — сверхзадача двух монументальных книжных проектов Беньямина. Отличие в том, что именно из них идентифицируется как фантазия, а что — как реальность. В более раннем проекте пробуждение предполагает, что Париж XIX века, по сути, является сном, скорее даже ночным кошмаром, из которого должен вырваться его читатель XX века. <…> Объявленный как история настоящего, „Манхэттенский проект“ предназначен установить будильник для своих будущих дремлющих читателей. Беньямин откликается на наше нынешнее состояние догматической дремы». К чему пытается нас пробудить «Манхэттенский проект»? Успешно ли? Не думаете ли вы, что сами, с вашим интеллектуально провоцирующим и изысканным повествованием, питаете миф о Нью-Йорке как о городе-мечте или городе абсолютной жизни? И не противоречит ли это интенциям вашего же Беньямина?
Д.К.: Современный город, казалось бы, умирает от тысячи ран. Однако я всё еще считаю, что сообщения о его кончине весьма преувеличены. Критика или стенания о городе столь же стары, как и возвышение Парижа в качестве первой современной мировой столицы (locus classicus в этом вопросе — Руссо). Те же антиурбанистические заблуждения мы слышали — как слева, так и справа — в разгар и после недавней пандемии. Однако я не назову никакого другого места, где обитал бы какой-либо революционный потенциал (политический или социальный, культурный или сексуальный, эстетический или экономический), кроме больших городов. Вспомните конец сериала «Наследники», который я воспринимаю не как трагедию, а как комедию, подобно своему «Манхэттенскому проекту». Это вроде ситкома «Сайнфелд» — нью-йоркское шоу ни о чем, где ничего не происходит, но с более пышными декорациями. Два никчемных наследника, Кенделл и Роман, всю жизнь прожили в Нью-Йорке, но это была жизнь-мечта, совершенно оторванная от реальности вокруг. Я считаю, что конец сериала — это и есть пробуждение, лопающийся пузырь их идеальной жизни. Осторожно, спойлер: одного из братьев избивают протестующие на улице, другой оказывается в Бэттери-парке, готовый прыгнуть в ледяную реку. Их сестра Шив остается со своим мужем Томом, который, будучи весьма скромного происхождения, оказывается неожиданным наследником империи ее отца. Словом, город просыпается, даже самые привилегированные его жители, и проникается болезненной правдой собственного ничтожества.
О.Г.: Ваш текст соблазняет идеей «урбанистического сознания», весьма подрывной и идеалистической по своей сути; это основа принадлежности и единения вне класса, политики, нации, религии и т. д. Нью-йоркский Беньямин умер в 1987 году (хотя кто знает…), затем наступила эра глобализации, которая сейчас, очевидно, меняется. Есть ли сегодня потенциал в урбанистическом сознании? Считаете ли вы себя метриотом, носителем городского сознания?
Д.К.: Сегодня мы понимаем, что глобализация и интернет лишь сделали большие города еще более могущественными, чем когда-либо, а не наоборот. И в свете сегодняшнего подъема национализма по всему миру это должно сделать наше урбанистическое сознание еще более значимым. Абсолютная жизнь и инклюзивная логика метрополий по-прежнему является лучшим антидотом против голой жизни и эксклюзивной логики, поддерживаемой национальным государством. Это понял уже Мелвилл в «Моби Дике», где корабль и капитан обозначают государство и его мономаниакального суверена, которые охотятся за китом, символизирующим город. Опять спойлер: охота заканчивается, когда кит ломает корабль и убивает капитана и всех, кто был на борту, за исключением Измаила, рассказчика-манхэттенца. Как я пишу в книге: «„Моби Дик“ учит нас простой исторической истине с удивительно счастливым концом. Все империи и тираны, какими бы могущественными и злыми они ни были, в конце концов угасают. Города, по какой-то причине, чаще всего просто переживают их». Каждый великий город — все еще город-убежище, даже если его злой преступник сам скрывается в его недрах.