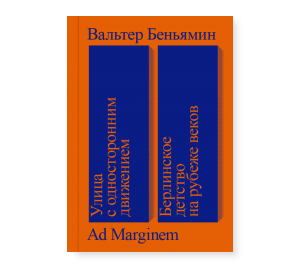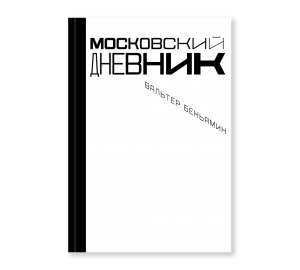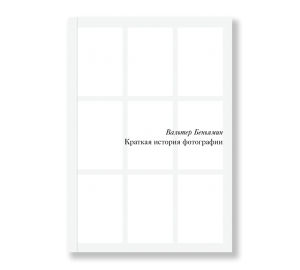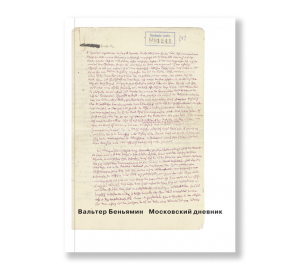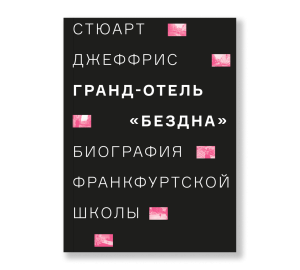Александр Иванов — о жизни, смерти и влиянии Вальтера Беньямина
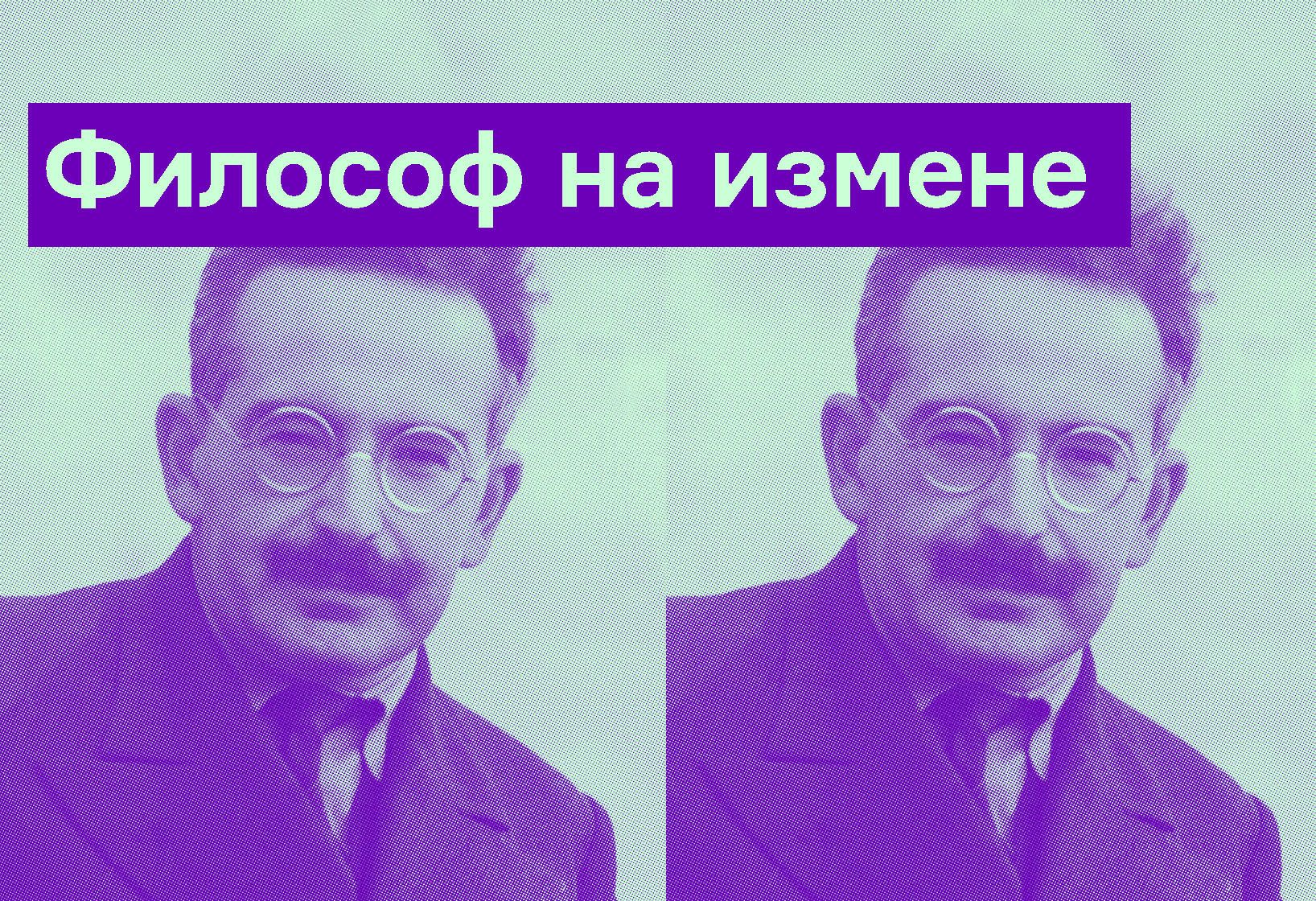
Отечественные издания Беньямина выходят на массовый рынок. Философ, который раньше был интересен лишь небольшому кругу интеллектуалов, становится автором, которого читают в метро. Благодаря многослойности текстов Беньямина, это закономерное развитие его наследия. За скобками остается сложная фигура автора: боязливая, депрессивная, наполненная комплексами и внутренними противоречиями. Подобная странность делает Беньямина актуальным философом, попадающим в дух времени едва ли не точнее наших современников. Александр Вилейкис, сотрудник Института Социально-Гуманитарных наук ТюмГУ и куратор Центра новой философии, поговорил с главой издательства Ad Marginem Александром Ивановым о жизни, смерти и влиянии Вальтера Беньямина.
О слабой теории, влиянии и актуальности
Вальтер Беньямин интересен своей «слабой» теорией. Специально или нет, он работает с понятийным каркасом в ослабленном виде — концепты постоянно мутируют, находятся в таком движении, где их логическая определенность все время пребывает под угрозой. Беньямин концептуально и понятийно часто неуловим — его мысль трудно поймать и зафиксировать как определенную концепцию, опираясь на которую можно было бы дальше развивать антропологию или теорию искусства в каком-то заданном концептуальном поле.
Это напрямую касается отдельных его шедевров, например «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Восхитительный текст, из которого концептуально почти ничего не вытекает. Развить мысль о воспроизводимости, соотношении оригинала и копии, ауре не получается, хотя ход гениальный. Он демонстрирует оптику, которую Беньямин применяет к девятнадцатому веку, выбирая в нем то детскую иллюстрированную книжку, то универсальные магазины-пассажи, то, например, пыль, оседавшую в тяжелых бархатных портьерах буржуазных гостиных (он утверждает, что во Франции середины XIX века «даже революции покрылись пылью»).
Именно это свойство «ослабленной» концептуализации дает возможность наследию Беньямина до сих пор оказывать эмфатическое влияние: на стиль, на манеру писать, думать, оптически настраивать внимание на странные объекты. Совершенно очевидно, что воздействие Беньямина на антропологию, на visual culture studies, media theory, gender theory — за последние сорок лет огромно. Мне кажется, беньяминовская идея «слабой» теории невероятно важна для современного академического дискурса.

Например конфликт Марты Нуссбаум с феминисткой Джудит Батлер. Нуссбаум — сильная исследовательница, действительно серьезный философ. Ее книга про этику стоицизма просто великолепна. И она (Нуссбаум) упрекает Батлер за логическую нерелевантность, особенно в последней книге. Эта работа – «Заметки к перформативной теории собрания», которую мы (Ad Marginem) недавно издали, тоже связана для меня со «слабой теорией». Батлер оперирует странными, гибридными, «беньяминовскими» понятиями, половину которых составляют концепты, а половину — чувственно-материальные образы или картинки. Гибриды, сложные для представления и поиска адекватной им языковой формы.
У Батлер значительная часть книги посвящена скрытой и явной полемике с Ханной Арендт. Последняя полагала, что политическое располагается на территории открытого публичного высказывания и действия, что это дискурс, который не связан с телесными практиками и с телесным самоопределением как частным и непубличным опытом. Батлер показывает обратное, что чувственно-телесные аспекты инаковости — например, инвалидность или трансгендерность — могут носить прямой политический характер. Политическое, по Батлер, не располагается в иерархии деятельности в качестве ее высшей духовной формы, как представляла Ханна Арендт в «Vita Activa». Батлер, напротив, связывает политику с самыми «низкими» телесными функциями, плавающей, нестабильной квир-идентичностью. Политическое для нее выражает себя через чувственный язык телесной инаковости. Мне кажется, в рассуждениях Батлер присутствует очень беньяминовский способ думать о парадоксальных объектах гендерной теории не вполне понятийным способом.
«Слабая» теория больше подходит для описания современных гибридных объектов, нежели классическое, восходящее к кантианству, представление о теоретическом знании. Поэтому, мне кажется, Беньямин в этом отношении невероятно актуален, особенно для русского контекста, хотя его чтение предполагает очень сложную перенастройку читательской концептуальной оптики. В том числе и политической.
О квирности, сексуальности и книгах
Судя по биографии, Беньямин был невероятным социофобом, практикующим квир-поведение, всячески избегающим идентичностной стратегии, будь то идентичность академическая, политическая или гендерная. В гендерном смысле он одновременно бабник и асексуальный «ботаник», нёрд и гик в одном лице. Приезжает к Асе Лацис в Москву, когда она живет с другим мужчиной и не просто таскается за ней, а выступает в известной всем роли отставного — «ну почему ты меня бросила» — нытика. При этом осуждает успешного бабника Брехта. И завидует ему.
Или история, когда он напился на Ибице и затем просто не разговаривал со знакомым, который отнес его, пьяного, домой. Беньямин не мог иметь с человеком ничего общего после того, как тот видел его в таком состоянии. Неясно, какие у него были комплексы и переживания, но одно очевидно: в этом во всем, в своей квирности, в неидентичностной стратегии поведения он предстает актуальным и современным человеком, практически нашим современником.
Есть несколько причудливых фактов из их отношений с Асей Лацис, когда, например, он, в пароксизме любви, показывает ей свои сокровища: библиотеку и ее жемчужины, и говорит, что она может взять любую книгу в подарок. Но Ася случайно выбирает самую ценную книгу, не зная этого, и Беньямину становится дико жалко этой книги. Он ей говорит, дескать, давай я у тебя ее выкуплю, а ты оставишь книгу у меня, потому что для тебя она ведь все равно не имеет никакого смысла, а я понимаю ее ценность. Причем это не совсем рыночная ценность, а скорее ценность данной констеляции книг, которые он подбирает в свою коллекцию: одна книга-звезда соотносится с другими книгами-звездами, образуя созвездие авторской коллекции, и так далее. Это вполне буржуазное поведение, хотя и немного weird.
В его еврействе тоже много странного. Бесконечные тяжбы со своим другом, гебраистом Шолемом, который все время зазывал его в Палестину, а Беньямин постоянно увиливал и откладывал эмиграцию. Он одновременно интересуется ивритом, иудаизмом, каббалой, мистикой букв, но в то же время слегка побаивается радикального шолемовского еврейства
Сколько проколов, сколько подстав терпели окружающие от Беньямина. Он — безусловно прекарный тип, воспринимающий свое пребывание в любом месте как временное, негарантированное — кроме, конечно, часов, проведенных в библиотеке или в книжных лавках. Беньямин был действительно фанатиком книг, почти в сексуальном смысле. Он относился к книгам как к эротическим объектам.
Ему был присущ особого рода книжный фетишизм — набор практик, где его сексуальность принимала странные обличья. То, во что он включен по-настоящему, это его библиотека, его книжки. Я думаю, что расставание с ними, понимание, что он, скорее всего, уже больше никогда их не увидит — одна из причин его самоубийства. В каком-то смысле Беньямин — святой-покровитель всех книгоманов и библиофагов, родственная душа любого книжника, который готов спать с любимой книжкой под подушкой, обнюхивать страницы и переплет, часами сидеть над какой-то строкой или словом. Поэтому, да, удивительный тип. Хотелось бы оставить за ним эту его странность, ни в коем случае не академизировать ее, в смысле присвоения какой-либо школой или дискурсом. Я думаю, что так оно, скорее всего, и будет.
О наркотиках, дружбе и восприятии
Такое чувство, что Беньямин — чувак, который постоянно находится на измене.
Да, абсолютно точно. Он довольно регулярно практиковал, начиная с поездок в Неаполь в 1920-х, курение гашиша, и выражение «быть на измене», скорее всего, точно описывает его опыт. Беньямин часто находился в этом состоянии, с измененным сознанием, с постоянным ощущением, что его сейчас накроет. Возможно, он не выполнял главное правило употребления наркотика: не делал это в комфортной обстановке, в окружении людей, которым абсолютно доверяешь. Беньямин курил гашиш в одиночестве или в состоянии непроясненных отношений с тем же Адорно, с женщинами, со своей кредитной историей, и так далее. Поэтому, вы правильно сказали: на измене.
Абсолютно неловкое и непрактичное существо. К примеру, у Шолема и даже у Адорно все схвачено: дела, карьера, семья. Они нормализованы выше крыши к началу тридцатых годов, а Беньямин — чем дальше, тем радикальнее — избегает нормализации, бежит от нее как от чумы.
Это состояние проявляется не только в мысли, но и в повседневности: проблемах с финансами, которые он мог легко решить. Сегодня рухнул образ Беньямина, который был создан Арендт и Шолемом: фатумного неудачника, проклятого. Реальный Беньямин мог жить абсолютно комфортно, но ему было либо страшно, либо лень.
Я хорошо его понимаю. Во-первых, Беньямина доставал любой источник раздражения, который отвлекал от любимых занятий: чтения, прогулок под кайфом, мечтательного созерцания и саморефлексии. Он любил общение в очень приватном смысле: переписка с Адорно тому пример. Эти письма местами невероятно смешные. Одно из моих любимых — то, где Адорно учит Беньямина, как правильно понимать исторический материализм. Загадочное письмо, говорящее о больших проблемах между ними.
Мы в этом году, пройдя через какие-то невероятные редакторские страдания, постараемся наконец-то издать книгу Адорно «Minima Moralia», «Малую Этику», которая является, пожалуй, самой «беньяминовской» из всех его книг. Она написана сразу после смерти Беньямина. Мне кажется, что самое важное в ней — проявление того влияния, которое Беньямин может оказать на любого: прививкой способности мыслить через чувственные констелляции, ассамбляжи фрагментов опыта, через создание образно-мыслительных форм, иероглифов смысла, ментальных аллегорий. Я бы не называл эту способность эссеизмом, это слово уводит немного в сторону. Ее можно назвать способностью создавать смысловые артефакты через ассамблирование кусков текста и картинок — материальных или воображаемых. Чем-то это похоже на дадаизм, на флюксус, на текстовые практики ситуационистов — свободная комбинаторика каких-то образов, пространственных метонимий, фрагментов и набросков, которые соположены и вместе образуют то, что Беньямин называет констелляцией, созвездием, аллегорией.
Эта попытка реализовалась в книге Адорно, у самого Беньямина такой книги не получилось. Может быть, «Улица с односторонним движением», но она крошечная такая, а эта средненькая, добротная. Думаю, что если читать эту книгу как текст Беньямина, а не Адорно, то откроется дополнительная смысловая перспектива. Написать книгу не просто о друге, его там почти нет, но написать книгу так, как если бы друг был живой и сам мог написать все это, сочинить книгу как бы от его лица. Вообще, связь Беньямина и Адорно мне представляется более интересной и глубокой, чем его связь с Брехтом и Шолемом.
О Москве
Вальтер Беньямин — единственный крупный европейский мыслитель, не считая Грамши и Лукача, который не просто жил в Москве, а написал несколько важных, ключевых текстов о ней. Это редчайшая удача для нас всех.
Мы (Ad Marginem) в девяносто седьмом году, к первой публикации «Московского дневника», организовали маленькую конференцию, на которую съехались такие, например, американские исследователи как Джонатан Флэтли, Сьюзан Бак-Морс, ну и знатоки Беньмина из других мест. По инициативе Сергея Ромашко, переводчика Беньямина, мы организовали экскурсию по «беньяминовской Москве».
Мы «посетили», например, гостиницу, где останавливался Вальтер Беньямин. С 1960-х ее нет — она находилась над подземным тоннелем под Триумфальной площадью и Тверской, наверху, рядом с KFC. Зато сохранилась больница, где Ася Лацис лечилась от депрессии. Существуют разные маршруты любимых прогулок Беньямина. Он часто ходил гулять от гостиницы до Каретного ряда, потом, пешком, по Садово-Самотечной, до самой Сухаревской площади с ее огромным рынком и знаменитой башней.
Беньямин много путешествовал на трамваях. Они тогда ходили через Красную Площадь. Однажды, доехав на трамвае почти до Даниловского рынка, он очутился как бы в деревне. Там и сейчас можно увидеть недоджентрифицированные кусочки старой Москвы; Беньямин тогда записал в дневнике, что Москва неожиданно превращается в деревню.
Мы посетили несколько таких мест, и закончили в модном тогда ресторане «Петрович» на Мясницкой. Один канадский аспирант, который тоже приехал с докладом, привез с собой отменнейший гашиш. (Недаром, спустя 20 лет, его легализовали именно в Канаде.)
На дворе девяносто седьмой год, и мы стали забивать джойнт прямо в ресторане «Петрович». Ну как не помянуть Беньямина, когда куришь гаш! Официантка была удивлена, что мы могли сделать такое в ресторане, но не сильно протестовала.
О «Пассажах», Марксе и Бодлере
«Пассажи» (с англ. The Arcades Project — незавершенный проект Беньямина по исследованию истоков современности, который представляет собой представляет собой массивный набор цитат, замечаний и выписок, разделенных на тематические разделы — «конволюты» — приме. ред.) на девяносто процентов состоят из цитат, вот, например, одна из моих любимых. Это из мемуаров Лафарга, зятя Маркса, описание их прогулки с Энгельсом по Парижу в 1880-е. Они фланируют по левому берегу, где-то в районе рю Жакоб (Rue Jacob), в самом центре якобинства, набредают на заведение с вывеской «У регента», и Энгельс говорит: «Поль, видишь эту брассерию? Мы тут сидели с Карлом в сорок восьмом году, весной, именно здесь он за полчаса изложил мне свою концепцию исторического материализма».
Абсолютно беньяминовская сцена. Она мне очень нравится. Это то, что Беньямин в другом месте называл особым опытом, в пространстве которого сами факты, их образная ткань становятся теоретичными, когда теория разворачивается в какой-то первосцене: вот два провинциальных бородатых немца-нонконформиста сидят в парижском кафе, пьют пиво, и один другому за полчаса излагает концепцию исторического материализма. Это же дико круто.
Мне кажется, что таких перлов в «Пассажах» довольно много. Конечно, конволют от конволюта сильно отличается, но в каждом есть просто прекрасные куски: про моду, про фланёра, про скуку, про тюль как главную субстанцию Второй империи… Мне очень нравится. Я периодически читаю «Пассажи», как один из героев новеллы Проспера Мериме «Коломба», разбойник и бывший семинарист, читал «Записки о галльской войне» Цезаря. Могу открыть и прочесть пару страниц: как выглядела какая-нибудь субстанция в девятнадцатом веке и как в девятнадцатом веке что-то концептуализировалось. Мне кажется, что это кладовая жемчужин рефлексии капитализма, размышлений о том, как выглядела первосцена раннего капитализма, общества спектакля avante le lettre. Потом, это важный психогеографический путеводитель по Парижу, остающийся актуальным до сих пор.
Париж после Османовских реформ предстал в своей парадной форме: роскошные рестораны и кафе, шикарные магазины, особые повадки приказчиков-продавцов этих магазинов. Если у вас есть способность не обращать внимание на снобизм этих людей, то в таких местах интересно бывать, ведь они — своего рода музеи торговли. Я редко бываю в Париже, но мне нравится иногда пройтись по таким магазинам. Это экстравагантный опыт: причудливая публика, сценки у прилавков, примерочных кабинок — то, что любил Беньямин: теория, которая прорастает из чувственных картинок.
Конечно, чтобы издавать такую книжку как «Пассажи», надо поменять немножко концепт первого публикатора — Тидеманна, хорошо бы сделать из нее полноценный визуальный объект.
Кстати, есть попытка повторить беньяминовский опыт «Пассажей». По-моему, три года назад в Америке вышло издание, которое называется «Нью-Йорк — столица двадцатого столетия». Там тоже все разбито на какие-то архетипы, аллегории, которые переизобретены в случае Нью-Йорка. Но Беньямина с его задыхающимся стилем довольно трудно имитировать и воспроизводить.
Интересно, что одна из форм адекватного поведения после курения гашиша — ходить одному по большим торговым моллам. Это никак не связано с чтением Беньямина, просто опыт, который по-своему интересен. Когда у тебя нет компании, с которой ты можешь, весело хохоча, продолжить это развлечение, и ты один, то важно не полностью замыкаться на себе, а быть хотя бы в бессловесной коммуникации с миром. Например, начать разглядывать какое-то предметное множество каких угодно объектов, которое легче всего застать в больших универмагах, мегасторах. Видишь уходящую вдаль, за горизонт бесконечную линию банок, бутылок, ботинок или рубашек, это-то и приводит в результате к гармонизации твоего состояния, приближает ощущение подъема и плавного нарастания эйфории. Думаю, что во многом Беньямин, особенно в «Пассажах», словил это удовольствие магазинного множества, разнообразия, темперирующего твое расширяющееся созерцание. Когда ты один под воздействием гашиша, важно не пренебрегать этой малой радостью, пребывать в ней, анализировать ее.
Мне прямо вспомнился фрагмент из его «Бодлера», когда он пишет, что универсальный магазин — это последнее пристанище фланера, потому что в толпе слоняться не очень хорошо, а вот в магазине…
Где тебя никто не достает. Ты глазеешь по сторонам, где-то зависаешь, не вызывая ни у кого подозрений, и бредешь себе дальше. Мы будем издавать довольно странную книжку в этом году, тоже тяжелую в переводе. Это Роберто Калассо, итальянец, не бог весть какой мыслитель, но талантливый эссеист — в классическом смысле слова. Он написал книжку, — сборник эссе, — которая называется «La folie Boudelaire» — «Безумие Бодлера» или «Безумие по имени ‘Бодлер’». Там разные герои: от Бодлера, Энгра, Дега до каких-то микротрендсеттеров XIX века, но все вертится вокруг одного сновидения Бодлера, где ему снится, что он попадает в публичный дом, а потом оказывается, что это не совсем публичный дом, а нечто среднее между публичным домом и музеем.
Этот сон является ключом к пониманию места и роли искусства в эпоху капитализма, аллегорией художника и судьбы его произведений, ассоциирующейся у Бодлера и Калассо с ролью продажной женщины, но обретающейся не на улице или в кабаке, а в музее, этом буржуазном хранилище ценностей, где есть объекты для созерцания и, одновременно, обладания, консумации, знаки культурно-социальной идентичности и сопутствующий им антураж «высокого потребления». Смесь борделя с музеем является конститутивной для понимания того, как создается, функционирует и потребляется искусство в эпоху капитализма. Автор интересно трактует это место: в пространстве борделя/музея у него появляются Дега с Энгром, какие-то художники-карикатуристы Второй империи и тому подобные персонажи эротико-музеологического театра XIX века. Такая необычная попытка думать в сторону Беньямина, по-беньяминовски: через сновидческую образность, смешанную с рефлексией культурных героев, объектов и практик.
Это нельзя назвать абсолютно беньяминовским текстом — Беньямин, наверное, написал бы его совершенно по-другому, но это попытка думать «в сторону» Беньямина, и Калассо — один из интересных примеров такой нарративной стратегии. Не знаю насколько книга станет удачной, посмотрим, как будет с переводом: его, как и Беньямина, невероятно сложно переводить, потому что у него нет линейного логического выстраивания концепта, а есть постоянные отклонения, уходы в сторону, извивы, отказ от нарративной идентичности. Это по-своему завораживает: пример письма, напоминающего беньяминовское стилистическое дыхание.
О книгоиздании
Опыт издания Беньямина, изучения и обсуждения его текстов, их цитирования, их влияние на всякие академические дисциплины, на сам стиль академического и околоакадемического письма… Не могу сказать, что это все закончилось, скорее оно становится и уже стало каноном. С наследием Беньямина теперь можно обращаться более или менее спокойно, прибегая к академическому цитированию, что, на мой взгляд, не мешает некоторому оживлению этого канона в России. По-настоящему откомментированные русские издания Беньямина еще впереди, и рецепция Беньямина будет продолжаться. Скорее всего, кто-то все-таки издаст «Пассажи». Например, эта попытка, которую сейчас сделали в V-A-C, — взять конволют и издать его отдельно, — хорошая. Но даже для отдельного конволюта нужна детальная академическая работа, и тут возникает проблема: специалистов по девятнадцатому веку (а здесь нужны специалисты именно по девятнадцатому веку) с широким кругозором не так уж и много. Во французском языке есть Вера Мильчина — прекрасный знаток «прекрасной эпохи». Мы с ней примерно раз в три года последние пятнадцать лет заводим разговор о том, чтобы она приняла участие в возможной работе над Беньямином. Но пока молодцы V-A-C-шники, что сделали конволют «Коллекционер» по-русски.
У базовых текстов Беньямина вообще какая-то непростая читательская судьба, например, у текста «О понятии истории». Более-менее понятна перспектива его интерпретации Агамбеном, но есть множество других возможностей, далеко не все из которых актуализованы. Например, левая перспектива — мысль о воспоминаниях как о территории классовой борьбы. Важный для меня тезис о том, что господство класса распространяется на содержание воспоминаний, в самом составе которых воцаряется логика победителей. Прошлое оказывается незащищенным от экспансии классового насилия, которое распространяется даже на тончайшую, едва уловимую территорию субъективного опыта переживания памяти. То, что мы имеем сейчас в виде индустрии исследований памяти, воспевания и оплакивания памяти, ее национализации или, напротив, приватизации и джентрификации, которые начинают носить прямо-таки угрожающий характер, безусловно относится к той же беньяминовской проблематике. Но это, конечно, тема для отдельного разговора.
Расшифровка: Виктория Здоровилова, НИУ ВШЭ СПб.
Полная версия материала опубликована в журнале «Нож»