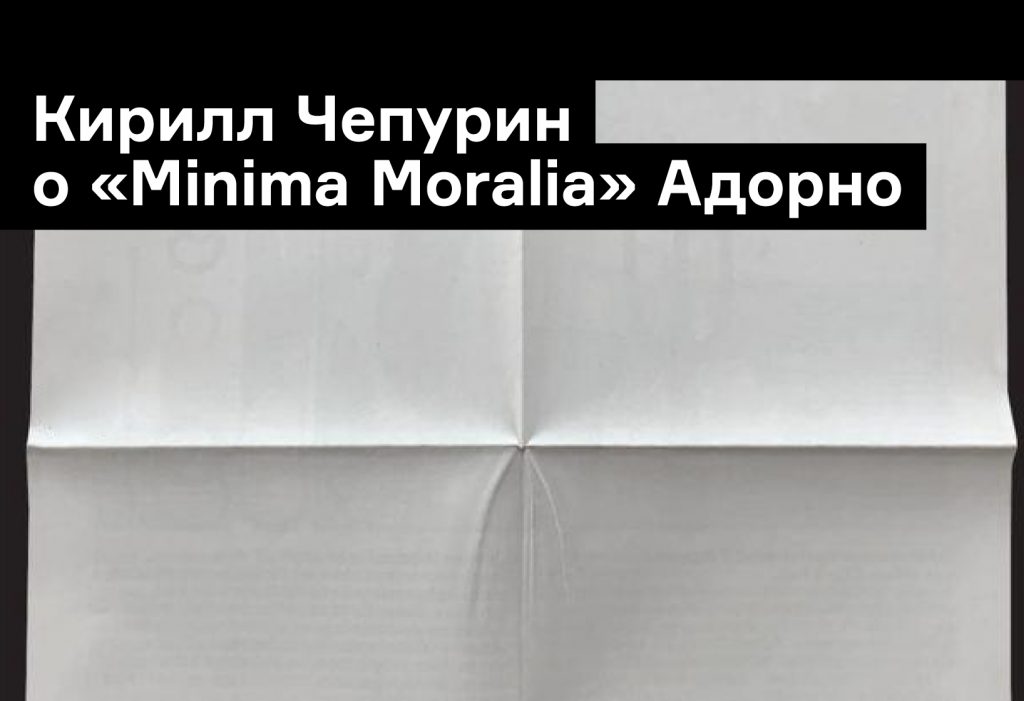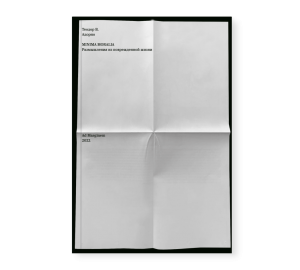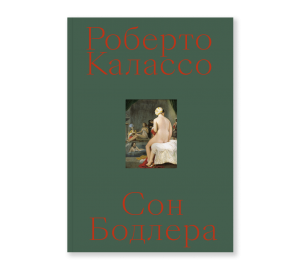«Сила бессильно иронизирующего преодолевает его бессилие»

«Тот, кто желает со всей ответственностью способствовать возрождению памяти о поэте Генрихе Гейне в день столетия со дня его смерти и не хочет ограничиваться бессодержательными торжественными речами, должен говорить о ране, о той боли, что связана с его именем, о его отношении к немецкой традиции, о том, что в особенности в Германии было вытеснено после Второй мировой войны», — пишет Теодор Адорно в своем эссе 1956 года, когда к столетию со дня смерти немецкого поэта выпускаются марки и звучат те самые торжественные речи. Публикуем это эссе в переводе Григория Гимельштейна.

Предисловие переводчика
«Тот, кто желает познать истину непосредственной жизни, должен исследовать отчужденную форму этой жизни, изучить объективные силы, определяющие индивидуальное существование вплоть до самых потаенных его уголков», — пишет Теодор Адорно в предисловии к своей книге Minima moralia.
Что сближает Minima moralia и статью 1956 года «Рана Гейне»? В обоих текстах Адорно затрагивает проблему неподлинной жизни, иными словами — потери идентичности. Но если на страницах Minima moralia анализу подвергаются самые разнообразные проявления отчужденных форм жизни, проблема существования обычного человека в целиком и полностью коммерциализированном и овеществленном мире, разрушающем единство человеческого «Я» и выступающем, по сути, причиной потери идентичности, то в статье, посвященной столетию со дня смерти Генриха Гейне, Адорно обращается к языку поэта. Для поэта нет ничего более интимного и приватного, чем его поэтический язык, это его единственная форма самоидентификации, и философ констатирует ее потерю в форме противостояния родного и присвоенного языка.
Присвоенный язык — это «готовый, препарированный язык», который не порождает свои формы спонтанно, как это происходит у человека, существующего в стихии собственного языка, а является всего лишь инструментом. Для субъекта, который пользуется языком как присвоенной вещью, сам язык, — приходит к выводу Адорно, — является чужим. Русскому читателю трудно обнаружить «присвоенный» язык в лирике Гейне, ибо самые известные его стихи переводили, а лучше сказать, перелагали настоящие поэты: например, «Лорелею», которую Адорно, может быть, не совсем справедливо, подвергает критике, прекрасно перевел Александр Блок. Следует заметить, что Адорно несколько упрощает романтическую составляющую лирической поэзии Гейне и делает это, видимо, умышленно, дабы придать своей концепции большую рельефность и убедительность. Как бы то ни было, проблема, которую вскрывает Адорно, является центральной для глубокого понимания противоречий творчества великого немецкого поэта. В конце текста философ приводит иллюстрирующее ход его мысли стихотворение. По его мнению, в нем «стереотипная тема Гейне, безнадежная любовь, предстает как метафора безродности». Безродность здесь — образ потери идентичности. Таким образом, Гейне предстает для гегельянца и марксиста Адорно поэтом переходной эпохи от поэтов-романтиков, пребывающих в стихии родного языка, к поэтам-модернистам времен развитого капиталистического общества.
Григорий Гимельштейн
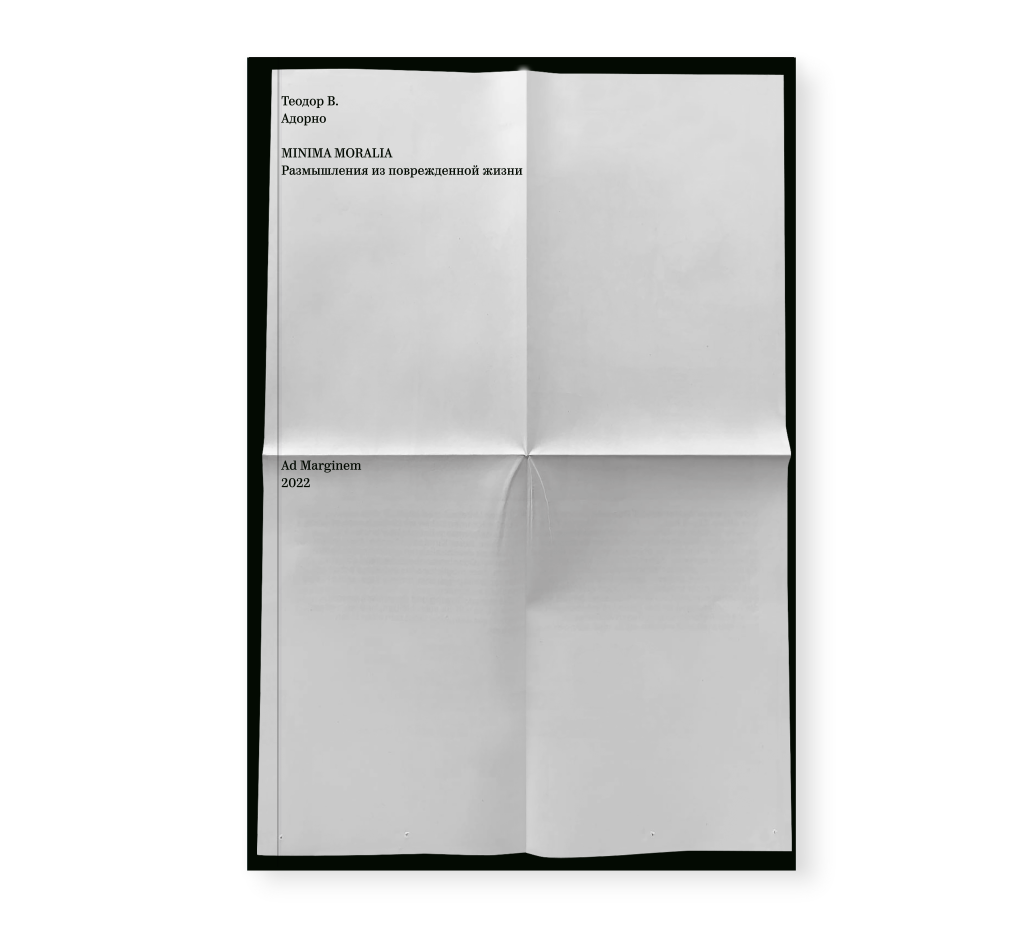
Рана Гейне
1956
Тот, кто желает со всей ответственностью способствовать возрождению памяти о поэте Генрихе Гейне в день столетия со дня его смерти и не хочет ограничиваться бессодержательными торжественными речами, должен говорить о ране, о той боли, что связана с его именем, о его отношении к немецкой традиции, о том, что в особенности в Германии было вытеснено после Второй мировой войны. Его имя — камень преткновения, и лишь тот, кто не будет изображать его в розовом свете, может надеяться на собственный вклад в переосмысление творчества поэта.
Первенство клеветы на Гейне принадлежит вовсе не национал-социалистам. Мало того, они нежданно-негаданно оказали ему честь, санкционировав своей пресловутой ремаркой «автор неизвестен» «Лорелею» — стихотворение, таинственными переливами красок вызывающее в памяти фигуранток в костюмах рейнских русалок из утерянной оперы Оффенбаха, — в качестве народной песни.
«Книга песен» произвела ошеломляющий эффект, выходящий за пределы литературных кругов. Как следствие, лирика в конечном счете опустилась в сферу языка газеты и коммерции. Поэтому в начале XX века среди ответственных интеллектуалов Гейне приобрел дурную славу. Можно, конечно, приписать вердикт школы Георге национализму. Приговор же Карла Крауса нельзя вычеркнуть из памяти.
С тех пор имя Гейне окружено негативной аурой с примесью виновности, оно словно бы кровоточит. Его собственная вина стала алиби для тех его врагов, ненависть которых, обращенная против любого человека еврейского происхождения, в конечном счете повлекла за собой ужасающие последствия.
Упомянутое недовольство не коснулось тех, кто ограничивался прозаиком Гейне: высокий ранг последнего обращал на себя внимание на унылом фоне эпохи между Гёте и Ницше. Эта проза не исчерпывалась способностью осознанного языкового акцентирования, то есть полемической силой, не сдерживаемой никакой сервильностью (вообще подобная манера полемики — чрезвычайная редкость в Германии). Платен, например, почувствовал эту силу в полной мере, когда выступил против Гейне с антисемитскими нападками и получил отпор (его сегодня, вероятно, можно было бы назвать экзистенциальным, если бы понятие экзистенциального не настолько стерильно отделяли от реального существования людей), но проза Гейне своим содержанием выходит далеко за пределы таких бравурных эскапад. С тех пор, как Лейбниц отвернулся от Спинозы, — и поскольку всё немецкое Просвещение, по существу, постигла неудача, когда оно потеряло социальную остроту и удовольствовалось позицией верноподданнического приятия действительности, — Гейне, единственный среди всех знаменитых немецких поэтов, при всей своей приверженности к романтизму сохранил ничем не замутненную идею Просвещения. То чувство беспокойства, которое внушал Гейне, несмотря на всю его деликатность, коренится в жесткой атмосфере того времени.
Вызывает сомнение, что он так уж сильно повлиял на молодого Маркса, как полагают некоторые молодые социологи. Гейне был товарищ политически неустойчивый, это касалось также и социализма. Но по отношению к последнему он придерживался идеи ничем не стесняемого счастья в виде справедливого общества; мысль эта была довольно ловко прикрыта сентенциями типа «Кто не работает, тот не ест». Его антипатия к революционной чистоте и бескомпромиссности недвусмысленно свидетельствует о его недоверии к озлобленности и аскетичности, следы которых можно заметить уже в иных ранних социалистических декларациях; позднее же эти свойства внесли свою лепту в дальнейшее фатальное развитие. Индивидуалист Гейне, который даже у Гегеля умудрился расслышать только индивидуализм, всё же не подчинился индивидуалистическому понятию внутренней сущности. Его идея чувственной полноты несет в себе полноту во внешнем: общество без принуждения и запретов.
Но истинная рана Гейне — это его лирика. Во-первых, ее непосредственность притягивала и пленяла. Лирика его трактовала гётевскую максиму о «стихотворении на случай» таким образом, что любой случай мог найти своё стихотворение, и каждый считал этот самый случай благоприятным для версификации. Но эта непосредственность одновременно была и в высшей степени опосредована. Поэзия Гейне была посредницей между искусством и повседневным, обыденным, обессмысленным существованием. Переживания, которые он использовал в своей лирике, незаметно, тайком, как для фельетониста, становились сырым материалом, следовательно его можно было обрабатывать; нюансы и светотень, открывавшиеся в его стихах, делали их в то же время заменяемыми, отдавали их во власть готового, препарированного языка. Жизнь, о которой они свидетельствовали без лишних церемоний, была для них ходким товаром, их спонтанность была едина с их овеществлением. Товар и обмен у Гейне завладели звуком, тогда как прежде сущность звука поэзии состояла в отрицании товарного обмена. Власть развитого капиталистического общества уже тогда была настолько велика, что лирика больше не могла ее игнорировать, если, конечно, она не желала погрузиться в провинциальную пучину «малой родины». Таким образом, Гейне вторгся в современность XIX века подобно Бодлеру. Но Бодлер, родившийся позднее, героическим усилием извлек из самой эпохи Модерна, из нового опыта существования в этой непрестанно разрушающей и разлагающей стихии видение и образ, более того, он претворил в образ саму утрату всех образов. Силы такого сопротивления росли вместе с силами капитализма. У Гейне, на стихи которого сочинял свои песни Шуберт, силы эти еще не окрепли до такой же степени. Он покорнее отдавал себя во власть этой стихии, так сказать, применял поэтическую технику репродукции, которая соответствовала индустриальному веку, к унаследованным романтическим архетипам, не достигая архетипов Модерна.
Именно этого стыдятся родившиеся позднее. Ибо с тех пор, как существует буржуазное искусство, художники, лишенные протекции, вынужденные сами добывать средства к существованию, постулировали не только автономию собственного закона формования, но втайне, наряду с этим, должны были признавать законы рынка и заниматься производством для потребителя. Правда, такая зависимость исчезала за анонимностью рынка. Она позволяла художнику представляться себе и другим чистым и автономным, причём сама эта видимость щедро оплачивалась.
Романтику Гейне, который сполна наслаждался счастьем этой автономии, маску срывал Гейне-просветитель, выворачивая наружу до сих пор скрытый товарный характер; этого ему не простили. Кротость его стихотворений, стремящаяся сама себя перехитрить и тем самым себя же и критикующая, демонстрирует, что освобождение духа не было освобождением человека, а поэтому не было и освобождением духа.
Но гнев того, кто открывает тайну собственного унижения в сознательном унижении другого, с садисткой хитростью поразил его в самое слабое место, которым оказалось осознанное поэтом крушение еврейской эмансипации. Ибо его заимствованная из коммуникативного языка беглость и непринужденность является противоположностью укрытости в языке. Лишь тот распоряжается языком как инструментом, кто истинно не пребывает в нем. Если бы язык был целиком и полностью в его владении, он мог бы до конца осознать противоречие между собственным и заранее заданным словом, и гладкие словесные построения исчезали бы у него сами собой. Но для субъекта, который пользуется языком как присвоенной вещью, сам язык является чужим. Мать Гейне, которую он любил, не особенно хорошо владела немецким языком. То, что у него отсутствовало сопротивление по отношению к ходовым общеупотребительным словам, было показателем чрезмерного усердия в желании подражать, характерном для отторгнутого. Ассимилятивный язык есть язык неудавшейся идентификации. Всем известную историю о том, как юноша Гейне на вопрос старика Гёте, чем он сейчас занимается, ответил, что работает над «Фаустом», после чего c ним довольно холодно распрощались, сам Гейне объяснял своей робостью. Его дерзость имеет своим происхождением чувство человека, который хотел бы, чтоб его благосклонно принимали со всей его жизненной историей, и тем самым он вдвойне вызывает раздражение у «коренных», которые, недвусмысленно демонстрируя беспомощность его попыток ассимилироваться, заглушают собственную вину в том, что они его отвергли. Эта рана его имени существует до сегодняшнего дня и излечение ее наступит лишь тогда, когда она будет осознана, а не останется в темноте подсознания.
Спасительная возможность для этого заключена в самой лирике Гейне. Ибо сила бессильно иронизирующего преодолевает его бессилие. Если всё поэтическое высказывание есть след боли, то тогда ему удалось преобразовать собственную недостаточность, беспомощность своего языка в выражение надлома.
Подобно музыканту, играющему по слуху известное сочинение, он воспроизводил язык, причем его виртуозность была настолько велика, что ему еще и удавалось превратить несовершенство своего слова в медиум того, кому дано было сказать, отчего он страдает. Неудача оборачивается удачей. Не в творчестве тех, кто перекладывал на музыку его песни, а лишь в музыке Густава Малера, появившейся лишь через сорок лет после смерти Гейне, в которой никчемность банального и вторичного становится пригодной для выражения самого что ни на есть реального, отчаянных стенаний, полностью смогла раскрыться эта глубинная сущность Гейне. Лишь песня Малера о солдатах, которые дезертировали из-за тоски по дому, взрывные кульминации траурного марша Пятой симфонии, народные песни с резкой, сменой мажора и минора, конвульсивная жестика малеровского оркестра освободили музыку стиха поэта. Давно известное приобрело в устах чужеродного нечто безмерное, преувеличенное, и как раз это является истинным. Шифры этой истины суть эстетические разрывы, она не дается непосредственности гладкого, идеального языка.
В цикле, который эмигрант Генрих Гейне назвал «Возвращение на родину», есть стихотворение:
Печаль и боль в моем сердце,
Но май в пышноцветном пылу.
Стою, прислонившись к каштану,
Высоко на старом валу.
Внизу городская канава
Сквозь сон, голубея, блестит,
Мальчишка с удочкой в лодке
Плывет и громко свистит.
За рвом разбросался уютно
Игрушечный пестрый мирок:
Сады, человечки и дачи,
Быки1, и луга, и лесок.
Служанки белье расстилают
И носятся, как паруса.
На мельнице пыль бриллиантов
И дальний напев колеса.
Под серою башнею будка
Пестреет у старых ворот,
Молодчик в красном мундире
Шагает взад и вперед.
Он ловко играет мушкетом,
Блеск стали так солнечно ал…
То честь отдает он, то целит.
Ах, если б он в грудь мне попал!
(пер. Саши Чёрного)
Понадобилось сто лет на то, чтобы эта намеренно подделанная под народную песня была прочитана как выдающееся стихотворение, как видéние жертвы. Стереотипная тема Гейне, безнадежная любовь, предстает как метафора безродности, а лирика, которая подходит для выражения этой обделенности, представляет собой напряженное усилие, самоотчуждение, дабы втянуться в ближайший круг этого опыта. Но сегодня, после того как судьба, которую ощущал Гейне, свершилась буквально, обделенность родиной стала судьбой всех. Все и по сути своей, и в языке стали настолько же ущербны, каким был и отверженный. Его слово представляет их слово: больше уже не существует другой родины, кроме мира, в котором никто не будет чувствовать себя отверженным, мира реально освобожденного человечества. Рана Гейне затянется лишь в обществе осуществленного единения2.
Перевод: Григорий Гимельштейн
Примечания переводчика:
[1] У Гейне — Ochsen, что здесь значит волы, то есть кастрированные быки; их бессилие придает особую иронию описанию этого гламурного, пошлого, псевдоромантического пейзажа.
[2] Здесь наряду с марксистским подтекстом угадывается ссылка на вагнеровского «Парсифаля» (рана Амфортаса), что неудивительно для Адорно.