Интервью с Борисом Гройсом
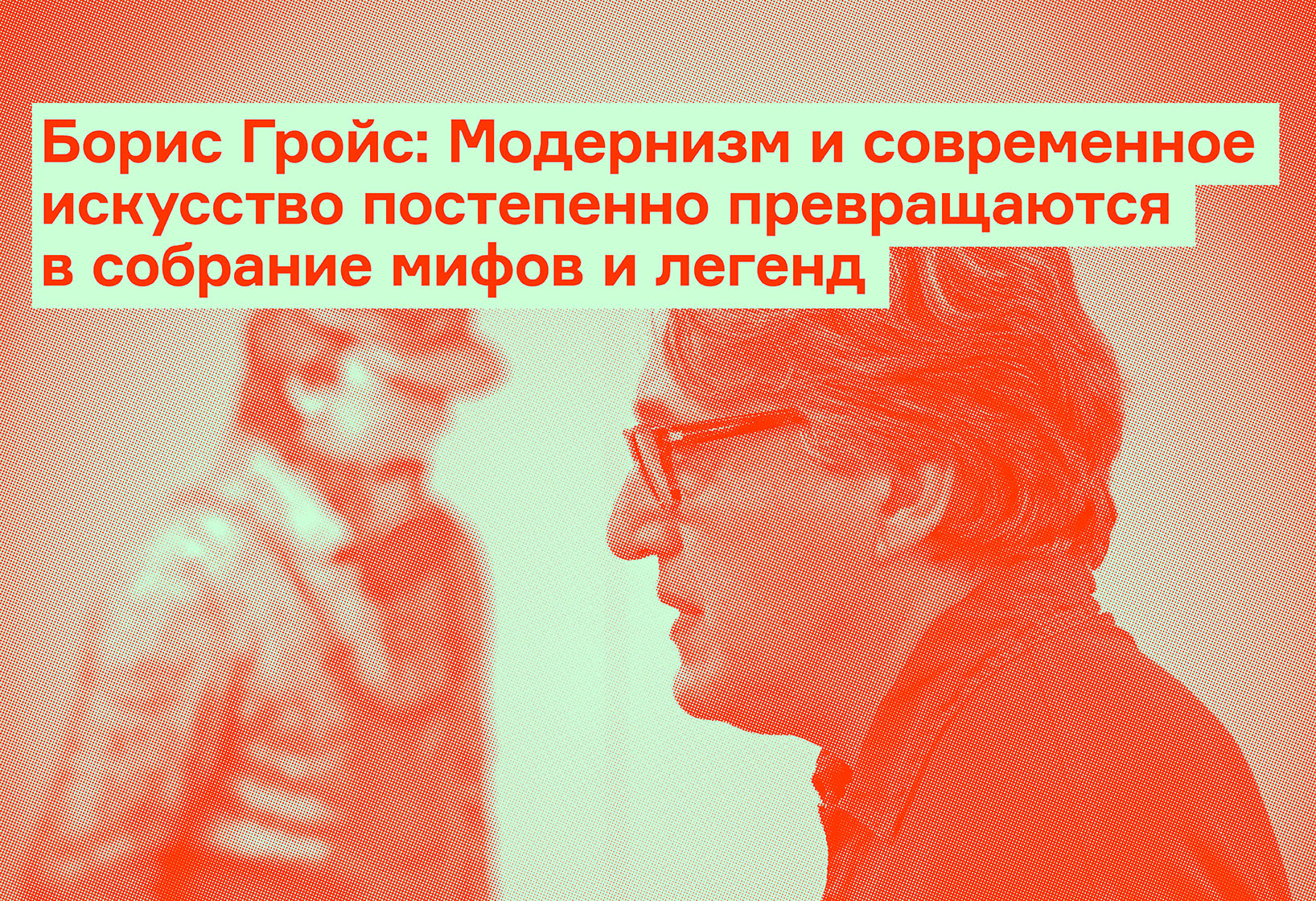
Философ и теоретик искусства, а также автор многих книг, вышедших в Ad Marginem, Борис Гройс рассказал о современном мире, где нет общей истории (в том числе истории искусств), зато есть новая организационная наука, которая на поверку оказывается сегодняшним искусством.
В беседе с Арсением Жиляевым о «Частных случаях» вы говорите, что «история искусств исчезла», канон стал невозможен, единый нарратив распался на отдельные контексты. Однако давайте посмотрим на это со стороны читателей. Они-то успели осознать, что общей истории искусства больше нет?
Неправильно думать, что автор — специфичен и локален, а раз читатель пассивен, то он универсален. Единственный универсальный читатель нашего времени — это Google. Вообще сегодняшние люди читают мало, практически ничего. Скорее они смотрят, что опубликовали в фейсбуке их знакомые. Меня часто спрашивают, можно ли прочесть одну книгу, чтобы все понять про современное искусство. Я отвечаю, что такой книги нет. Мы живем в крайне фрагментированном обществе. Когда я переехал из СССР в Западную Германию, первое, что я увидел — и это мне понравилось, — что система образования в советском смысле, в которой все рассказывается от начала и до конца, там отсутствует. Каждый профессор на своих лекциях и семинарах рассказывает о, собственных исследованиях. Это так называемый гумбольдтовский принцип единства исследования и преподавания.
И вы считаете такое фрагментированное знание современным?
Да. Есть две концепции истории. Гегелевская модель предполагает написание всеобщей истории, в которую входили бы все основные события, формации и т. д. Марксизм наследует этой концепции. Другая модель — ницшеанская. Фридрих Ницше писал о монументальной истории, которая описывает деяния великих людей. Реакцией читателя на такую историю является не познание — познавать там нечего, — а подражание. Если ты прочитаешь биографию Наполеона, то тебе, возможно, захочется завоевать весь мир.
Вот я сижу в Нью-Йорке. И как до любого человека в крупном городе, до меня доходят разные сюжеты. Посещаешь сегодня тибетскую выставку, завтра — индонезийскую. Каждый представляет свою идентичность, каждый рассказывает свою историю, каждый критикует по-своему «общую» историю искусств, написанную белыми для белых и не отражающую действительного положения вещей. И ты пишешь свою историю — например, русского искусства, которое в этом смысле мало отличается от индонезийского или персидского. Тоже история, которую игнорируют и вытесняют, за признание которой надо бороться. Нужно переписать существующую историю, чтобы русские нашли в ней достойное место, — и механизмы такого переписывания уже предложены мировым опытом. Остается только их усвоить и применить. Что есть универсального в истории? Механизм рассказа истории. Сам тип исторического нарратива, его защита, идеологическое наполнение, способы иллюстрирования и распространения — все это одно и то же для любой истории, будь то Россия или Папуа-Новая Гвинея.
Но есть, к примеру, точка зрения историка Хейдена Уайта, что исторические нарративы все же сильно разнятся по жанрам и доминирующим тропам.
Тропы могут быть разными, но я как-то в них не очень верю. Такой подход напоминает структурализм. Его главная проблема заключается в том, что, описывая, как люди говорят, он игнорирует, зачем они это делают. Создается впечатление, что люди говорят, чтобы что-то сказать. Если это так, тропы действительно играют большую роль. Но на самом деле говорить необязательно, можно и помолчать. Думаю, что особого желания что-то сказать ни у кого нет. Люди начинают говорить, когда они хотят достигнуть какой-то цели. А цель эта сама по себе не является языковой. Скорее прагматической — заработать больше денег, добиться большего престижа, получить что-то. Любое повествование — историческое тем более, — если речь идет о манифестации какой-либо идентичности в художественном пространстве, направлено на повышение статуса. В определенной мере это есть механизм унификации (поскольку цель одна и та же). И пространство, в котором престиж повышается, тоже довольно однородное — современные медиа, художественный рынок, современная художественная система в целом. Это хорошо видно на какой-нибудь Венецианской биеннале — художники живут в разных странах, делают непохожие вещи, но механизмы репрезентации одинаковые. Это просто технология современного мира. И если говорить о сегодняшнем состоянии культуры, как и о любом другом, начиная с Античности и даже раньше, то прежде всего нужно обратить внимание на технологическую сторону репрезентации. Искусство — это все-таки технэ.
Если есть много героев, много повествований, не приходим ли мы к «сказкам народов мира»?
Это точно. Вообще модернизм и современное искусство постепенно превращаются в собрание мифов и легенд. Это началось с Марселя Дюшана. В качестве художника он был крайне непопулярен, практически никому неизвестен. А прославился Дюшан в 1960-1970-х годах, когда о нем стали складываться легенды. То же самое случилось с Казимиром Малевичем. Когда я рассказывал о нем своим американским студентам, одна из них заявила: «Это русские такие впечатлительные, что “Черный квадрат” их может потрясти. Если бы американцы его увидели, не обратили бы внимания». Конечно же, дело не в каких-то особенностях «Черного квадрата», а в том, что это легенда о таком человеке — Малевиче. Возьмите Ива Кляйна с его синим цветом, Пьеро Мадзони с его дерьмом, Баса Яна Адера, который утонул в Атлантическом океане… Это все мифы, и именно они привлекают внимание. А современное искусство в музеях, как я часто говорю, это собрание реликвий — как в старые времена мешочки или ящички с мощами святых.
Не влияет ли на такую имитационную модель современная массовая культура с ее супергероями?
Конечно, есть комиксы и голливудские фильмы, где у людей вырастают хвосты, клыки и длинные языки. И такой продукции становится все больше, потому что она продается по всему миру.
В массовой культуре проходят процессы, которые происходили в культуре элитарной. Человек исчез из искусства еще в начале ХХ века. К середине 1920-х годов он превратился в предмет наравне с другими предметами. И вот сейчас уже в масскульте все стали монстрами. При этом мы все-таки задаем себе вопрос: как стать героем? Об этом спрашивают художники, писатели и вообще люди. Посмотрите, какой интерес вызывает Грета Тунберг. Как она стала героиней? Многие девочки ее возраста хотели бы этого. Если они смотрят фильмы, где изображаются всякие сверхъестественные существа, на этот вопрос они ответа не получают. Искусство уходит в сферу развлечений. А на главный вопрос — с кого делать жизнь? — люди отвечают с помощью других механизмов. Я смотрю Netflix, и через год после появления Греты Тунберг во многих фильмах и сериалах в разных странах появились героини ее возраста — некрасивые, но очень активные, идеалистически настроенные.
Как это работает?
Современные медиа ориентированы на механизмы подражания. Вся современная медиальная среда — это практически Пролеткульт, организационная наука в духе Александра Богданова, Бориса Арватова и позднего Николая Тарабукина. Как писал Арватов, мы должны научить людей, как им одеваться, как есть, как спать, как себя вести, как общаться друг с другом — вообще как жить. Все медиа сейчас занимаются тем же — организацией жизни на бытовом уровне. Как правильно накладывать мейкап, как мыться в ванной и т. д. Одна из самых популярных инфлюэнсеров сейчас — у нее, по-моему, 20 миллионов фолловеров — объясняет, как чистить зубы. Это и есть искусство нынешнего дня. В значительно большей мере, чем какие-то хвостатые динозавры. Это искусство, организующее повседневность. А появилось оно, потому что связи в обществе распались и люди не знают, как себя вести. Раньше крестьяне вели себя как крестьяне, дворяне — как дворяне, купцы – как купцы и т. д. Сейчас ничего такого нет. Народ мигрирует, в школе этому не учат (да и вообще ничему не учат). А люди хотят знать. Такая же ситуация была в России и Франции после революций. Правительства тогда озаботились новыми ритуалами, формами общения и обращения, одеждой… Сейчас это прямо бросается в глаза. Правда, теперь это не государственные программы, а коммерчески-медиальные. Но их успешность показывает большой запрос на Богданова и его организационную науку. Недавно я давал своим американским студентам его статью о Гамлете. Там он совершенно справедливо говорит, что отчаяние, депрессию и скепсис надо как-то организовывать. Люди не знали, как это делать, а Шекспир им объяснил: быть или не быть, все эти дела… И с этого момента народ понял, как оформлять, выражать свои проблемы. Сам по себе человек ничего оформить не может, нужно, чтобы ему кто-то объяснил — как.
Если обратиться к теме регуляций, как сейчас, во времена постоянных культурных войн, существовать искусству?
За десять минут до нашего разговора я получил имейл из Портленда. Именно этот город, а не Нью-Йорк, стал столицей культурных войн. Мне написали два куратора, которые прочли мою статью в журнале e-flux о музее как источнике и колыбели революции. Им очень понравилась идея о ненужном, нефункциональном искусстве как подлинно революционном. Это показывает, что народ устал от постоянных войн — им нужно что-то нефункциональное. Характерно, что кураторы эти работают как раз в том самом арт-центре, откуда выходят все нынешние анархистские движения. Если посмотреть на окружающую действительность в Америке, она устроена довольно сложно. Основная масса художников, писателей, интеллектуалов все-таки хочет что-то или кого-то репрезентировать. Совсем одним им оставаться тяжело. А Америка — это классическая страна репрезентации, поскольку она всегда понимала себя как совокупность различных коммьюнити. Авангарда здесь никогда не было — его завозили из Европы, — поскольку авангард понимал себя как авангард всего общества, а такого представления о целостном обществе в США нет. Каждый человек живет в коммьюнити, и, если он что-то делает, считается, что он представляет группу, к которой относится. Идея репрезентации глубоко заложена в американской культуре, что в известном смысле делает выход из нее невозможным. На одном выступлении в 1990-е годы меня спросили: «А что специфически русского в том, что вы говорите?» Я ответил, что не стремился к чему-то специфическому. Мне на это сказали: «Понятно, вы такой русский, который стремится быть универсальным. Есть такие, мы знаем». Это безвыходная ситуация. Даже если бы люди не захотели чего-то репрезентировать, им бы эту репрезентацию все равно приписали. Но сказать, что такая культура работает плохо или неправильно, трудно. Помню, тоже в 1990-х я говорил с голливудским продюсером. Он сказал: «Знаете, почему наши фильмы так глобально успешны? Нет ни одного народа в мире, у которого не было бы коммьюнити в Лос-Анджелесе. До того, как выпустить фильм, мы прогоняем его по 145 этническим группам. И дальше никаких неожиданностей не возникает». Трудно сказать, где сила, а где слабость. С одной стороны, все ссорятся друг с другом, каждый выступает за свою идентичность. С другой, Америка представляется моделью мира — здесь есть все. И ссорятся они, именно потому что собрались в одном месте. Эта способность моделировать мир — достаточно эффективна. В том числе и эстетически.
То есть это такой птичий концерт в лесу — каждый поет за себя, какой он хороший и красивый, а зритель извне слышит общий хор, хотя на самом деле это вовсе не идиллия?
Соборное благорастворение в Америке полностью отсутствует. Кроме того, что эта культура базируется на коммьюнити и в ней нет авангарда, в ней нет и философии в европейском смысле этого слова. Язык здесь риторический, существующий для выступления в суде. Когда, например, черный говорит от лица черных, что белые — подонки и расисты, он не уточняет, что среди белых могут быть хорошие люди. Он исходит из того, что появится белый, который это скажет. Такое соревновательное выступление в суде. Ты защищаешь одну позицию, понимая, что кто-то другой будет защищать противоположную позицию. Зачем брать на себя чужие функции? Пусть каждый сам позаботится о себе. То есть это не совсем хор певчих птиц в духе Оливье Мессиана, а скорее шум схватки и грохот орудий. Но это тоже своего рода музыка. Это культурная война всех коммьюнити против всех коммьюнити. Насколько она продуктивна, не знаю, но она эффективна. Хотя бы потому, что, заметьте, весь мир американизируется. И очень быстро. Американская культура создает аргументационные образцы, механизмы нападения и самозащиты, которые могут использоваться всеми и во всем мире. Другие культуры их имитируют. Америка — новый Рим. Но до наступления христианства.
И для того, чтобы адекватно писать о художниках, вам тоже надо происходить из одного c ними коммьюнити или проникать туда? Внешний взгляд невозможен?
Я вообще никогда не практиковал внешний взгляд на художника. И даже не вижу в нем никакого смысла. Всех живых художников, о которых я писал, я знал лично. Если я пишу о художнике, мне важно на него посмотреть и с ним поговорить. В противном случае, я не совсем понимаю, о чем его искусство. Если вы посмотрите на продуктивную художественную критику — Джермано Челант, Пьер Рестани, круг журнала October в начальный период его деятельности в 1970-е, — они все были ориентированы на художников, которых знали лично. Те, кто смотрели на искусство со стороны, ничего интересного не написали. Искусство имеет свои цели и существует в некотором культурном поле, художник хочет чего-то добиться своими работами. Если ты не живешь в той же среде, в которой живет художник, и не понимаешь, чем он руководствуется, твой взгляд не будет продуктивным. Ты сможешь описать только то, что и так видно другим.
Материал подготовил Сергей Гуськов








