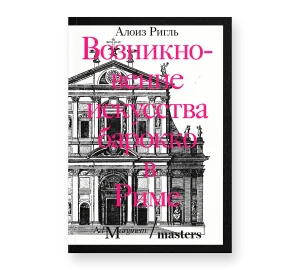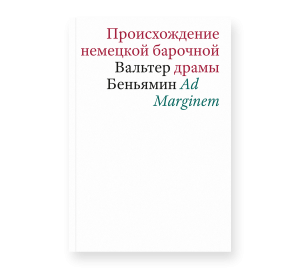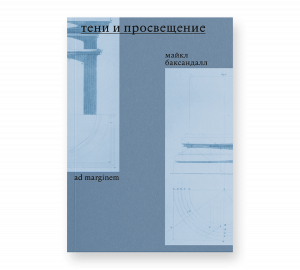Монадические сущности искусствоведения Ригля
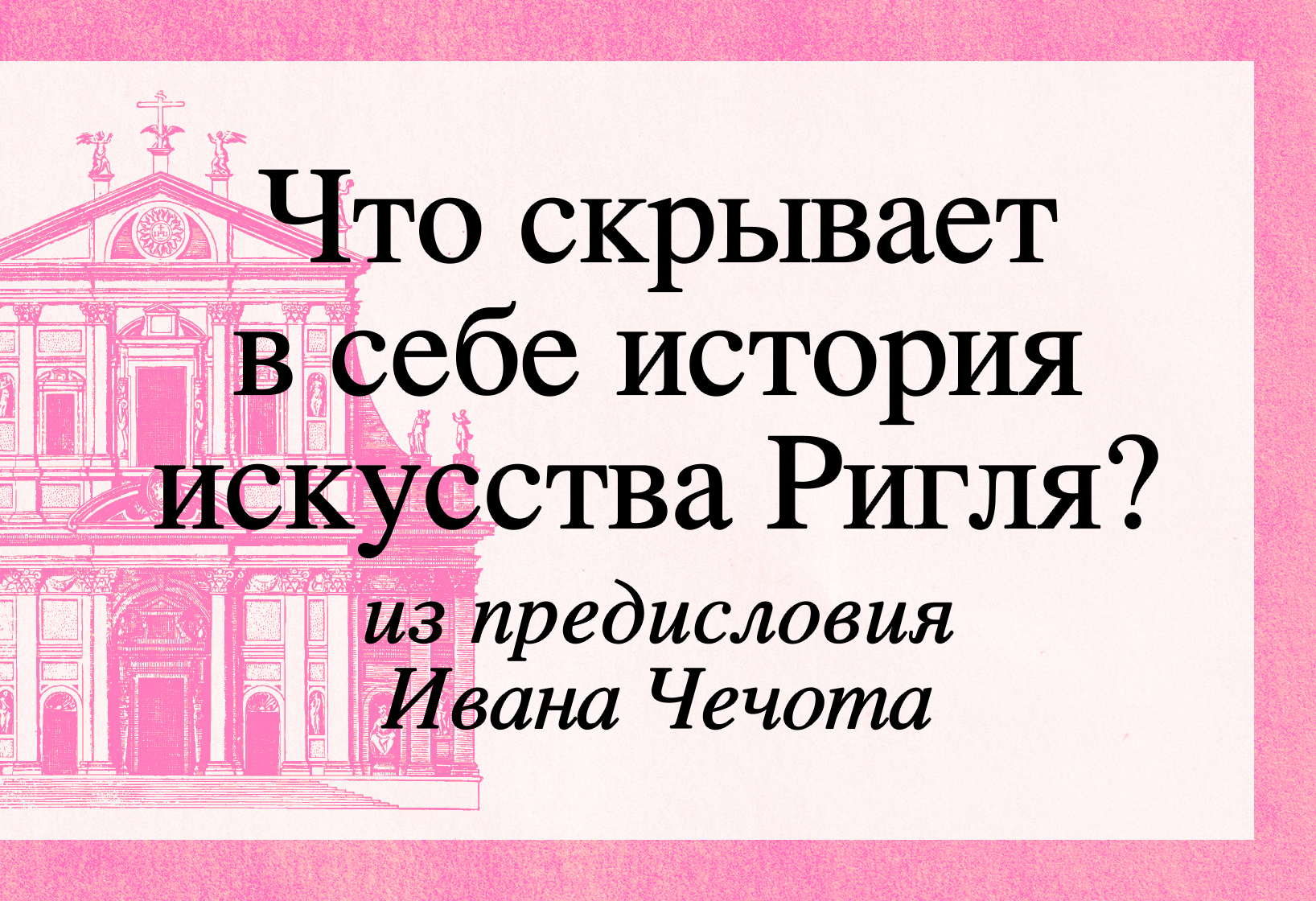
Скоро Ad Marginem выпустит книгу Алоиза Ригля «Возникновение искусства барокко в Риме»: лекции австрийского историка искусства, создателя оригинального типа формализма и теории развития барокко, прочитанные в период с 1898 по 1902 год в Венском университете. Предзаказ на книгу будет открыт 12 февраля, но повод поговорить о Ригле есть уже сейчас: наш книжный тур «по краям» едет во Владимир, и 31 января в музейном центре «Палаты» мы будем много говорить о барокко.
Специально для издания «Возникновения искусства барокко» российский искусствовед Иван Чечот подготовил подробное предисловие о трудах Ригля — а мы делимся фрагментом этого предисловия в Журнале, ожидая встречу с читателями во Владимире!
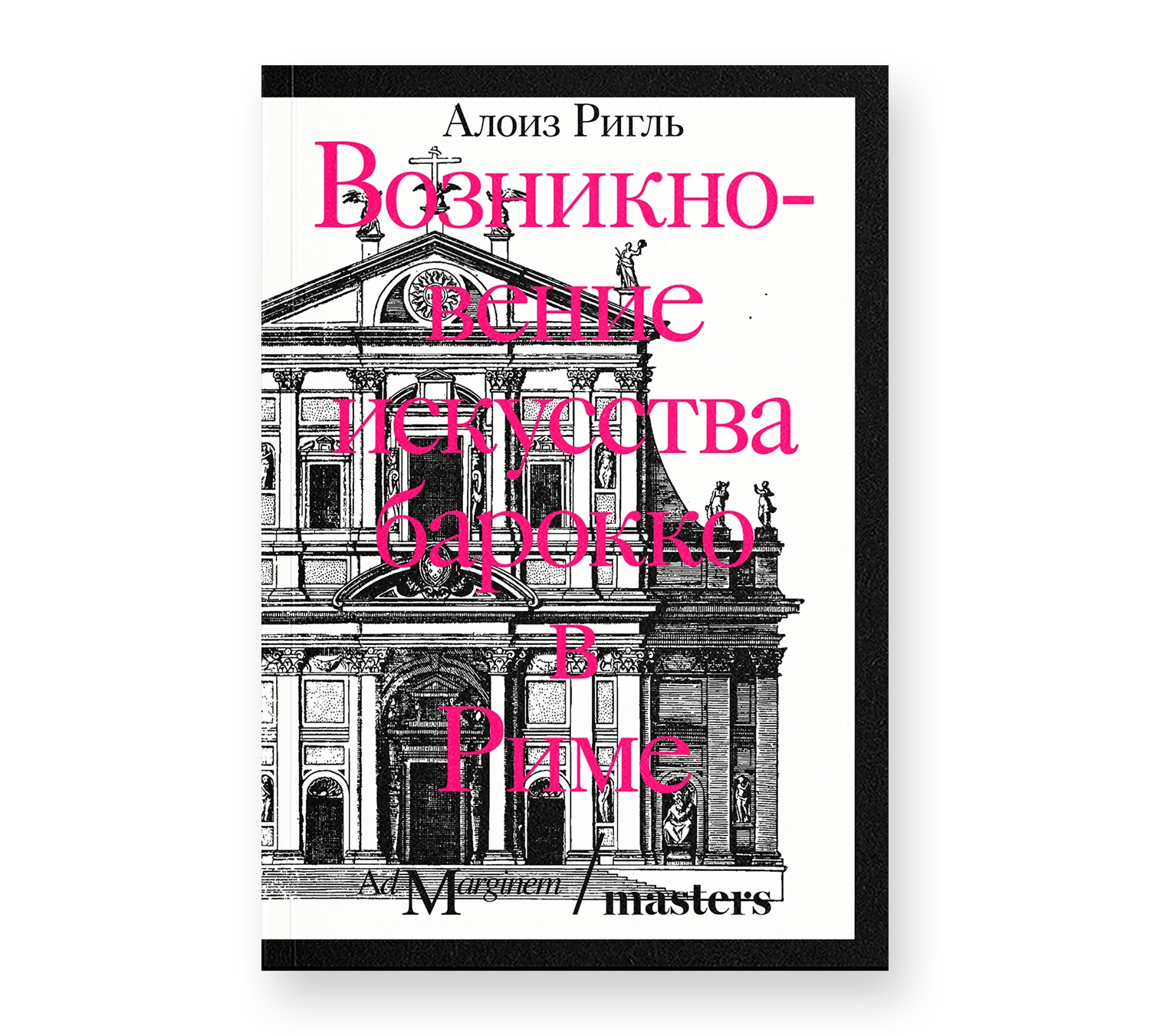
Что скрывает в себе история искусства Ригля?
Попробуем перечислить ряд монадических сущностей (субстанций) искусствоведения Ригля на основе данных лекций, в которых автор обошёлся без теоретического введения, не раскрыл ни свою философию, ни так называемую грамматику изобразительных искусств.
Во-первых, это сущности видов искусства, в достаточной степени неподвижные, — архитектура, скульптура, живопись (перечисляю их именно в таком гегелевском порядке). Архитектура — искусство сочетания архитектурных материальных масс, форм и членений, а также искусство пространственных соотношений. Скульптура: её язык — язык тела, фигуры, органический. Живопись — искусство создания волнующих целостных картин.
Во-вторых, понятия плоскости, объёма, пространства, линии, движения, равновесия, ординации и субординации. Понятия логические и отчасти математические.
В-третьих, его главные, на вид психологические, на самом деле метафизические, понятия — «гаптическое» (осязательное и моторное) и «оптическое» (зрительное) и понятие о «художественной воле».
Интеллектуально Ригль не относится к кантианской традиции XIX века, к которой в основном принадлежали «формалисты» первой половины XX века. Последнее было бы привычно для тех, кто изучает историю искусства. Нельзя также сказать, что он открыто разделяет и осуществляет на практике гегелевскую историческую метафизику искусства и применяет средства диалектики. Критика Ригля Л. Дитманом в 1970-х годах была не во всём корректна. Исток искусствоведения Ригля лежит в философии и педагогике старомодного идеалиста И. Г. Гербарта (1776–1841), а через него — в философии Парменида (2-я половина VI века до н. э.) и в учении Лейбница (1646–1716) о «предустановленной гармонии».
Сначала напомним вкратце основные моменты монадологии Лейбница. Монады — это аналогичные атомам «простые сущности», утрачивающие протяжения, но приобретающие способность стремления (франц. appetition) и атрибут множественности. Они составляют субстанцию, от Бога до феноменального физического мира, отдельной души и единичного предмета. Сразу обратим внимание на способность к стремлению или желанию, влечению, воле. Позднее Гегель определял субстанцию как целостность изменяющихся, преходящих сторон вещей, как «существенную ступень в процессе развития воли».
Все монады, по Лейбницу, просты и не содержат частей; их бесконечно много; двух абсолютно тождественных монад не существует. Это обеспечивает бесконечное разнообразие мира феноменов природы и духовного мира. Идею несуществования абсолютно схожих монад или двух совершенно одинаковых вещей он выдвинул как принцип «всеобщего различия» и одновременно как тождество «неразличимых».
Взглянув с этой точки зрения на искусство, в частности на материалы Ригля, можно увидеть, отрешившись на мгновение от обычного восприятия по слогам-фактам-частям-элементам, что художественные феномены, решения порождают нерасчленимые целостности и в то же время состоят из отдельных моментов-монад. Этих моментов, как и произведений искусства, бесконечно много, и все они разные. Более того, искусство в целом тождественно самому себе, но не как дурная бесконечность вещей, а как постоянство направленности на предмет следующего желания.
Лейбницевы монады, сами собой развёртывающие своё содержание, благодаря самосознанию являются самостоятельными и самодеятельными силами, которые приводят все материальные вещи в состояние движения. Они образуют умопостигаемый мир, производным от которого выступает мир феноменальный. Монады не могут претерпевать изменения в своём внутреннем состоянии от действия каких-либо внешних причин, кроме Бога. В «Монадологии» (1714) приводится метафорическое определение автономности простых субстанций: «Монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти». Монада способна к изменению своего состояния, и все естественные изменения монады исходят из её внутреннего принципа. Деятельность внутреннего принципа, производящего изменение во внутренней жизни монады, называется стремлением. Все монады способны к восприятию своей внутренней жизни. Некоторые монады в ходе своего внутреннего развития достигают уровня осознанного восприятия, или апперцепции. Монада обладает двумя характеристиками: стремлением и восприятием (восприятием не того, что поступает извне, а того, что происходит внутри). По мнению Лейбница, не существует совершенно неодушевлённой природы. Поскольку никакая субстанция не может погибнуть, то она не может окончательно лишиться какой-либо внутренней жизни. Лейбниц говорит о том, что монады, которые основывают явления «неодушевлённой» природы, на самом деле находятся в состоянии глубокого сна. Минералы и растения — это как бы спящие монады с бессознательными представлениями. В развитии царства духа основным законом является свобода, под которой Лейбниц понимает познание вечных истин. Души являются как «живые зеркала Вселенной», а «разумные души» представляют собой ещё и отображения самого Божества.
Искусство рассматривается как закрытая система с немалым количеством возможных вариаций и исключений. В основе искусства лежит сама субстанция, этапы её самоосознания. Поскольку мир природы рассматривается как происходящий из внутреннего потенциала субстанции, то и искусство приходит во взаимодействие и даже соревнование с ним. Покой и движение, пространство и плоскость, сплошное и расчленённое, симметрическое и асимметрическое, форма и цвет, данное и иллюзорное — все эти феномены являются как природными, различимыми вовне дифференциациями, так и внутренними моментами жизни монады. К оптике примыкают музыка, свет и цвет, колорит, декоративность. К гаптике — конкретизм, форма, фактура, линия, грань, масса.
Как появилось понятие Kunstwollen, столь неловко переводимое на другие языки. Тут дело не только в философских влияниях на Ригля со стороны Шопенгауера, Ницше, Гегеля и Лейбница, дело в специфическом чувстве языка у Ригля, австрийского варианта немецкого. Слово «искусство» (нем. Kunst) связано с модальным глаголом «мочь» — können, который означает также «быть в состоянии что-то сделать, выполнить» (справиться, а не только задумать и пожелать). Субстантивированный глагол Кönnen (с прописной буквы) можно перевести как «мастерство, умение». Учитывая это, Kunst, искусство, — это то, что уже состоялось, уже сделано, уже получилось. При этом осуществлённое есть проявление способности «мочь» делать что-то конкретное: так-то изображать, украшать, конструировать, так-то возбуждать внимание, волновать и восхищать. И тогда Kunstkönnen — это опредмеченная практика искусства, работа по уже имеющимся образцам, так как, чтобы что-то мочь, нужно уже заранее обладать образцом для подражания тому или иному умению. Слово Kunstwollen было задумано Риглем, чтобы описывать стремление к тому, чего, возможно, ещё нет, но что является предметом желания в искусстве. Это слово обозначает нужду в каких-то особых формах, тягу к какой-то новой красоте, интерес к каким-то давно не использовавшимся приёмам, предпочтение определённых эффектов и отказ от других, наклонность и охоту заниматься созданием непривычного пространства, декоративности. Вот мы и перечислили целый ряд русских синонимов слов «желание» и «воление». Следует обратить внимание на то, что чувство языка не позволило Риглю использовать слишком бытовое слово «желание» — wünschen и слишком физиологическое слово begehren — вожделеть, алкать. Ему нужен был именно волевой момент, колеблющийся на грани тёмного стремления и осознанного действия.
Феномены желания и воли ставят вопрос об их происхождении. Если это не материально-физиологические причины (зуд), то можно указать на воображение, из которого рождаются «мечты», «замыслы» и сама воля. Но где корень воображения? Сегодня модно указывать на то, что в основе фантазии может лежать подражание: «хочу как взрослые», «хочу как в кино», «хочу как за границей» или «хочу как в Античности», «как в Древней Руси». Но для этого уже нужен образец. Для Ригля характерна иная логика, монадологическая. Названные подражательные пути желания невозможно отрицать, но они являются у него (подражание Античности) переходными формами и масками, за которыми стоит внутреннее воображение и желание. Воображение начинает свою работу от неудовлетворённости своим собственным и находит своё чужое в самом себе. Тяга к чуждому себе. Итальянское барокко для Ригля — знак тяготения, сдвига романской культуры от себя, в сторону Севера. Культ итальянского классического искусства в Германии — свидетельство желания самопреодоления на Севере. Начинаясь с бессознательного недовольства собой, воображение и желание переходят в сознательную форму. Это не значит, что они рождают новые теории, в барочную эпоху не было написано истинно барочных теорий искусства. Художественная воля осуществляет себя в творческой практике в виде нового гештальта. Это понятие хотя и было прекрасно известно около 1900 года, ещё не набрало философского и символического веса. Гештальты не порождаются художниками в одиночку, художественная воля не имеет психологического субъекта. Ею никто не может обладать, ни творец, ни народ, ни сословие, ни идеологи. Её бессознательность не опирается на материально-биологическую основу. Не стоит приписывать Риглю мышление в духе органицизма и философии жизни.
Для Ригля художественная воля является объективной силой, обнаруживающей себя в процессе эволюции форм во времени. О последней свидетельствуют сопоставления форм разного времени в рамках одного вида, жанра искусства, иногда в пределах одного иконографического типа. Сдвиг эволюции не произволен и всегда абсолютно нов, но подчинён направленности к определённым ценностям в определённом порядке. Это тезис, он нуждался и нуждается в подтверждении, отсюда дискуссия, основной вопрос которой: имеется ли повторяющийся, сохраняющийся элемент в эволюции, циклична ли она. Ригль считал её идущей по кругу. Ценности он располагал так, как они располагаются в умопостигаемом мире монады, где можно различать (глядя от центра) ближайшее, подручное, осязаемое и то, что располагается в следующем слое, простираясь вплоть до горизонта, проецируясь на отделённый фон. Ближайшее трактуется как очевидно моё, понятное, подвластное и упорядоченное. Отдалённое как уплощённое, неопределённое, неподвластное, ускользающее и вместе с тем притягивающее, заставляющее напрягать глаз и познавательную способность. За пределами горизонта (его не следует понимать только геометрически) находится следующий слой, в котором напряжение близи — дали, здесь — там, сейчас — позднее снято. Пределом этого отдалённейшего слоя является предел познавательной способности, который рассматривается как экран, на котором вновь проступают ближайшие и первичные для центра монады (человека) идеи-формы. Их можно назвать последними-первыми вопросами, неизменными операторами, простейшими соотношениями. Но аналогичным является и строение мира, уходящего в глубину точки монады, внутрь человека: крайне неглубокая зона осязательно-телесного проникновения, затем обширная зона сознания и памяти и в глубине — тёмная неконкретная центральная область (подсознания как источника для сознания). Здесь также имеется тяготение от осязательного к представляемому и к влекущей отдалённой тьме, интригующей как источник изменений, событий. Тело-глаз, глаз-ум тянется (вовне) сначала к вещам, затем к образам-изображениям (Bilder), ещё дальше к подвижным гештальтам и процессам и упирается в интеллектуальные абстракции и аналогичные им наглядные схемы. По направлению вовнутрь тело-глаз оптически «слепнет» быстрее, входя на глубине сознания в сферу WuЁnschbilder, «образов желания», и в пределе растворяется в тёмной неопределённости непостижимого. Оба предела, внутренний и внешний, могут быть мысленно сближены, и тогда возникает тождество света и тьмы, простоты и лабиринта, ясности и иррациональности, характеризующее особое состояние познавательной способности, находящееся за пределами искусства как сферы, умирающей в таком «пространстве» (о нем уже не приходится говорить), где «сияет» тождество всего и ничто. Здесь эволюция форм должна прекращаться.
В сфере осязания соприкосновение есть отождествление и самоотождествление. В сфере дальнодействия (в частности, глаза) открывается сила тяготения, гравитация и соответствующая её идее центральная перспектива. В сфере эфира, воздуха и света центральная перспектива начинает терять силу и заменяется на воздушную, на иррадиацию, свободную левитацию в облегчающемся пространстве (безвесия). Это царство побеждающего света, глаза, воображения, которому не противостоит гравитация, Божественной воли. Заверением этого восхождения мыслится звезда абсолюта, Единого, выражаемого знаком, числом, а также предельно простой формой-идеей точки, минимально-максимальной окружности.