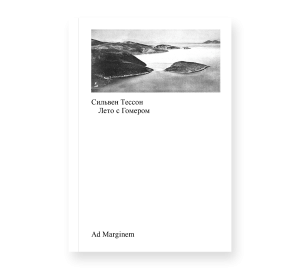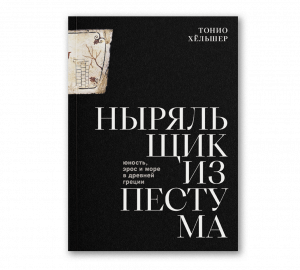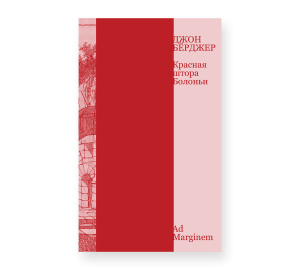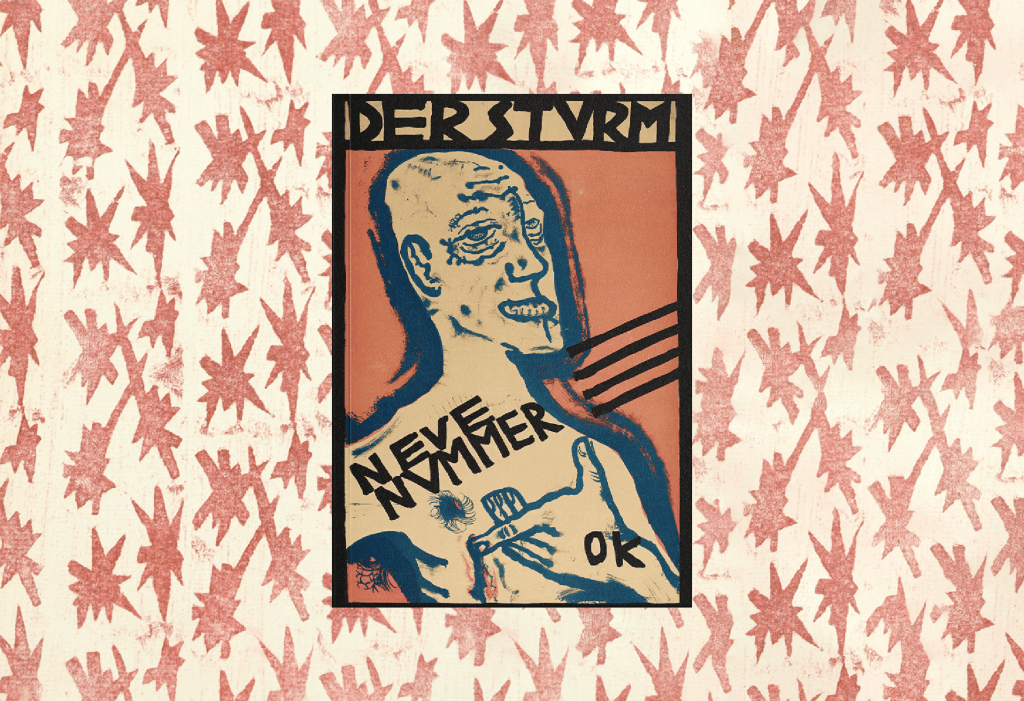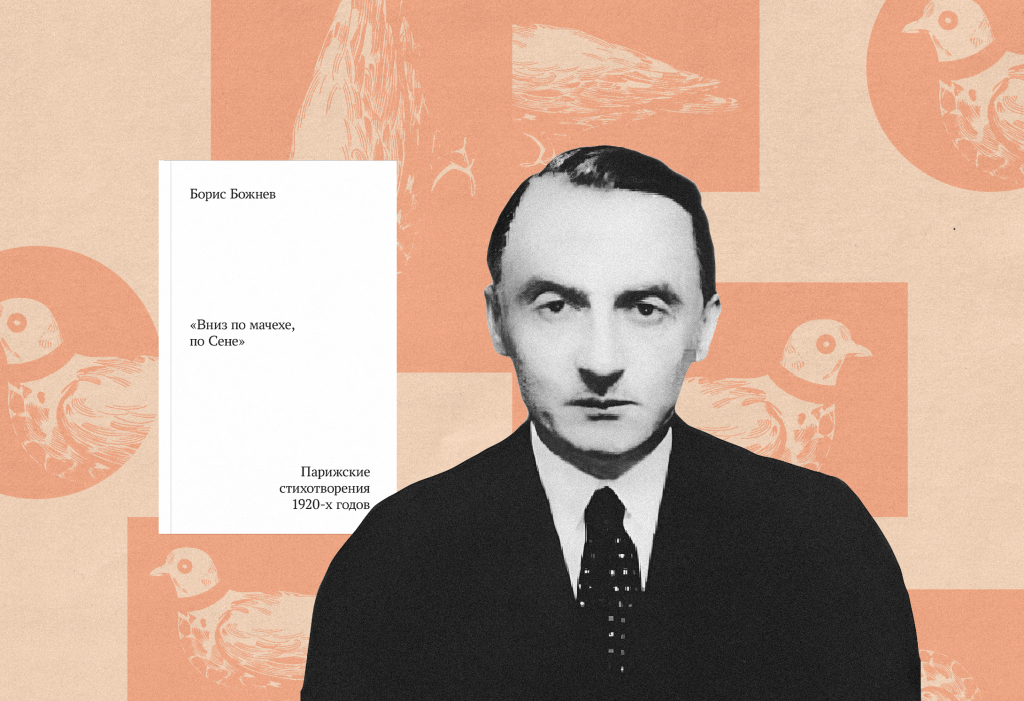Сильвен Тессон: сердце искателя приключений
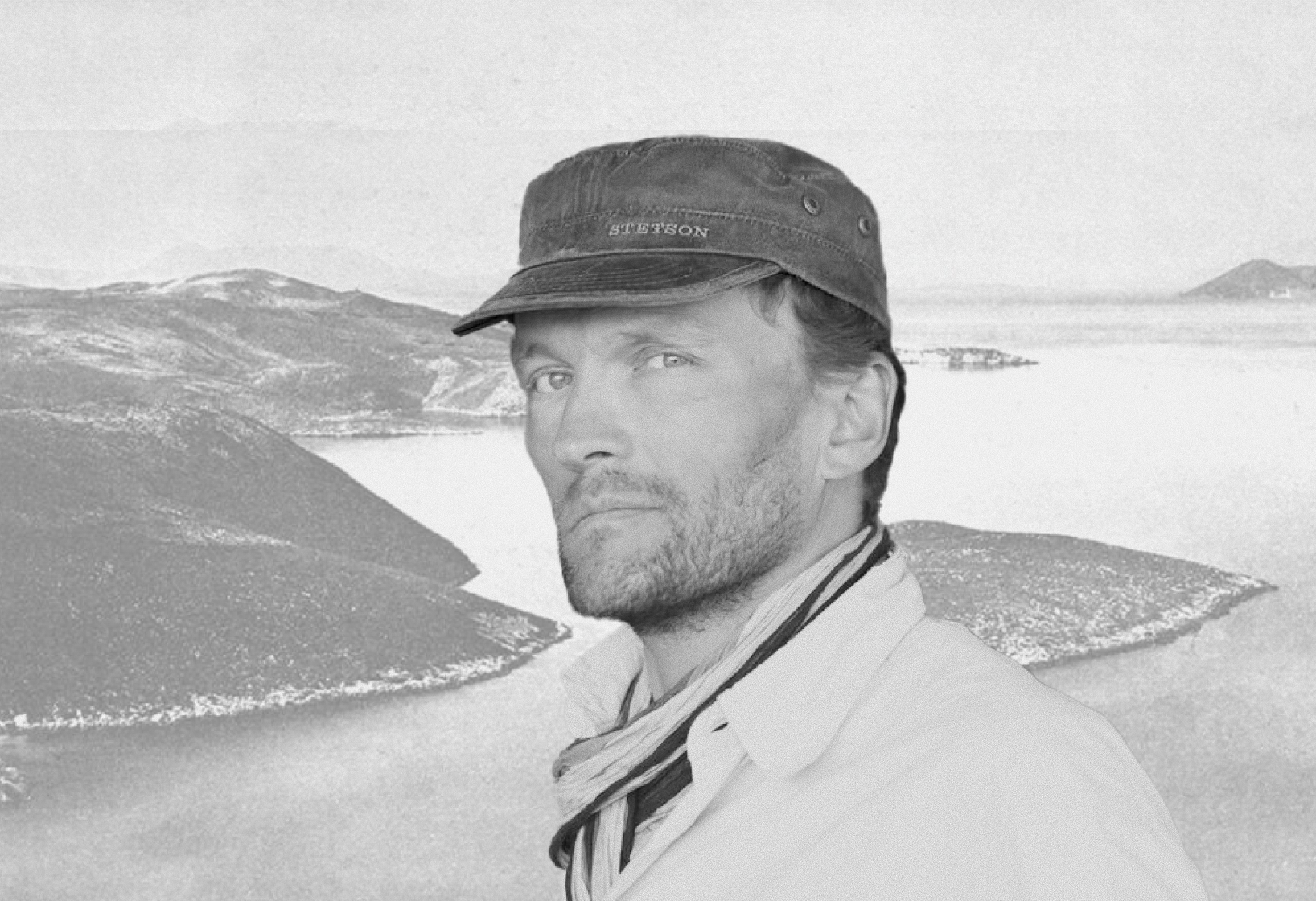
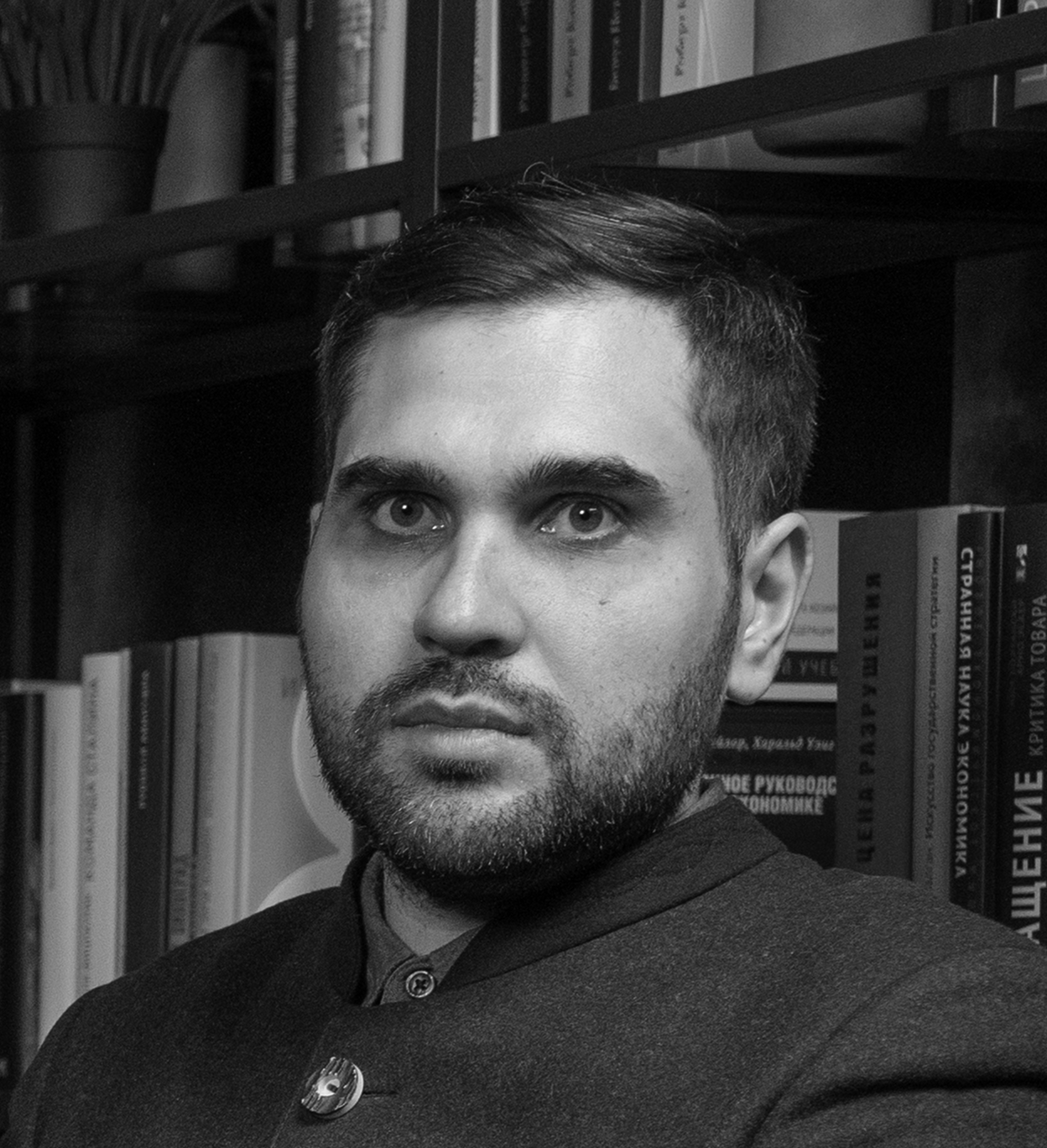
В 1920 году главный, наряду с Луи-Фердинандом Селином, бродяга французской литературы XX века Пьер Мак Орлан написал знаменитое эссе «Краткое руководство для настоящего искателя приключений». Этот текст, позже очень впечатливший Ги Дебора, был попыткой бывалого солдата, матроса, художника и поэта, вдоволь избороздившего и моря, омывающие старушку Европу, и парижское социальное дно, раз и навсегда проститься с беспокойной жизнью вынужденного скитальца, а также поставить вопрос о возможности и смысле авантюры как таковой. В «Кратком руководстве» Мак Орлан обозначил две разновидности искателей приключений: активные и пассивные. Если первые непосредственно участвуют в походах, войнах, несутся сломя голову к дальним берегам за сокровищами или медленно изнывают от жары в пустыне в рядах колониальной пехоты, то вторые предпочитают обо всём этом лишь фантазировать, попутно пишут роман или повесть, часто используя в качестве материала те впечатления и переживания, которыми щедро поделятся с ними активные двойники. Но существуют и счастливые случаи, когда активный и пассивный искатель приключений сочетается в одном человеке. К таковым сам Мак Орлан относит, к примеру, Джека Лондона и Джозефа Конрада. Стоит сразу оговориться, что для французского писателя это были уходящие натуры, соответствующие эпохе, когда приключение в ещё не до конца расколдованном мире было в принципе реализуемо. Но старый вояка и завсегдатай кабачков Монмартра здорово бы удивился и расплылся в улыбке, узнав, что и спустя сотню лет находятся ещё такие редкие типажи. К их числу, без сомнения, относится и Сильвен Тессон, соплеменник Мак Орлана, не только в силу обладания паспортом Пятой республики, но и по принадлежности к породе настоящих авантюристов.
«Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она созидается в нас самих. А бегство никого никуда не приводило», — писал Антуан де Сент-Экзюпери. Мудрому лётчику, изведавшему столько дорог, можно верить. Путешествие — это вызов. Мы поверяемся им. Становится ли приключение частью ландшафта нашего опыта? Хватит ли у нас наблюдательности, терпения, духа и элементарной эрудиции откликнуться на то, что откроется нам в пути? Если нет, то мы превращаемся в потребителя рекреационных услуг. Да, поиск новых впечатлений и испытание себя на прочность — это то, чем долгое время руководствовались сердца искателей приключений. Теперь, в эпоху реактивной авиации и быстрого интернета, никого не удивишь простым, хоть и насыщенным описанием экзотических стран, а дорога к ним не становится испытанием, часто сопряжённым с риском для жизни. Казалось бы, и эпоха приключенческой литературы осталась в прошлом. Можно было бы остановиться на этом утверждении, но всё несколько сложнее. Сегодня к писателю предъявляются иные требования. Его перемещения в пространстве обязаны сочетаться и с тонкой работой по осмыслению себя в том месте, где он оказался, а не превращаться в рассказы (часто приправленные небылицами) о трудностях, связанных с достижением заветной географической точки.
Сильвен Тессон отправляется в путь не только для того, чтобы преодолеть самого себя. Часто он идёт по забытым дорогам, чтобы приобщиться к опыту тех, кто уже некогда пробирался по ним. И в какой-то мере пытается осмыслить этот опыт теперь. Это смело. Французский путешественник будто одержим идеей того, что нужно непременно оказаться на месте тех или иных свершений, чтобы приблизиться к их переживанию и пониманию. Это убеждённость в существовании некой цельности, связывающей пространство и события, которые развивались с ним в сопряжении. Можно ли назвать это метафизикой географии? «Я верю в капиллярное проникновение географии в наши души… Жить в географии — значит сокращать расстояние между телом читателя и абстракцией текста», — пишет Тессон в книге «Лето с Гомером». Следуя этой максиме, он изучал пути странствия полумифических беглецов из ГУЛАГа, двигаясь от Сибири до самой Индии. Стремился приобщиться к метафизике одиночества и отшельничества в уединённой избушке у замёрзшего Байкала. Затем мчался в сопровождении французских и русских товарищей на мотоцикле «Урал» по заснеженным дорогам, повторяя маршрут отступления Великой армии Наполеона из Москвы в Париж. Вместе с бойцами Иностранного легиона передвигался на быстроходных пирогах по тропическим рекам Французской Гвианы. На ледяных утёсах Тибета с фотографом Венсаном Мюнье выслеживал снежного барса и в долгих засадах вёл неспешные и вкрадчивые диалоги с природой этих диких мест. Размышления на вершинах затем легли в основу книги и составили повествовательную ткань поистине завораживающего документального фильма. Даже для написания своей работы о Гомере он отправляется на маленький островок Тинос в Эгейском море, чтобы приблизиться к постижению тайны появления основополагающего европейского эпоса, прочувствовать его архитектонику, ведь, по словам Тессона, «нужно проникнуться той физической материей, из которой Гомер изваял свои поэмы».
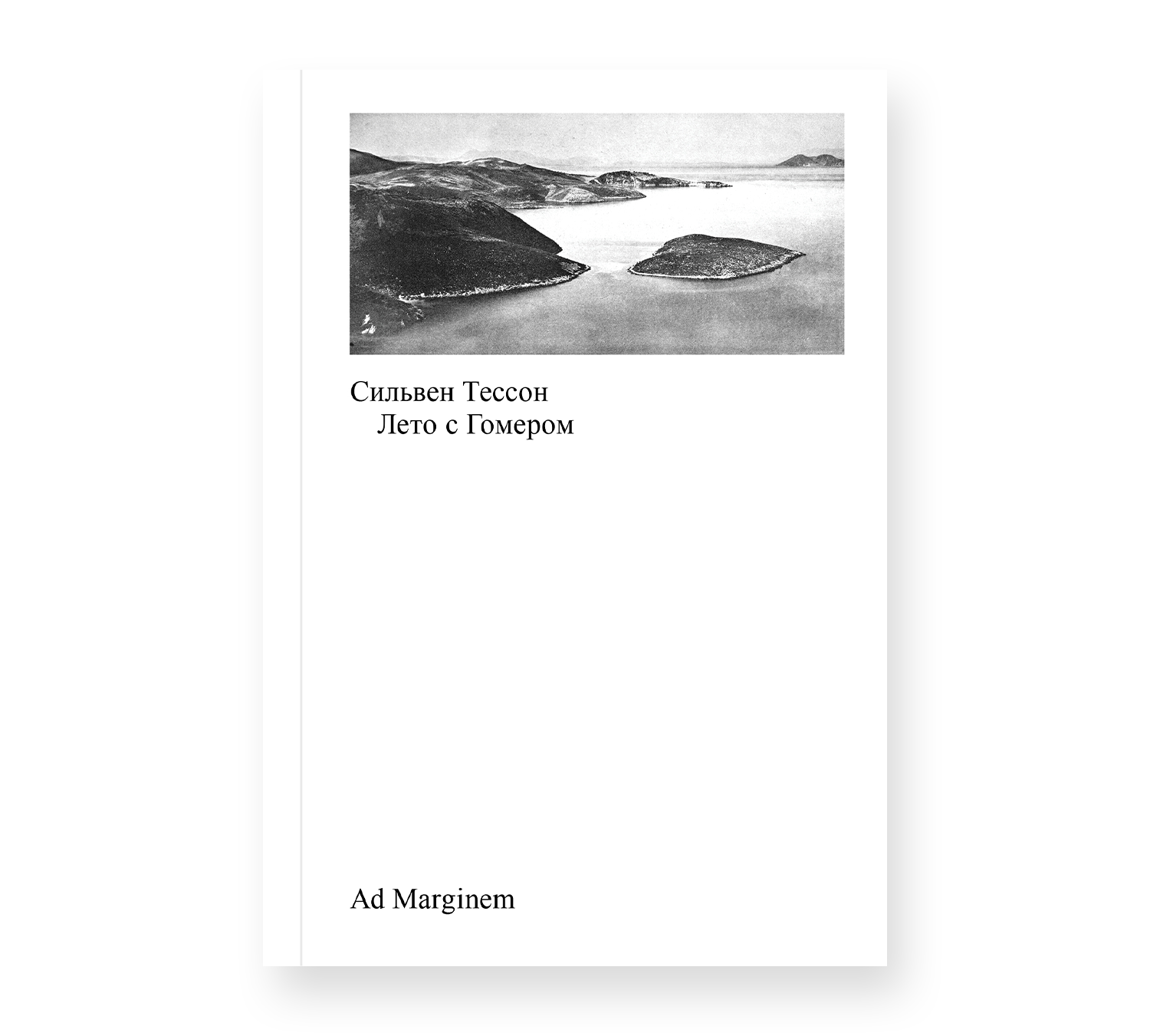
Погружение в мир «Илиады» и «Одиссеи» — это тоже путешествие, путь к истокам европейской культуры. И именно Одиссей открывает в ней династию настоящих искателей приключений. Впрочем, философ Владимир Янкелевич называет его «ложным путешественником», ставшим таковым в силу обстоятельств. И как же это созвучно с тем, о чем писал в своей небольшой книжечке откровений уже упомянутый нами Мак Орлан! Многие авантюристы выбирали свой путь не по доброй воле, но значительно на нем преуспели, по крайней мере, по части разнообразных злоключений. И здесь греческий герой тоже оказался первопроходцем.
Нам повезло получить в проводники по гомеровским текстам очень наблюдательного, опытного и остроумного пилигрима. Тессон не только путешественник и писатель, но и великий читатель. Тысячи прочитанных страниц соответствуют тысячам преодолённых километров. Не будем забывать, что французы издавна известны своими карманными изданиями. Кажется, Сильвен с ними никогда не расстаётся. Отправляясь на зимовку в домик у Байкала, он берет с собой целую библиотеку, список книг которой советуем изучить отдельно всякому, кто решит провести полгода в отшельничестве. И, по мнению этого человека, «Илиада» и «Одиссея» есть исток и венец литературы как таковой.
Что же открывает нам Тессон во время путешествия по страницам великих творений Гомера, написанных 2500 лет назад? В первую очередь, то, что они удивительно современны, вернее сказать, вневременны. «Сквозящие в этих поэмах темы — война и слава, величие и кротость, страх и красота, память и смерть — это то самое горючее, что подпитывает пылающий огонь вечного возвращения», — так говорит Тессон, который «верит в неизменность человека» вопреки прогрессистским убеждениям нынешних социологов. И если человек и вправду неизменен, то Гомер остаётся для нас воспитателем. Он учит видеть мир в его многообразии и сложности, в котором следует соблюдать границы, а нарушение равновесия становится тяжелейшим преступлением. Он говорит о том, что свобода человека раскрывается в следовании судьбе, а целеустремлённость и верность есть высшие добродетели; о том, что чрезмерность губительна для нас и для мира.
Это простые уроки, которые тяжело усвоить. Простые правила, которым трудно следовать. Потому их нужно повторять. Ведь нет ничего нового под Зевсовым солнцем. Тессон вслед за Гомером указывает нам на то, что одна из главных угроз в жизни человека — это потеря памяти. Помните искушение моряков Одиссея в плену у лотофагов? В забытьи они едва не потеряли себя! Тема идентичности и своеобразия становится одной из главных в комментариях Тессона к поэмам Гомера, наряду с рассуждениями о судьбе, верности и порядке.
То здесь, то там заметки на полях к гомеровским произведениям писателя-путешественника приобретают острополемический характер по отношению к существующим в современном Западном мире интеллектуальным модам. В самом деле, чего только стоят фрагменты, где ставится под сомнение прогресс, критикуется массовая миграция и современные демократии или утверждается важность существования границ и дистанции, традиций и корней? Настороженное отношение к технике, обществу потребления вкупе с экологизмом и приданием особой важности идентичности и традиции сближают Тессона с «новыми правыми». Прибавим сюда и литературные предпочтения писателя, в которых Эрнсту Юнгеру, Дриё ла Рошелю, Фридриху Ницше и Юкио Мисиме отведено особое место. «Уолдену» он предпочитает «Уход в Лес». Французский журнал Valeurs помещает его имя среди «правых анархистов» наряду с Луи-Фердинандом Селином, Леоном Блуа, Жаном Распаем и Марселем Эме. Всё это даёт некоторым повод записать Тессона в «реакционеры», призвать к бойкоту его произведений и даже в его увлечении альпинизмом увидеть политическую подоплёку. С другой стороны, писателя упрекают в «ностальгии по СССР», считают «иконой левых» за участие в акциях в пользу бездомных, антиконсьюмеризм, защиту окружающей среды и отмечают положительные рецензии на его книги в L’Humanité. При этом же сам писатель проявляет открытость и широту взглядов, свойственную людям, способным видеть мир во всей его полноте, сразу двумя глазами: левым и правым. Тессон раздаёт автографы в книжных магазинах, которые принято считать левыми, но посещает и легендарный правый парижский магазин La Nouvelle Librairie, даёт большое интервью Revue Éléments Алена де Бенуа. В конечном счёте, сохранять верность себе и своим убеждениями вне зависимости от идейно-политических поветрий и кривотолков в прессе — это ли не лучший компас для того, кто смело путешествует по собственной судьбе?
Да, больше века назад фантазёр и острослов Мак Орлан поставил под сомнение возможность приключения, подчеркнув, что оно существует лишь в нашем воображении. Тессон же дарит нам надежду на то, что далеко не всё потеряно и нас ждёт ещё много удивительных дорог. Действительно, чтобы путешествовать по ним, не всегда нужно выходить из дома, иногда достаточно лишь книги. Но как часто и прочитанная книга заставляет срываться с места? И не от пустоты внутренней, а от полноты, когда странствие не превращается в пресловутое «бегство», о тщете которого предупреждал нас Экзюпери.