Вторая жизнь романа: рецензия на книгу Томы Павела
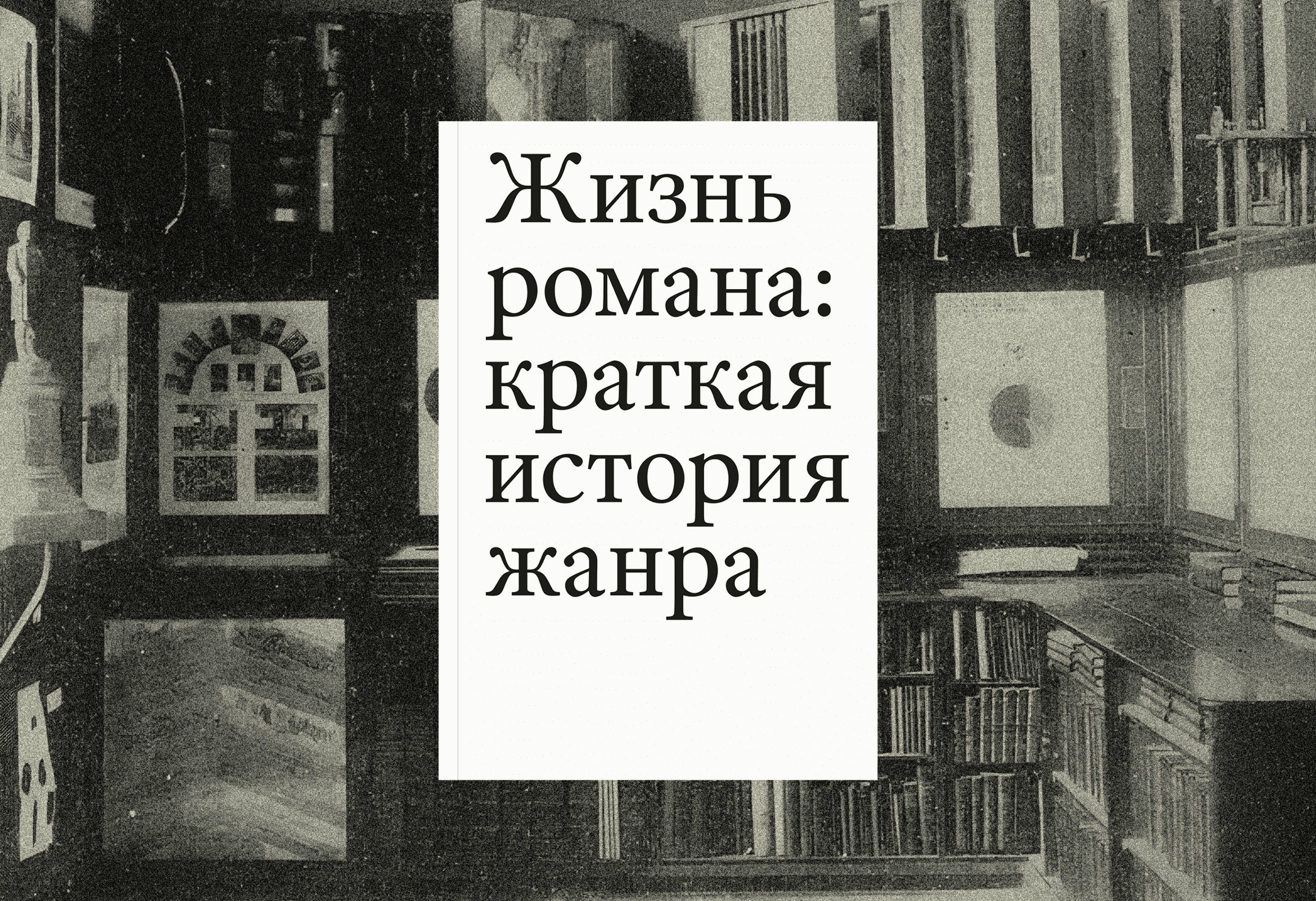
Недавно издательство Ad Marginem выпустило книгу «Жизнь романа» румынского теоретика литературы Томы Павела. Это подробное исследование эволюции главного беллетристического жанра литературы — от его зарождения в Древней Греции до начала XXI века. В материале филолог Вера Котелевская предлагает краткое и последовательное резюме приключений романной формы, описанных Павелом. А еще рассуждает о том, как роман отражает интеллектуальные коллизии эпохи, и как румынский литературовед борется с культурным забвением.

Что связывает Одиссея с рекламным агентом, меланхолично фланирующим по Дублину времен fin de siècle, а землемера К. — с Персевалем и бальзаковскими карьеристами? Румынский литературовед Тóма Пáвел ведет нас по «жизни романа» от самой античности, прослеживая на этом долгом пути и новые витки, и повторы с вариациями. Вдохновившись позитивистскими типологиями и структуралистскими «грамматиками», автор создал нечто вроде естественной истории и морфологии жанра одновременно. В таком поступательном, пусть и драматичном развитии романа современный читатель найдет утешительный ритм историцизма, а в генеалогическом древе жанра — прочное знание. И это разительно отличает модель Томы Павела от известных нарративов о романе (Бланшо, Жирар, Рикёр, Кристева etc.), переписывающих жанр в фокусе какой-то решающей авторской идеи или метафоры.
Книга Томы Павела La pensée du roman (2003) вышла на русском в издательстве Ad Marginem.
Рефлексия о романе захватывает едва ли не сильнее самих романов — так остро выражен в ней дух времени, запечатлены «предпочтения и фобии» современников (с. 25), очерчены интеллектуальные коллизии века. Через прологи к «Фьяметте» или «Дон Кихоту», «Искусство романа» Кундеры или «Заметки на полях „Имени розы“» Эко мы узнаем не только о «жизни романа», но погружаемся в саморефлексию искусства и в сердцевину моральных баталий века. Теоретики признали жанр и всерьез занялись им каких-то полтора века назад, так что сами романисты задавали правила и тон в истории этого «неготового», как выразился Бахтин, жанра. Инструментарий романа, пишет во Введении к своей книге Тома Павел, заложен в самих произведениях, но иногда артикулирован в романных метатекстах «подобно правовой мысли в странах обычного права, которая выражается не в кодексах, а в преамбулах и глоссах, прилагаемых к отдельным вердиктам» (с. 18). Поэтому по сей день «мысль о романе» (таково оригинальное французское название книги Павела; для российского издания выбран нарративный англоязычный вариант), как жемчужина из раковины, изымается из романных отступлений Филдинга, Стерна, Броха, Фаулза или из знаменитых программных эссе вроде предисловия к «Человеческой комедии» Бальзака или «О нескольких устаревших понятиях» Роб-Грийе.
К романному метатексту приложили руку и знаковые философы культуры: Лукач, Беньямин, Адорно, Камю, Рикёр, Барт, Кристева, Мамардашвили, Подорога оставили свое слово о романе, увидев в некогда «низком» жанре онтологические и эпистемологические основания мировидения человека (пост)модерна. «Человеческая комедия», разыгрываемая на страницах Рабле, Достоевского или Беккета, вопреки разнящимся сюжетным ситуациям, социальному положению героев и стилистике, обнаруживает общие черты. Романный герой, в отличие от героев «нормативных» жанров, не имеет предустановленного места в мире и должен в череде испытаний, в том числе чисто риторических, обрести его — или потерпеть поражение. Отказ от сюжета поисков своего «грааля» предстает инверсией, но не преодолением этой устойчивой схемы: выбравшие vita contemplativa герои Гюисманса, Пруста или Музиля лишь смещают центр тяжести с мира внешнего на мир внутренний — в итоге сюжет составляют по преимуществу «муки самости» (с. 348).
Протеизм романа, верного «памяти жанра», однако способного непрестанно обновляться, словно подтверждает анахроническую природу искусства как такового или даже самой культуры: пронизанная накопленной за века топикой, она развертывает на арене настоящего стили исторически разного происхождения. При этом на поверхность выносятся то одни, то другие, монтируясь в бриколажи или вступая в отношения ассимилирующего «синтеза» (характерное для автора, тяготеющего к системности, понятие: оно фигурирует в книге более 30 раз). Поэтому, как показывает Тома Павел, самые неправдоподобные авантюрные «эфиопики» родом из поздней античности могут соседствовать с традицией социального наблюдения, восходящей к эмпирической (локковской) линии и реалистической школе, — именно так происходит в романах Гюго, Сю и Достоевского, а в абсурдных мирах Кафки можно обнаружить следы домодерного топоса mundus inversus, знакомого нам по произведениям Эразма Роттердамского и Рабле. Примеров подобных палимпсестов в книге не счесть. И когда исследователь пишет о том, что «язвительный юмор Филипа Рота и мягкая ирония Джона Апдайка создают современный американский эквивалент романа нравов XVIII века» (с. 376), а «модернизм никогда не забывал уроков реалистического ремесла» (с. 29), он тем самым в очередной раз подчеркивает неустранимую стилевую многослойность романа. По мысли автора, романистами движет «стремление подражать и возражать, делать лучше и делать иначе, проскользнуть под одеяло и вытолкнуть соседа из постели» (с. 381). Но вторая жизнь романа, как будто похороненного оппонентами (Сервантес изничтожает «Амадиса Гальского», Гёте дискредитирует творения Жан-Поля, Бретон — «школярский рисунок» реалистов, и т. д., и т. п.), не просто начинается сызнова через поколение ли, позже ли — она, по сути, не прерывается. И то, что в романе постмодерна демонстрация этой анахронической многослойности обращена в ведущий прием, лишь сигнализирует о кризисе проективного мышления модерна, в результате которого утвердился ре-конструирующий, ре-визионистский взгляд на формы культуры. Хотя немало глав книги Павела посвящено новейшему роману, слово «постмодерн» встречается в ней лишь дважды. Панорамному обозревателю истории жанра и без апелляции к «интертекстуальности» и «постмодернизму» легко удается показать: литература производилась и производится из литературы. (И лишь короткие полвека буржуазного реализма поколебали эту поэтологическую истину.)
Тома Павел, таким образом, выявляет своего рода глубинные жанровые слои в романах настоящего, будь то настоящее рыцарского романа (с отчетливыми следами приключенческих фабул эллинизма), барочной пасторали (наследующей идеализм античных «эфиопик») или сентиментальной истории «прекрасной души» (августиновская линия). Идея «исключительной новизны» (с. 29), на которую претендуют очередные реформаторы романа, оказывается при таком подходе, скорее, декларативной. Павел убежден, что, постоянно обновляясь, роман тем не менее концентрирует в себе идею культуры как трансляции — связи, а не разрыва. Или точнее: связи через разрыв. Сегодня это важно еще и потому, что постиндустриальный темп непрестанного обновления — технологий, материальных и интеллектуальных продуктов, трендов — все более укорачивает память пользователей, делегированную гаджетам, а прибывающий цифровой массив погребает «устаревшие» слои информации. Интенция Павела прямо противоположна такому забвению: он поднимает целые пласты европейской литературы, шаг за шагом накапливая коллекцию схожих приемов и мотивов и выстраивая топику романа, резервуар его форм. Тем самым он продолжает работу, проделанную когда-то в отношении литературы Ауэрбахом, Курциусом, Фрейденберг, Бахтиным, а в отношении изобразительных искусств и культуры — Риглем, Варбургом, Панофским, Беньямином. Серьезность его намерений подтверждается методологической последовательностью и стремлением к системности. Что это за методы, и какую систему предлагает нам автор?
В «Жизни романа» просматриваются две модели — позитивистская «естественная история видов» (с. 31), на которую прямо указывает автор, и структуралистские нарративные «грамматики» (вспомним опыты раннего Барта или работы Бремона, Греймаса, «Грамматику „Декамерона“» Тодорова, семиотические штудии Лотмана и Фарыно). Эту модель автор не упоминает, очевидно, как «преодолевший» структурализм, но в 1970-х он успел отметиться и сотрудничеством с ведущими французскими структуралистами вроде Бремона, и усвоением «генеративной грамматики» Хомского, написав несколько типично структуралистских монографий — например, La Syntaxe narrative des tragédies de Corneille (1976). Стиль как бы полифонического проведения темы, отличающий «Жизнь романа», следование намеченным принципам и критериям, доходящее временами до схематизма, похоже, — отголосок структуралистского периода. Обе названные модели до сих пор используются в нарротологических штудиях, вполне уместны в академических монографиях и учебниках, а вот в научно-популярной прозе, к каковой с оговорками можно отнести «Жизнь романа», выглядят старомодно. Респектабельно старомодно.
Со второй половины XIX вплоть до середины XX века литературоведы вдохновлялись идеей культурфилософских и искусствоведческих (Гегель, Шпенглер, Вёльфлин, Ригль), а также лингвистических типологий (сравнительных грамматик, семей языков). Примечательно, что Алоиз Ригль свой труд по типологии изобразительных искусств называет «исторической грамматикой» (Historische Grammatik der bildenden Künste, 1897–1899; публ. 1966). В подобном русле, с большим или меньшим формалистским уклоном, конструировали свои историко-литературные системы Тэн, Веселовский, Пропп, Бахтин, Лэммерт, Курциус. Филологическим наукам на какое-то время передался позитивистский импульс: обширный материал, накопленный несколькими поколениями ученых, следовало упорядочить, распределить по классам, семьям, видам. Собственно, и роман в век позитивизма сверялся с естественнонаучным идеалом: наблюдение, эмпирический опыт, точность и достоверность движут Бальзаком, сравнивающим в предисловии к «Человеческой комедии» писательский труд с классификациями естествоиспытателей; Золя убежден, что пишет «экспериментальный роман», а братья Гонкур предпринимают «клиническое исследование» страстей. (Тома Павел усматривает сей натуралистический импульс позже и у «радикальных» модернистов — Джойса, Вулф, Дёблина.) Когда спустя век Джон Фаулз в «Любовнице французского лейтенанта», ироничном пастише викторианского романа, превратит своего протагониста Чарлза (аллюзия к Дарвину и Диккенсу) в палеонтолога-любителя, а одного из персонажей, эксперта по душевным смутам — в физиолога (доктор Гроган), связь между чтением окаменелостей и физиогномики современных страстей будет выставлена во всей своей научной красе.
«Физиология» и «физиогномика», слова, часто встречающиеся в 400-страничном труде Томы Павела, служат ключом к естественной истории романа, которую он предлагает. Описывая ее коллизии как сложное переплетение соперничества и мимикрии, гипертрофированного развития отдельных ветвей эволюции и забвения других, при этом указывая на сохранившиеся рудименты, своего рода жанровые окаменелости, он, безусловно, предлагает нам типологический очерк. Историография романа предстает не столько как описательная (в ней очевидны лакуны, и автор прекрасно это осознает и проговаривает), сколько как структурная: типическое важнее индивидуального, контуры важнее фактуры.
Во Введении исследователь как раз очерчивает контуры, по которым движется его панорамирующая «мысль о романе». Из больших типологий Гегеля, Бахтина, Лукача выведены четыре принципа и, соответственно, четыре раздела книги: «трансцендентность нормы» (1), «очарование внутреннего мира» (2), «натурализация идеала» (3), «искусство отстранения» (не путать с остранением, которого Павел тоже касается в связи с прочтением романов Толстого Шкловским) (4). Романная коллизия образуется в столкновении трех начал — «человек, мир, моральная норма» (с. 12), которые на сломе эпох обнаруживают особую подвижность, и эту-то подвижность улавливает и заостряет роман. Отголосок то ли гегелевской диалектики, то ли структуралистского мышления бинарными оппозициями прослеживается также в последовательном выявлении автором антиномий: воображения («романической лжи», с. 21) vs здравого смысла, поэзии vs прозы, искусства vs ремесла, субъективного («самость») vs объективного (реальность), идеализма vs правдоподобия, герметизма vs читабельности, и т. п.
Сам автор предпочитает золотую середину и пытается избежать крайностей русского формализма (полемика со Шкловским на с. 26–27, с. 60), социологического литературоведения и постструктуралистского эссеизма. В своем историографическом экскурсе он выделяет, как бы следуя нумерологическому влечению к симметрии, четыре парадигмы: естественную (1), формальную (1), социальную (3), спекулятивную (4). И развертывает в итоге четыре наслаивающихся друг на друга истории жанра: «естественную историю видов романа» (с. 30); «историю романных техник» (с. 31); «социальную историю романа» (с. 33); «спекулятивную историю романа» (с. 36). Так, отдавая дань англо-американскому литературоведению (в частности монографии Уотта Watt I. The Rise of the Novel, исследованиям Моретти и др.), он подчеркивает:
«Благодаря этим исследованиям мы сегодня имеем подробное представление о литературных последствиях географических открытий, колониальных империй, промышленной революции, изменений в структуре семьи, признания прав женщин и меньшинств, создания глобального рынка.» (с. 36).
И тем не менее замечает:
«Мой собственный проект, не отрицая важности этих знаний, преследует другую цель. Он заключается в том, чтобы понять эволюцию романа в долгосрочной перспективе, внутреннюю логику его становления и диалог, который его представители вели друг с другом на протяжении веков, а не настаивать на весьма показательных связях, которые этот жанр поддерживал с внелитературными явлениями в каждый момент своего существования» (Там же).
Физическое и мета-физическое («спекулятивное») вступают у Павела в тесный союз, вполне ожидаемый для жанра, на сцене которого, предстающей то «преисподней быта» (Бахтин), то лабораторией утопического эксперимента, решаются проклятые вопросы. Важно и то, что за основу анализа автор берет не столько стилистику, сколько художественный мир романа, будучи убежденным, что «тип сюжета, природа персонажей и место действия представляют собой подлинное творческое ядро повествовательных жанров» (с. 39). Отсюда — обилие парафраз романных сюжетов, разборов констелляций, образуемых героями.
Что до «внутренней логики» развития жанра, то Павел во многом сохраняет схему исторического «движения понятия» Лукача (в переводе оставлена французская калька «концепт»), хотя подчеркивает, что она не универсальна (ею не описать, например, романы Толстого). В этом движении — три этапа: «абстрактный идеализм» (Дон Кихот), где идеальный мир героя уже реального мира; «романтическое разочарование» (Обломов), определяющееся тем, что идеал героя шире реального мира; «примирение с социальной действительностью» (Вильгельм Мейстер: роман воспитания) (с. 37–39). Павел, как и Бахтин, рассматривает большую историю жанра, выделяя, по сути, до-модерный и модерный этапы: от античных протороманов и средневековых roman к novel Нового времени и дальнейшим его трансформациям. Аргумент многих историков литературы о том, что до Нового времени не существовало декартовского «субъекта», соответственно, романная коллизия индивида и среды возможна не ранее XVII века, он отбрасывает. Для него конституирующим условием является иное. Вот как он развивает свою мысль:
«Уже в эллинистическом романе были заложены основные ориентиры для антропологии романа: разрыв между героем и враждебным ему огромным миром, несводимость главного героя к случайности его судьбы, спасительная роль любви. Этот каркас сохранится, но на более конкретном уровне изобретения старые вымышленные вселенные станут порой в ходе истории объектом яростной критики, что приведет к переосмыслению социальной антропологии, передаваемой романом. Памела, героиня Ричардсона, воплощает в себе идеальную добродетель принцесс греческих романов, но в облике персонажа, принадлежащего к самому скромному социальному положению. <…> роман — это первый жанр, в котором мироздание предстает как единство, превосходящее множественность человеческих сообществ.» (с. 45).
Следуя намеченным ориентирам, Павел в четырех обширных частях рассказывает о движении романа между изображением должного поведения и критикой человеческих несовершенств.
В части первой («Трансцендентность нормы»), сходу демонстрируя беллетристическую живость стиля, Павел проводит нас по перипетиям эллинистических и рыцарских повествований, захватывая также барочный пасторальный роман, несущий отголоски «идеографического» романа античности.
Изобилие пересказов почти всегда держится у него целого за счет каркаса схемы. В основе ее лежит непреложность и одновременно недостижимость (романные герои суть исключения) моральной нормы, источником которой является божество. Павел называет три кита «идеографического», еще вполне абстрактного сюжета: осознание единства мира, свобода человека, бесконечная сила единого божества. Вступая в союз с божеством, «отшельник», «избранный народ» или пара влюбленных (Левкиппа и Клитофонт, Хариклея и Теаген, Каллироя и Херей) проходят испытания, подтверждая и свою исключительность («святость в миру», с. 58), и обязательность нормы, без которой мир впадет в хаос. Обилие приключений, согласно Павелу, подтверждает вовсе не формальную виртуозность саспенса, как-то виделось Шкловскому, а капризность Фортуны и несовершенство подлунного мира. Уже здесь за гипертрофированной событийностью проступает интерес романа к «защите внутреннего пространства» (с. 60) от внешнего мира:
«Воспринимая свой внутренний мир как неприступную цитадель, герои уединяются в нем, чтобы противостоять как собственным порывам, так и превратностям мира. Любовь, добродетель и благочестие отвлекают их от действия.» (с. 63)
«Величие неписаного закона» (с. 64) движет впоследствии и средневековым рыцарем. Но он уже не может уединиться в замкнутом мире любовной идиллии — он вынужден, рискуя жизнью, отправляться в бесчисленные авентюры, отзываясь на зов о спасении гармонии от темных сил (с. 67). Кишащий злодеями лес олицетворяет пошатнувшийся порядок:
«Аллегория леса представляет собой наиболее очевидную трудность рыцарства: норма может быть предельно ясной, но мир остается кровавым лабиринтом. Именно поэтому рыцари знают свой долг, но почти всегда сбиваются с правильного пути. Совесть молниеносно различает максимы, которым она должна подчиняться, но когда нужно ориентироваться среди тропок этого мира, эти доблестные рыцари нуждаются в подсказках оруженосцев, девиц и лесничих» (с. 69).
Уже в этих ранних формах — в средневековом roman — вырисовывается типичная коллизия «между трансцендентностью нормативного идеала и человечностью героев» (с. 70). Живописуя далее перипетии пасторального романа барокко, автор распутывает идиллико-риторические страсти «Астреи» (1607–1627) Оноре д’Юрфе, что особенно ценно для русского читателя: многотомный опус не переведен, между тем именно в нем закладывается модель идеалистического эскапизма, воскрешаемая романом в смутные времена. Эмблематичны для последующего развития романа и другие компоненты: типажи пасторальных персонажей (капризная и требовательная возлюбленная Астрея, преданный Селадон); преображенные лиризмом приемы комедии положений; алхимическая метаморфоза героев, преодолевающих «раскол самости» (Селадон — Алексис, с. 77–80); модель мира-лабиринта, от которого спасаются в идиллическом лесу, своего рода аллегории внутреннего мира, порожденного идеалом. Абстрактная обобщенность ситуаций и риторическая виртуозность сделали «Астрею» «энциклопедией любовных трудностей» (с. 80).
«Между идеальной нормой и низостью зрелища» располагается другая разновидность романа барокко — плутовской роман, ведущий происхождение от животного эпоса и авантюрных странствий по миру пороков (с. 90). Отголоски пикарески Павел усматривает впоследствии в фиктивных автобиографиях Молль Флендерс и Роксаны у Даниэля Дефо, в истории похождений солдата Швейка Ярослава Гашека и в судьбе берлинского грузчика Франца Биберкопфа из «Берлин, Александерплац» Дёблина, и т. п. Как подмечает автор, «кажущаяся разрозненность эпизодов» в плутовском романе есть не следствие «технической неумелости», а цель — «изобразить единство и распад мира» (с. 93).
Особую ценность представляет исследование элегической повести и «серьезной», «трагической» новеллы, с ее «интериоризацией анекдота» (с. 116), скрупулезной психологической аналитикой и лейтмотивами «незнания себя», «бунта страстей» и диалектики «наблюдения и сокрытия» (с. 119). Отсюда тянутся нити к «аналитическому роману» Мари Мадлен де Лафайет, Стендаля, Толстого, Пруста.
Во второй части («Очарование внутреннего мира») демонстрируется, с одной стороны, решительный поворот романа модерна к «внутреннему человеку», с другой — реабилитация материально-чувственного мира (более не расцениваемого как нечто низменно-комическое), а также смещение нормы с уровня трансцендентного божества на уровень социума — на скрепляющий его «общественный договор». Герои и героини Руссо, Ричардсона, Стерна, Филдинга призваны в себе самих «прочесть скрижали, на которых были начертаны вечные нормы совершенства» (с. 133). Демократический дух Просвещения, согласно которому сословное и расовое отступает на задний план, а на передний выходит человек per se, порождает истории всевозможных парвеню, причем далее эта жанровая линия, гипертрофируясь, преобразуется в роман карьеры, от неудачливых карьеристов Стендаля до авантюристов Бальзака и «сверхчеловеков» Достоевского. С другой стороны, «эгалитаристская» тенденция вызывает к жизни ричардсоновскую историю добродетельной Памелы и благородных сирот, несправедливо «отверженных» Диккенса и Гюго. Отдельную ветвь представляет собой «людический» (почему не «игровой»? вопрос к переводу, а не оригиналу) роман Стерна и Дидро, вдохновленный «ироническим скептицизмом» (с. 159). Словоохотливые, но бездеятельные персонажи освобождают язык от связи с реальностью, демонстрируя недостоверность и карикатурность биографии, шире — всякого нарратива, неспособного пробиться к истине вещей и самости повествующего. Тот предстает уязвимым и принципиально непостижимым. (Жаль, что эту интереснейшую линию саморефлексии романа, развернутую в работах П. Во, Л. Хатчен, П. Цимы, С. Виетты и др., Павел обрывает: вопросы поэтологии и философии романного слова интересуют его в последнюю очередь.) Непознаваемость бытия и «последствия обожествленной самости», утратившей связь с трансцендентным, со всей прихотливостью отображаются в готическом романе, которому отведено немало страниц в книге Павела.
Критика «доктрины автономии», развернувшаяся в романах Гёте, противостоит пафосу высвобождения индивида в романтическом романе, что подробно разбирается в главке «Апофеоз любви и его критика». Алхимическую герменевтику «Избирательного сродства» и скептическое отношение к страстям в «Адольфе» Констана исследователь сталкивает с волюнтаризмом чувств шлегелевской «Люцинды». Павел показывает, как впоследствии пафос бесконечного поиска подлинного себя и Другого вырождается в «инерцию возвышенных поз» (с. 193).
Третья часть («Натурализация идеала») посвящена наиболее известному широкой публике эпизоду из «жизни романа» — реалистическому и натуралистическому роману и новелле. Павел, следуя гегелевско-лукачевской логике, рассматривает коллизию индивида между «укорененностью» в среде, традиции, законе и — свободой, между исключительностью внутреннего идеала — и прозаичностью буржуазной повседневности. Поэтому внимание его сосредоточено, с одной стороны, на историях бунтарей против порядка («Михаэль Кольхаас» Клейста) и поисках подлинности Другого в «историческом и сентиментальном экзотизме» (исторические романы Скотта, «Итальянские хроники» Стендаля, «Казаки» Толстого и др.). С другой стороны, автор исследует сюжеты «величия незаметных людей» в романах Диккенса, «феминистский идеализм» в прозе Шарлотты Бронте и Жорж Санд. Резюмируя значение последней, он пишет:
«Во всех этих историях женщина превосходит мужчину, потому что она более жива, расторопна, лучше, чем он, приспособлена к трудностям жизни, но, не выпячивая этого превосходства, она великодушно становится полезной. Создание пары, основанной на сотрудничестве, — единственное счастье, к которому она стремится.» (с. 230).
Отдельный пласт реалистического романа рассматривается Павелом в свете трех скептических (и опять — нумерологический импульс), так сказать, «школ» — «школы иронии» (Стендаль, Теккерей), «школы эмпатии» (Джейн Остин) и «школы горечи» (Флобер, Гонкур, Золя). «Антиидеалистический» пафос выражен у этих романистов особенно остро.
«Развитие героев Флобера — это не настоящее воспитание, Bildung в смысле синтеза индивидуальных стремлений и моральных требований общества, это развитие приводит скорее к деформации индивидов, которые, постепенно осознавая пустоту нравственных идеалов, учатся принимать, а то и упиваться собственной деградацией.» (с. 271)
Особое место в третьей части занимает большая глава, посвященная жанровому «синтезу» (synthèse), получившему в переводе не совсем точное обозначение «обобщение». Речь тут идет о романах, соединяющих разные, идеалистические и аниидеалистические, тенденции, простодушие персонажей и мудрость, пастораль и социальный очерк, «эпизодическое изобилие старых романов с повествовательной концентрацией новеллы» (с. 293) и, в целом, не укладывающиеся в одну-единственную жанровую схему. Таковы романы Толстого (исследователем тонко прописан анализ психологии героев) или проза Штифтера и Фонтане, разбор которой выполнен Павелом с большим мастерством, гротесковые полотна Достоевского, в которых приемы бульварного романа сочетаются с «бунтом против автономии» индивида, против модерной идеализации субъекта. Павел реконструирует логику романов Достоевского следующим образом:
«… раз человек объявляет себя хозяином самому себе, как он узнает, правильно он поступает или нет? Ведь если людям позволено самим устанавливать моральный закон, то ни что не мешает некоторым из них принять закон, благоприятствующий исключительно им и осуждающий их ближних, — закон, который, например, разрешает им убивать. Кто будет иметь право судить о притязаниях нашего героя, пока основополагающий постулат современного идеалистического романа — моральная автономия прекрасных душ — остается в силе? И кто скажет герою, что он не принадлежит к семейству прекрасных душ?» (с. 311)
Исследователь указывает на характерное «лихорадочное состояние, с бредом», испытываемое Раскольниковым после совершения преступления, которое невольно вызывает «вопрос о том, как герой может надеяться на то, что ему удастся установить свой закон, если он даже не может контролировать свое тело и умственные способности» (с. 313).
Любопытный ход автора связан, кстати, с опровержением «полифонической» поэтики Бахтина, транслируемой на романы Достоевского. Тут, скорее всего, недоразумение: Павел приписывает Бахтину («Проблемы поэтики Достоевского») мысль, что герои Достоевского якобы свободны в своих «поступках», воплощают «свободную субъективность» ответственных индивидов (с. 319). Едва ли это согласуется с концепцией Бахтина, подчеркивающего как раз «пороговую», карнавальную природу слова и жеста в героях Достоевского, ни слова не говорящих без оглядки, без саморазвенчивающей, а значит, и саморазрушающей, интенции. При такой разбалансированной поведенческой стратегии странно было бы ожидать от героев целостности и свободы.
Четвертая часть («Искусство отстранения») представляет собой наиболее краткую, как бы эскизную версию истории романа ХХ века: краткость автор оправдывает слишком малой дистанцией, неготовностью к большим обобщениям, которые возможны в отношении прошлых эпох. За основу взята так называемая «фигура укорененности» героя. Отныне он переживает разные степени разрыва со средой, традицией, идеалом:
«„Выброшенный“ в мир, человек не полагается ни на трансцендентность, ни на законодательную силу, открытую в нем самом, ни на историческое или биологическое наследие.» (с. 335)
Романный герой ХХ века обретает себя в «истине разделения» (с. 336), одинаково применимой к героям Кафки, Пруста, Джойса или Вирджинии Вулф:
«Иной раз сообщество, к которому он хочет примкнуть, упорно отказывает ему, в другой раз принимает его, держит в плену, иногда преследует, но ему никогда не удается ассимилироваться или интегрироваться…» (с. 336)
«Трансцендентальная бесприютность» (Лукач) модернистского героя составляет ядро модернистского сюжета. «Индивидуальное спасение» он обретает в искусстве (Гюисманс, Уайльд, Жид, Пруст) или в ре- и деконструируемом языке (Джойс, Беккет). В свою очередь, романная стилистика ХХ века балансирует между «необработанной речью» потока сознания и «романом-эссе». Последний, на примере «Человека без свойств» Музиля, понят Павелом несколько упрощенно (как и встроенная им в этот ряд фрагментарная проза Ницше): он сравнивает роман-эссе со «сборником размышлений, к которому можно обращаться с огромным интеллектуальным удовольствием, открыв его наугад, подобно тому как это можно сделать с афоризмами Ларошфуко или Шамфора или даже с философскими текстами Ницше» (с. 362). (Очевидно, что у Музиля, как у Пессоа или Кортасара, работают иные законы целостности, которые автор оставил без внимания.)
Замыкает эту часть книги обзор тенденций популярного романа, противостоящего «герметической» тенденции модернистов и педалирующего то добродетели «старого» романа, со всеми извивами неправдоподобного вымысла, то достижения романа модерна в разных его изводах: линия Достоевского, социальный анализ, неоромантизм и т. д. Подводя итог, автор подчеркивает, что историей романа движут «полемический принцип и чередование гармонизации и дисперсии» (с. 382), тяга к радикальному эксперименту и — «читабельности», идеализм и скептицизм. Что же до поэтики шедевров, то история романа, по верной мысли автора, сопротивляется такому упрощению: нередко именно второстепенная беллетристика меняла ход литературной истории, а шедевры оставались недосягаемыми образцами, влияние которых сказывалось лишь десятилетия, а то и века спустя.
Собственно, роман предсказуемо предстает на страницах этого большого очерка воплощением превратностей литературной истории, способной обратить низкое в высокое, новаторство — в банальность, и наоборот. Книга Томы Павела органично впишется в типологические исследования романа, предпринятые, помимо названных Бахтина и Шкловского, Лидией Гинзбург, Андреем Михайловым, Георгием Косиковым, Елеазаром Мелетинским и другими давно известными русским читателям литературоведами. Сочетание беллетристической легкости с понятийной точностью делает честь этой книге, хотя многие понятия и схемы вшиты в нее как бы по умолчанию: студенту или эрудиту, только начинающему путь к роману, некоторые ходы будут неочевидны. Тем не менее наличие предметного и именного указателя и библиография помогут продолжить этот путь самостоятельно. Плюсы русского издания и в том, что библиографические ссылки снабжены российскими версиями указанных изданий (при наличии оных), а термины соотнесены с существующим литературоведческим инструментарием.
Правда, в случае с терминами и именами не обошлось без некоторых погрешностей, что вызывает досаду, ведь перевод достойный и вполне годится для цитирования в просветительских или научных целях. Укажем на некоторые из них. Так, не обошлось без ловушки слова fable, которое исходя из контекста может быть и «фабулой», и «басней», и «вымыслом». В пассаже на с. 161 речь, безусловно, идет об известном нарратологам и читателям зазоре между рассказанной «фабулой», или даже историей (но вовсе не «басней»), — и дискурсом: «Читая эти бесконечные разглагольствования, читатель чувствует, что между виртуозностью дискурса и тоскливостью сюжета открывается обескураживающий зазор, словно старый разрыв между героем и миром уступает здесь место разделению между рассказанной басней и дискурсом, использующими ее в качестве предлога [à la rupture entre la fable racontée et le discours quil aprend pour prétexte]».
Ловушку содержит и многозначный латинизм invention, который на с. 370 соответствует скорее (художественному) «вымыслу», чем «изобретению»: «„Любовь во время чумы“ в то же время является высокой литературой благодаря человеческой теплоте ситуаций, старомодной элегантности стиля и изысканному сочетанию различных видов художественного изобретения» [d’invention fictive]. На с. 291 появляется некий «просветительский жанр», хотя речь идет явно о романе воспитания (во французском тексте присутствует скрытая аналогия с немецким Bildungsroman, в котором есть сема «образование»): «… роман „Война и мир“ по широте своего развертывания напоминает предмодерные романы, особенно просветительского жанра [en particulier à ceux qui appartiennent à la filière éducative]». Видится несколько надуманной конструкция «модернитет» (contemporanéité, modernité): почему не используемая гуманитариями «модерность»? Режут слух некоторые кальки: появляются «элитные» (самые быстрые, лучшие из лучших) бегуны, «эрудитные вставки», «людический роман», «предопределенная пара» (le couple prédestiné: двое влюбленных, которым суждено/предопределено быть вместе?), «царство порождения [génération] и тления (рождения и тления?), „Беспорядки любви“ (Les Désordres de l’amour мадам де Вильдье (1675–1676): Любовное смятение? Любовные неурядицы? Любовные ссоры?). Не обошлось и без разночтения в написании имен: можно встретить Джейн Остин и Остен; Лазаря и Ласарильо (того, что „с Тормеса“), Каллирое и Каллирою (героиня романа); имя манновского персонажа (Нафта) то склоняется, то нет. Ясно, что для 400-страничного текста это капля в море, но как раз потому, что использовать его могут как учебник по истории романа, хорошо бы (при переиздании?) устранить подобные шероховатости.
Книга Томы Павела принадлежит к разряду тех, на которые редко решаются сегодня литературоведы — к типологии жанра. Такой подход требует острого взгляда, знания труднообозримой фактуры и больших обобщений. В „эру подозрения“ страхи и сомнения теоретиков оправданны. Хорошо, что кто-то их преодолевает.

