Зачем читать Зигфрида Кракауэра сегодня?
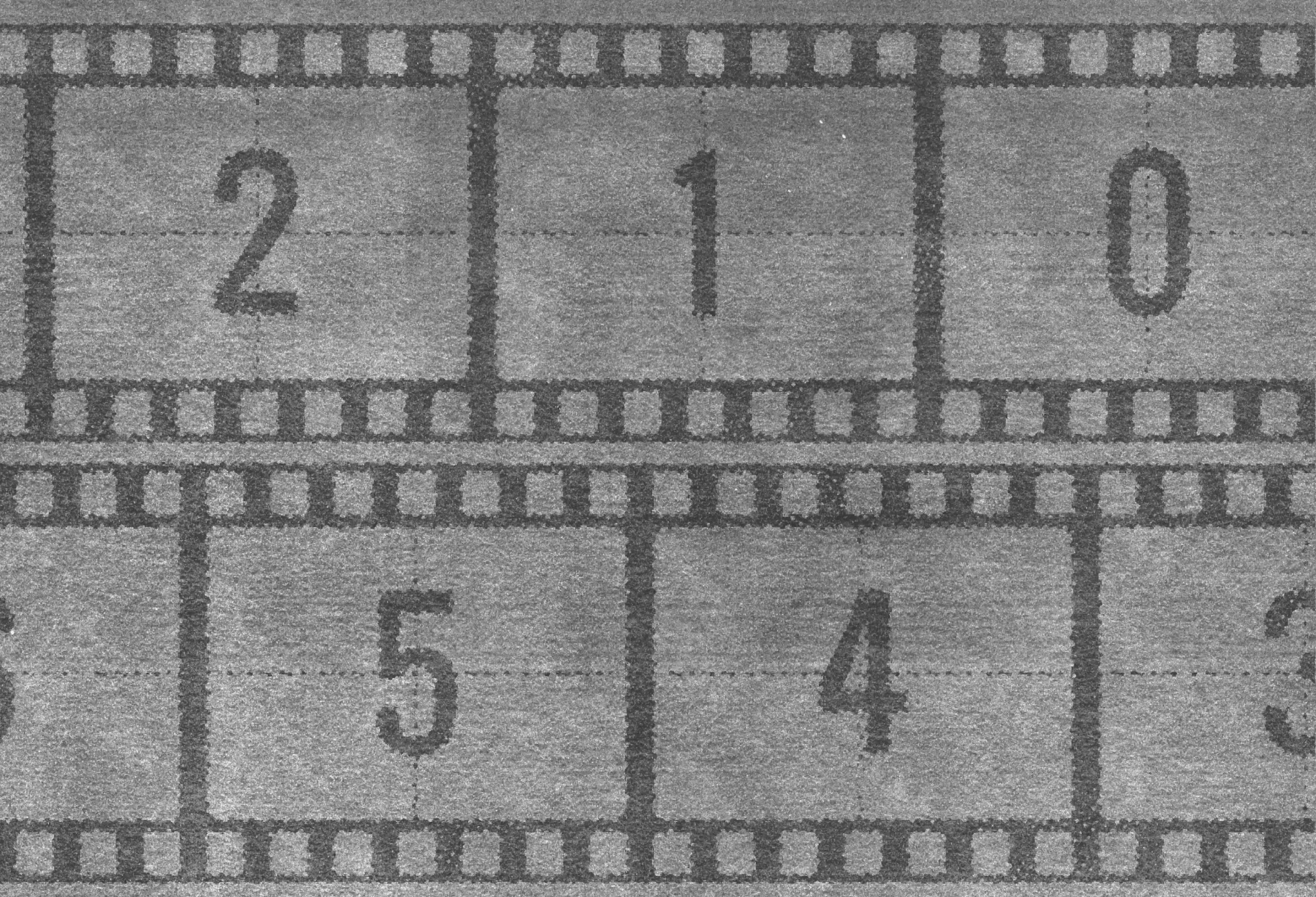
В этом году в нашем издательстве вышли две книги немецкого теоретика культуры и исследователя кино Зигфрида Кракауэра — «Орнамент массы. Веймарские эссе» и «Теория кино. Реабилитация физической реальности», до сих пор, как и многие другие работы немецкого культуролога, не нашедшие критической рефлексии на постсоветском пространстве. В этой статье Ольга Улыбышева, Анна Ганжа, Елена Петровская и Анатолий Корчинский рассуждают об актуальности, истоках и специфике интеллектуального наследия Кракауэра, его судьбе в советское и постсоветское время и почему на сегодняшний день идеи Кракауэра все еще остаются непроницаемыми для широкого читателя.

Русскоязычному читателю еще только предстоит открыть для себя Зигфрида Кракауэра, хотя многим из тех, кто интересуется историей кино, знакомы книги «От Калигари до Гитлера» и «Природа фильма» («Теория кино» в новом издании). При этом от старших коллег я слышала, что Кракауэр казался им, с одной стороны, ученым-сухарем, типичным немцем, а с другой — наивным реалистом. Книги Кракауэра о кино считаются абсолютной классикой, но этот ярлык во многом препятствует свежему восприятию, как и неполнота советских переводов.
Основное отличие нового издания «Теории кино» в том, что в нем без сокращений приведена последняя глава «Кино в наше время». Само название эпилога свидетельствует о желании Кракауэра придать своей теории актуальное измерение. Интересно, что за десять лет до того, как последнюю главу сократили в советском издании 1974 года, ее пытались исключить из первого немецкоязычного издания — и ни кто-нибудь, а легендарный издатель, глава «Зуркампа» Зигфрид Унзельд и Теодор Адорно. Справедливости ради нужно отметить, что Кракауэра не всегда понимали и близкие друзья, включая Адорно, но на включении в немецкое издание эпилога как отправного пункта своей теории он настоял. (Нужно напомнить, что его книги о кино были написаны в Америке на английском языке).
Что же представляет собой эпилог «Теории кино»? В нем Кракауэр-эстетик превращается в этика и задается вопросом о значении кино в мире, где произошла катастрофа. Кракауэр, которому удалось покинуть Германию и спастись, размышляет о том, как благодаря опыту, который дает нам кино, сохранить в себе человеческое.
Кажется удивительным, что последнюю главу «Теории кино» написал тот же автор, что на протяжении предшествующих страниц последовательно и наукообразно раскладывал кино на различные сферы, элементы и тенденции. Но если вспомнить предисловие, с которого начинается эта книга — Кракауэр воспроизводит свою личную, связанную с кино первосцену, когда он впервые увидел «обычную улицу пригорода» и «пятна света и теней» на экране: «Я увидел наш мир дрожащим в грязной луже, — эта картина до сих пор не выходит из моей памяти». Или вот еще одно воспоминание о давно увиденном фильме — на этот раз Кракауэр цитирует Блеза Сандрара: «На экране показывали толпу, и в этой толпе мальчика с шапкой под мышкой: вдруг его шапка… не двигаясь, зажила интенсивной жизнью; я почувствовал, что она вся собралась для прыжка, словно леопард! Почему? Я сам не знаю». Может быть, для Кракауэра эти воспоминания-сны о фильмах и есть самое важное.
Всю его теорию (можно ли назвать ее и феноменологией кино?) пронизывает «мелкий град маленьких моментов действительной жизни» (цитата из Белы Балажа), которые застревают в памяти и придают этому тексту особое очарование.
Сборник «Орнамент массы», включающий в себя эссе 1920–1931 годов, позволяет проследить эволюцию идей Кракауэра. Для него кино — порождение и продолжение медиума фотографии. Теория кино и теория истории Кракауэра вырастают из эссе «Фотография» (1927), а истоки знаменитой психологической истории немецкого кино «От Калигари до Гитлера» обнаруживаются уже в тексте «Маленькие ларечницы идут в кино» (1928).
Кракауэр актуален постольку, поскольку изначально старомоден и вне времени. В его текстах много противоречий и парадоксов, их можно читать по-разному. Идеи Кракауэра находили отклик у молодежи — в 1960-е годы у Йонаса Мекаса и американских авангардистов, в 1980-е у немецких кинотеоретиков-феминисток Хайде Шлюпман, Гертруды Кох и Мириам Хансен. Разумеется, сам он к гендерной проблематике не обращался, но, может быть, в отличие от male gaze в его взгляде чувствуется какая-то особая универсальность?
Примеры того, как современные исследователи используют идеи Кракауэра для анализа фильмов и медиакультуры, можно найти, например, в сборнике «Im Sinne der Materialität — Film und Gesellschaft nach Siegfried Kracauer» (2022). И, конечно, «От Калигари до Гитлера» предлагает готовую методологическую рамку, которая более чем применима и к российскому кино.
Кракауэр, в бытность репортером написавший огромное количество кинорецензий, считал, что «настоящий кинокритик — всегда критик общества». Больше всего его интересовали общественные феномены, отдельные люди и их жизнь (с каким интересом и уважением цитирует он обыкновенных стенографисток в замечательной не утратившей актуальности социологической работе «Служащие» (1930)! Культура в ее многообразии — будь то фотография, кино, цирк — для Кракауэра способ приблизиться к реальности, которая нас окружает и от нас ускользает. Репортаж 1923 года о цирке для газеты «Франкфуртер Цайтунг» он заканчивает пассажем: «Реальность смешивается с нереальным, и ты уже не понимаешь, то ли жизнь — это цирк, то ли цирк — это жизнь. И потом бредешь домой по темным улицам из чужого мира в столь же чужой мир». Мне кажется, что сейчас, спустя сто лет, мы это чувствуем.

Кракауэр сейчас по-прежнему, как и 10 лет назад, входит в число важного содержимого модных дамских, а скорее даже девичьих, сумочек, никогда не попадается в буккроссингах, что подчеркивает его роль важного аксессуара интеллектуальной жизни, включен в программы социально-гуманитарных курсов по истории и теории кино, театра, фотографии, упоминается при обзоре критических теорий внутри университетских курсов, является предметом самодеятельных ридингов, всегда имеется в комплектации хороших библиотек, мигрируя из одного отдела в другой, в зависимости от политической ситуации.
Кракауэра иногда неправильно понимают — расширительно или же буквально, и мало кто знает его точное место в сложной констелляции теорий круга Беньямина, Адорно и Хоркхаймера. В привлекательном жанре «диагноз нашему времени» его, как и полагается, воспринимают в качестве «своего» в том числе и чуждые ему по духу исследователи и спикеры — общества аномичных моралистов более других тяготеют к потреблению таких текстов, примеривая на себя функции такого диагноста.
Переводы с немецкого традиционно имеют в России особое значение, производя «пересборку» русского языка, особенно в отдалении от мегаполисов и университетских центров, где вязкость деполитизированной повседневности тормозит мысль и дыхание самой жизни. Из-за специфики биографии и наследия Кракауэра нам остались в наследство от него особые тексты, прагматика которых считывается как «киноведческая». Надо честно признать, что тематизации, применяемые к анализу культуры Адорно, Беньямином, Кракауэром и Р. Бартом — четверки-локомотива российской интеллектуальной жизни — имеют фатальное и непреложное значение для всех тех исследователей и литераторов, которые быстро попадают под их эссеистически-аналитическое обаяние.
Мы говорим об орнаментальности культуры-природы на языке буржуазной критики Кракауэра и Барта, используем паратаксис по отношению к негативному на языке Кракауэра и Адорно, фиксируемся на феноменах медиа и модернистской литературы на языке Кракауэра и Беньямина. Иногда кажется, что Кракауэр занимает место облегченной версии любимого позднесоветской публикой Ницше, дающего своими горькими и едкими определениями и диагнозами утешение прекариатным одиночкам офисного и домашнего труда. Но есть и другая сторона Кракауэра, обрисовывающая его значение иным образом. Кракауэр мыслит одновременно масштабно и предметно — это видно и по его единичным наблюдениям над кино и фотографией, и по эссе, посвященным Кафке, Беньямину или Зиммелю. Благодаря этой удерживаемой масштабности Кракауэру удается обтекать ничтожность и малозначительность происходящего вокруг, искать единственно верный ракурс для оценки текущих событий, не идти на поводу у подтасовываемых очевидностей и предъявляемых пропагандой «фактов». Поразительным образом каждый раз оказывается, что в «Орнаменте массы» разные по глубине набору интересов исследователи — включая, разумеется, и будущих — находят «свое» в дурно пахнущих орнаментах, занятых непрерывной работой выхолащивания под предлогом устроения красоты мира, демонстрации единства или слаженности общественных механизмов.
Спустя 60-80 лет хорошо видно, что располагая весьма скудным и изменчивым культурным материалом, Кракауэр изобрел свои способы интенсивной выжимки обобщающих заключений из медиапроцессов и вестей с культурных фронтов. В условиях информационно-интеллектуальной скудости здесь есть чему поучиться, — меланхолия и опасность таких времен, на примере Кракауэра, не только не препятствует анализу происходящего, но и служит некоторым утешением. Лакуны пределов мыслимого, которые делают русский язык не всегда пригодным к передаче метафизического, заполняются кракауэровскими отсылками к непостижимому, случайному, незавершенному, абстрактному, действительному и невместимому, давая нам возможность такому прорыву в это непостижимое, случайное и незавершенное, которое позволяет избегнуть крайностей немоты и хождения проторенными путями гегелевски-марксистских философско-языковых тотальностей.

Зачем сегодня читать Кракауэра и какими путями это можно делать? В чем уникальность феномена теории культуры Кракауэра в контексте его времени и возможно ли применение его исследовательской оптики к современной культурной ситуации?
Я придерживаюсь очень простого соображения о том, что читать нужно, руководствуясь своим интересом. Возможно, кто-то имеет в голове или на бумаге список книг, подлежащих прочтению, и Кракауэр занимает одну из строк в этом списке. Такой подход тоже возможен, хотя и кажется мне менее продуктивным (в более долгосрочной перспективе). Например, вы интересуетесь фотографией. И читаете у Кракауэра о том, насколько бездушен объектив и бессилен по сравнению с памятью, ибо только она, память, способна хранить монограмму индивидуальной жизни, читай удерживать саму ее неповторимость. Но посмотрите на это с другой стороны. Со стороны той самой камеры. Она «вычитает» неповторимое, зато передает пространственный континуум, который в интерпретации Кракауэра имеет явно отрицательный оттенок. Я думаю, что это интересная мысль, но мы должны отвлечься от оценок. В самом деле, материя предстает на фотографии нерасчлененной, и только наша привычка улавливать фигуры (различать) заставляет нас выделять что-либо, обособляя его, то есть индивидуализируя. Но сегодня мир предельно деиндивидулизирован, в самом нейтральном смысле этого слова, и нам нужно научиться обнаруживать связи, а не задерживаться на отдельных фигурах. Как ни странно, но и при таком подходе Кракауэр способен нам помочь.
Представление о том, что эпоха может больше сообщить о себе с помощью наглядных образов, чем посредством аргументов и суждений, высказываемых ею о самой себе, является, бесспорно, революционным. Собственно, массовые спортивные праздники и даже танцовщицы варьете способны, по Кракауэру, представить логику массовых обществ куда нагляднее, чем она фиксируется в привычных дискурсивных построениях. Эта проявленность равносильна разоблачению, понимаемому уже как открытая социальная критика. Для Кракауэра, внимательного к изменению ритма самого культурного ландшафта, политика и экономика буквально выходят на поверхность, и уже не нужно прибегать к абстрактным процедурам, чтобы разобраться с механикой капиталистического производства. Возможно, это перекликается и с подходом Беньямина, для которого теория была неотделима от конкретного материала, хотя сам Кракауэр, замечу, толкует его скорее в платоническом ключе (для чего, конечно, имеются все основания). Вопрос: в какой мере мы можем руководствоваться этим подходом сегодня?
Боюсь, что та комбинация политики и экономики, которую застает Кракауэр в Германии конца 1920-х — начала 1930-х годов, является фактом истории прошлого. Да и сама масса, признаться, претерпела значительные изменения. Ее концептуализацией на рубеже тысячелетий, как известно, является «множество», а проще, та спинозианская толпа (multitudo, «народные массы»), о какой мы узнаём не столько по ее фигурациям, сколько по траектории ее прямого действия. Антонио Негри предлагает видеть в ней ни больше ни меньше как динамику самой социальной борьбы, а это уже нельзя передать серией изображений, в которых всегда преобладает «риторика образа». Собственно, мы оказываемся на стороне того самого пространственного континуума, который и представляется Кракауэру столь враждебным каким-либо проявлениям индивидуального. Только надо понимать, что в таком континууме действуют силы, и они-то и образуют различные сцепления. Момент кристаллизации — вот, наверное, то, что должно занимать нас сегодня. Не столько сам повторяемый «орнамент», с которым хорошо разобрался Кракауэр, сколько то, к чему он был скорее равнодушен, а именно сдвиги, следы изменчивых конфигураций (возможно, того же сочетания политики и экономики). Орнаментальность уступает место хаосу — так может показаться, если по-прежнему доверять одним лишь поверхностным эффектам. Вопрос в том, чтобы понять, как именно устроен этот хаос. А для этого нам потребуется уже другой аналитический инструментарий. Своим творчеством Кракауэр как раз и побуждает к смелому и неортодоксальному поиску такого рода средств.

Чтение Кракауэра как бы само собой встраивается в рефлексию о современности. Во-первых, потому, что его мысль предельно внимательна к текущему моменту. Во-вторых, в своей собственной эпохе он замечает такие тенденции, которые из прошлого, восходящего к истокам модерна, ведут в будущее — к тем вопросам, которыми будем задаваться мы, его потомки. Это и вопросы о трансформации человеческого опыта под влиянием технологий, об отчуждении и симуляции как значимой части этого опыта, о статусе материального в культуре, о бюрократии, туризме, моде, потреблении печатной и визуальной продукции и т. п. Наверное, у него можно найти много созвучного Барту, Деррида, Делёзу, Латуру или Грэму Харману.
Но само такое чтение базируется на равнодушном к деталям историзме, для которого время и наполняющие его явления и события образуют искусственную непрерывность. Как и — чуть позже — Вальтер Беньямин, Кракауэр к такого рода историзму настроен весьма критически. И, по-моему, именно в его аналитике истории и влияющих на саму историческую реальность способов её репрезентации заключается сегодня актуальность его мысли. Кракауэр, опережая туго набитое событиями время, говорит о памяти и историческом повествовании, о «практическом» измерении истории, об озабоченности современной культуры своим прошлым и её зацикленности на настоящем.
Интересно, что Кракауэр мыслит историю исключительно в связи с технологическим воображаемым модерна. Возникшее почти одновременно с фотоискусством, историческое мышление как стремление объяснить любое явление, «лишь заглянув в корень его основания», равнозначно «фотографии времени». А выстроив «непрерывную цепочку событий в их временной последовательности, можно ухватить историческую действительность», тем самым создав «монументальный фильм». При том, что в своей теории фильма Кракауэр настаивает на возможности фото- и кинофиксации материальной реальности во всём её часто неожиданном многообразии, применение такого подхода к истории он считает как минимум недостаточным. «Монументальный фильм» историзма неизбежно будет подобен «пустому гомогенному времени» (как это чуть позже назовёт Беньямин) которому пытаются придать смысл в интересах оправдания господствующего порядка. Но смысл и «истина» истории, по Кракауэру, раскрывается совсем иначе. Это — прерогатива памяти и художественного воображения. «Волшебное зеркало» воспоминания, в отличие от механического ряда фотографических «фактов», воссоздаёт прошлое прихотливо, оценочно, непоследовательно, допуская множество лакун. Но именно в таком синтезе достигается истина и смысл: «Дабы проступила история, необходимо разрушить поверхностный контекст, предлагаемый фотографией». Как и впоследствии у Беньямина, эта истина истории схватывается не столько в заполняющем временной континуум нарративе, а в «монограмме», мгновенном образе, «последнем портрете» эпохи и человека.
Однако письмо и мысль Кракауэра далека от консервативно-романтической ностальгии по утраченной «ауре» художественности. Она диалектична: поскольку сегодня нас окружают исключительно технически воспроизводимые галлюцинаторные слепки с почти недоступной реальности, то именно в их призрачном мерцании и надлежит увидеть истину истории, хотя бы потому, что их «призрачная реальность неизбывна», а «место, какое каждая эпоха занимает в историческом процессе, можно определить гораздо точнее, если проанализировать… неприметные явления на ее поверхности».
Материал подготовил Даниил Воронов.

