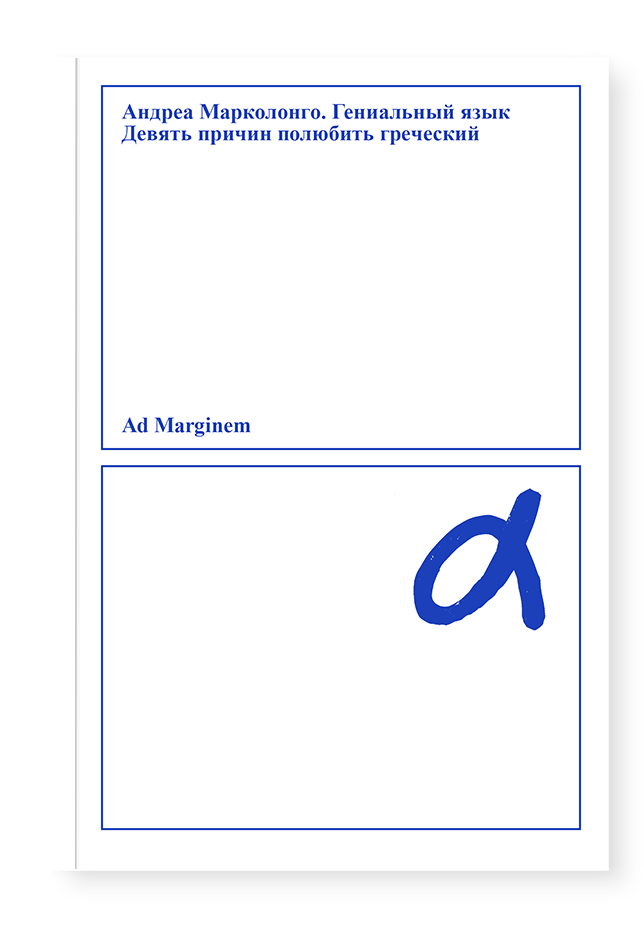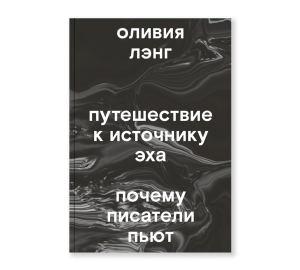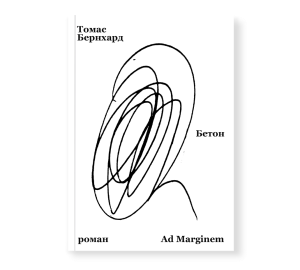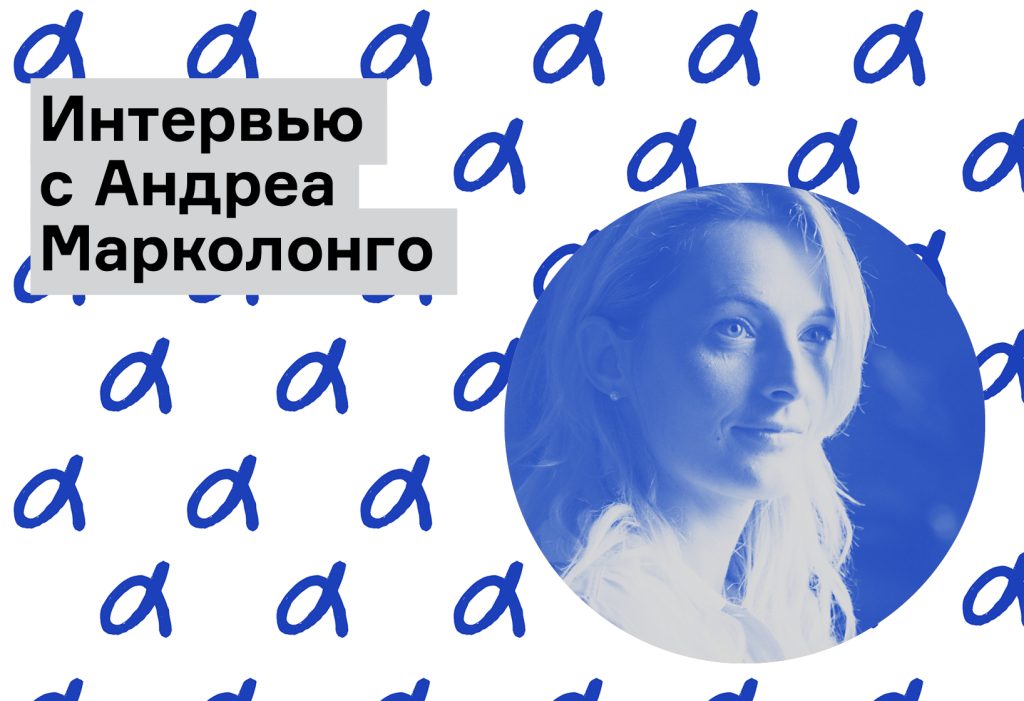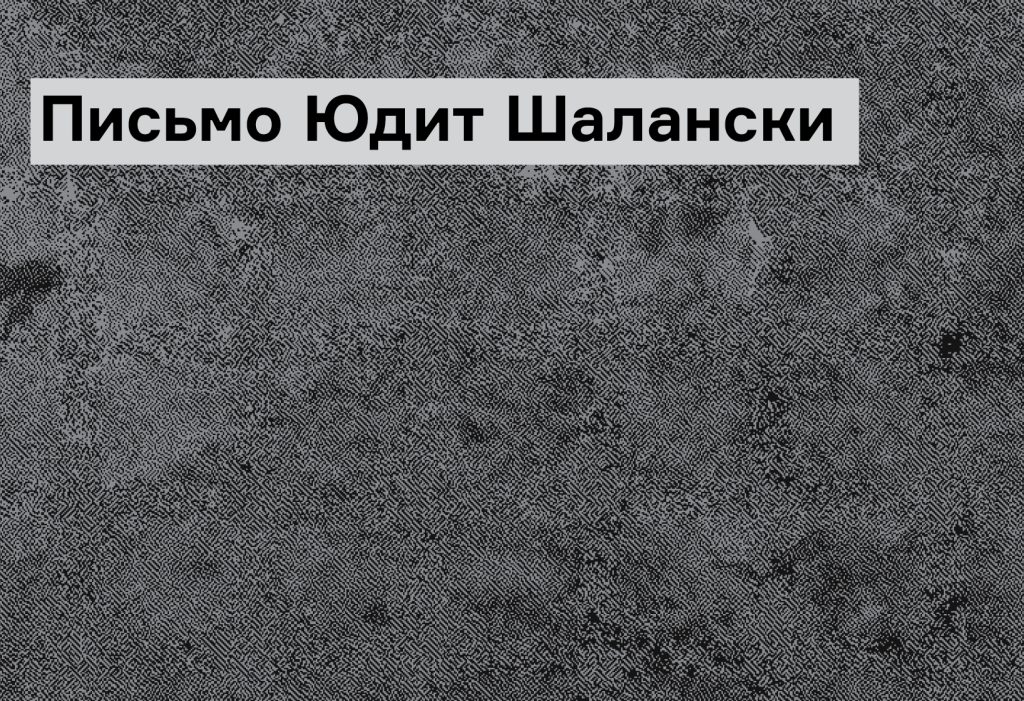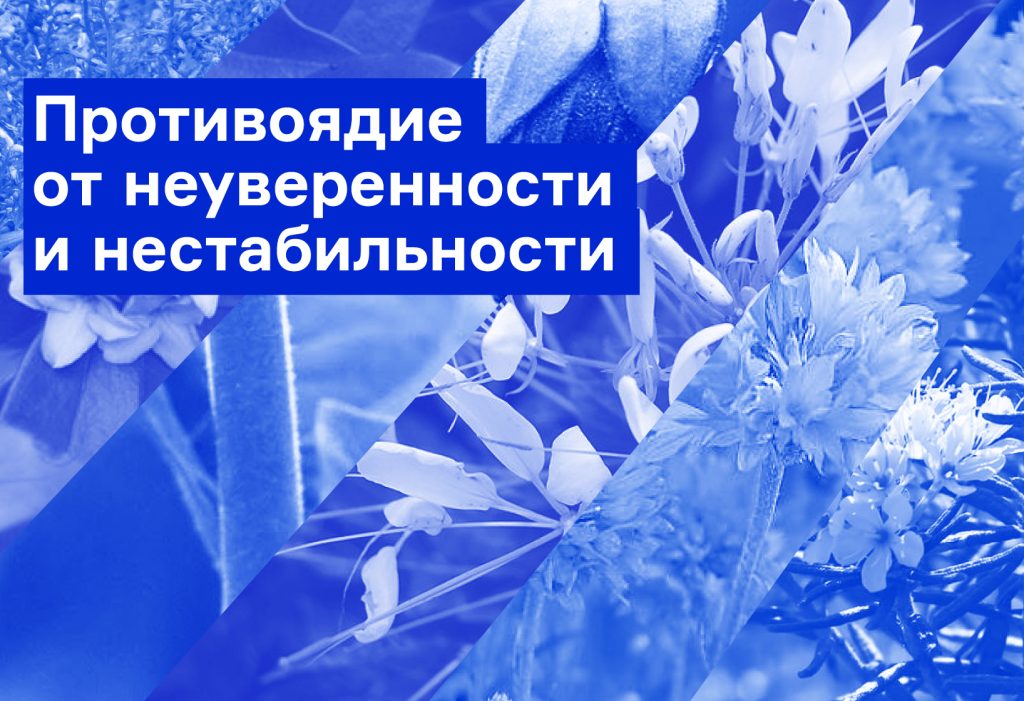Я бегаю, чтобы писать, и пишу, чтобы бегать

Андреа Марколонго — итальянская писательница, которую Андре Асиман назвал «современным Монтенем». Ее книга «Гениальный язык», посвященная древнегреческому, — вовсе не учебник, а чувственное признание в любви неуловимому, непереводимому и исчезнувшему языку.
Весной 2022 года на LITHUB вышло эссе, в котором Марколонго размышляет о том, что дает ей бег, как он связан с творчеством и почему бег — одновременно форма трусости и попытка справиться со страхом смерти. Публикуем текст писательницы в переводе Анастасии Суслопаровой.

За свои тридцать пять лет жизни, помимо моей матери, было только два явления, которые привели меня в этот мир. Два явления, которые не столько изменили мою жизнь, сколько, если можно так выразиться, помогли ее понять и, в конечном итоге, научили жить по-настоящему.
Первым был древнегреческий язык, с которым я столкнулась в классическом лицее, когда мне было четырнадцать.
Вторым — бегун, которого я встретила три года назад в конце лета на берегу Сены.
Об этом втором открытии — а на самом деле, прозрении — я и хочу поговорить. О языке Древней Греции я уже написала более чем достаточно и не вижу смысла добавлять что-то еще; и если в этом тексте я снова о нем говорю, то не для того, чтобы заставить читателя страдать, а чтобы помочь самой себе лучше понять и обдумать этот вопрос, поскольку я надеюсь, что сравнение прольет свет на мое отношение к бегу. Сейчас же я могу описать его одним словом: растерянность.
Ничего. Именно столько я знала о беге — или тренировках, или джоггинге, называйте, как хотите, — когда впервые надела беговые кроссовки. Абсолютный ноль. И если не считать нескольких ничем не запомнившихся попыток, то же самое можно сказать и о моем личном опыте в той параллельной вселенной, которую мы называем спортом. Что же касается опосредованного опыта, пассивного зрительского удовольствия от спортивных соревнований, я могу похвастаться чуть большим пониманием, но, за исключением любопытства к футболу (столь же непостоянного, сколь и волевого), которое пару раз заставило меня сходить на стадион, это было то общее, универсальное чувство облагороженности и благоговения, которое охватывает нас, когда мы наблюдаем за человеческим телом в движении, сидя на диване или трибунах.
И тут мы подходим к первому, неожиданному аспекту сходства между бегом и путем, который однажды привел меня к словарю древнегреческого: до знакомства с ними я совершенно ничего не знала ни о том, ни о другом. Хуже того, тогда я едва ли подозревала, что древнегреческий и бег вообще заслуживают заметного места в моем унылом существовании.
Для ясности: в моем непритязательном детстве и семье не только не было любителей древнегреческого, но не было и ни одного, пусть дальнего, родственника, окончившего классический лицей. В моем детстве нет ничего особенно диккенсовского, просто так уж оно и было. Вот почему так важны государственные школы. Странно, но мне только сейчас пришло в голову, что точно так же, как в моей семье не было гуманитариев, не было в ней и спортсменов. Если не считать обязательного велосипеда, который мне подарили приблизительно в восемь лет, я не припомню никакого спортивного снаряжения в нашем доме, и мне не приходило в голову его просить.
Каким-то образом два этих открытия я совершила независимо друг от друга, скромным новаторским способом. В обоих случаях мне выпало обнаружить их там, где раньше была terra incognita.
Единственное — хоть и немаловажное — отличие состоит в том, что когда мне взбрело в голову выучить греческий алфавит, за спиной у меня сквозил ветерок, как у всякого, кто недавно выбрался из пеленок. А когда я впервые надела беговые кроссовки, этот ветер уже был готов утихнуть навсегда.
Как бы то ни было, результат этих двух открытий одинаков: несмотря на мое рвение и решимость, я остаюсь дилетантом в обеих областях. К тридцати пяти годам я не могу похвастаться ни докторской степенью по классической филологии, ни медалями, которые свидетельствовали бы о финишных линиях, через которые меня пронесли ноги. Годами я во всеуслышание заявляла о своей любви и преданности, пока не выдохлась, но на обоих поприщах — и в греческом, и в беге — я все еще не достигла ни профессиональных, ни соревновательных показателей.
Говоря откровенно и со всей строгостью на грани жестокости, с которой я склонна оценивать свои достижения, я понимаю, что мою предрасположенность к дилетантизму нельзя приписать слабости или лени — во всяком случае, не только им. Это скорее следствие профессии, которую я выбрала, — то есть писательства. Когда что-нибудь увлекает меня по-настоящему, я почти никогда не довожу это до конца из какой-то извращенной потребности бросать дела на полпути, так что я корю себя за смутное понимание вопроса, но в то же время получаю удовольствие, когда пишу о нем.
Дело не в том, что мне не хватает знания древнегреческого или силы в икрах. И не думаю, что я когда-либо, как Платон пишет о спорте, уклонялась от войны или битвы — по крайней мере, личного плана. Но должна признать, что никогда не написала бы книжку о греческой грамматике, если б у меня достало смелости стать профессором, и никогда ничего не написала бы о беге, пробеги я марафон.
Вот почему я бегаю и пишу: чтобы оттянуть завершение дела. Еще одна форма трусости.
* * *
Тщательно планируя ежедневные тренировки, которые, надеюсь, приведут меня к первому марафону, я, к своему потрясению, осознала, что нетвердо понимаю, зачем вообще все последние несколько лет я снова и снова шнуровала свои беговые кроссовки.
Если писательство для меня — это тяга, навязчивая потребность понять, и я не знаю других способов разобраться в вопросе, кроме как выстраивать в ряд слова, превращающиеся затем в предложения, главы и, наконец, в книгу, то в случае с бегом я все-таки не уверена, появляется ли он в жизни так же естественно.
Но однажды, когда я задумалась более глубоко об очевидном отсутствии у меня веских причин заниматься бегом, стало понятно, что бег как-то связан с моим страхом старения.
Думаю, я наконец-то поняла, что продолжаю бегать, потому что это самый конкретный и эффективный способ почувствовать себя живой — по крайней мере, единственный известный мне способ.
Я знаю разные занятия, чтобы доказать себе, что жива, не только биологически, но и в целом — эмоционально, физически, духовно — и большинство из них приятные: влюбленность, поход на выставку, хорошая книга, белое вино летом на балконе, запах свежего снега. И все-таки, сколь бы возвышенными ни были эти занятия, они не заставляют мое сердце выпрыгивать из груди. Они делают меня счастливой, но не ускоряют мое сердцебиение.
В целом я не любитель мимолетных ощущений, заставляющих колотиться сердце и провоцирующих выброс адреналина — будь то экстремальный спорт, наркотики или фильмы ужасов. Это не мое. Таким образом, автоматически и, может быть, еще из-за трусости остается единственное занятие, которое я знаю и регулярно выполняю, чтобы заставить свое сердце биться быстрее обычного. Это занятие, иначе известное как метафорический перерыв от жизни, — бег.
Однако когда я бегу, я не беру перерыв от жизни; я живу.
Я чувствую это с точностью и определенностью, которые до бега были мне совершенно не знакомы и которые не способна дать даже самая возвышенная умственная деятельность.
Инстинкт жизни, который я ощущаю, когда бегу, не продукт деятельности мозга, не исключительно умственный или поэтический феномен. Это не (зачастую горький) плод моих размышлений. Когда я бегу, я живу и делаю то, что запрограммирована делать: двигаюсь и довожу свое тело до максимального физического потенциала. Это состояние объективно, поддается наблюдению и легко измеряется научными методами.
Кровь, пульсирующая в венах и висках, стук сердца, внезапно слышимый, почти хриплый — все это волшебным образом синхронизируется с ударами ног по тротуару, с мышцами, которые разогреваются, поначалу сопротивляясь, а затем радостно поддаваясь. Всё совершает работу, для которой создано; бегая, мое тело выполняет все до единой чудесные функции, ради которых существует, — и не более того.
Каждый раз, когда я иду на пробежку, короткую или длинную, мое тело и, каким-то чудом, голова тоже (вот что бегуны имеют в виду, когда говорят о «ментальном здоровье») — делают все возможное, чтобы достичь одной цели: жить на полную или, по крайней мере, гораздо полнее, чем позволено моему телу, когда его усаживают в кресло. Сердце бьется как можно быстрее; мышцы сокращаются как можно интенсивнее; сердечно-сосудистая система качает кровь как можно сильнее; мозг, свободный от отвлеченных рассуждений, все координирует; легкие обменивают углекислый газ на кислород. Все тело выполняет долг, к которому взывает ДНК в каждой клетке. Ни движением больше, ни движением меньше — таким образом, работает все.
Благодаря этому биологическому и эмоциональному ощущению единства во время бега, вы в кои-то веки живете, в кои-то веки цельны.
Иногда даже бессмертны.
Бег для меня — лучшее противоядие от страха смерти. Это осязаемое доказательство, печать, которая подтверждает, что на сегодняшний день и, по крайней мере, до завтра я все еще в добром здравии, все еще жива.
* * *
С тех пор, как мне впервые пришла в голову идея написать о беге, несомненным оказалось одно: он начал превращаться в бремя. Бег стал нравиться мне все меньше, а нуждаюсь я в нем все больше.
Он как будто просочился во все сферы моей жизни, и я больше не могу этого выносить. Дело не только в том, что он проник во все мои разговоры, мои друзья постоянно спрашивают меня об афинском марафоне, и я только и делаю, что читаю книги и статьи о беге. Что хуже всего, бег стал мешать мне писать — и наоборот; и я не знаю, как разорвать этот изматывающий порочный круг.
Если я выхожу на пробежку, то только для того, чтобы подумать о беге и затем написать о нем. После того, как я о нем напишу, у меня не остается энергии, и мне нужно идти на следующую пробежку, чтобы найти вдохновение для текста, над которым работаю. Когда-то бег был моим спасением от обязательств и мыслей, свободой, которую я никогда ни с кем не делила; а сейчас улица стала моим блокнотом, куда я записываю идеи, которыми потом поделюсь с читателями.
Бывают дни — например, как сегодня утром, — когда американский акцент моего коуча по осознанности, доносящийся из наушников, делает свое дело, и я возвращаюсь домой окрыленной, приободренной, готовой сесть и снова писать. А затем случаются дни, когда мне хочется выбросить и подкаст с его дзенской мудростью, и все, что я пишу, в Сену.
Мое беспокойство, судя по всему, — следствие неопытности. Никогда еще я не была так свободна в тексте, так открыта, так далека от моих предыдущих текстов, а ведь я пока даже не пробежала марафон. В самые мрачные минуты я раздумываю между мечтой бросить писать, когда закончу этот текст, перестать бегать или сделать и то, и другое.
Пока, мне кажется, я все же неплохо справляюсь. Выхожу на пробежку, чтобы писать, и пишу, чтобы бегать. Это звучит смешно, но такова моя жизнь сейчас, и, как и все, я делаю всё возможное, чтобы удержать это равновесие.