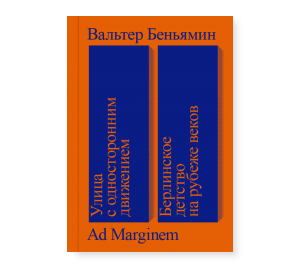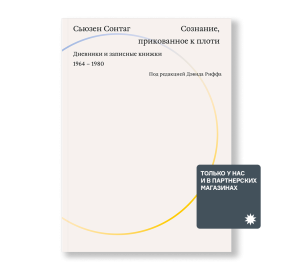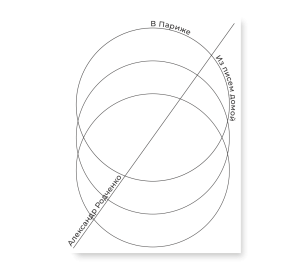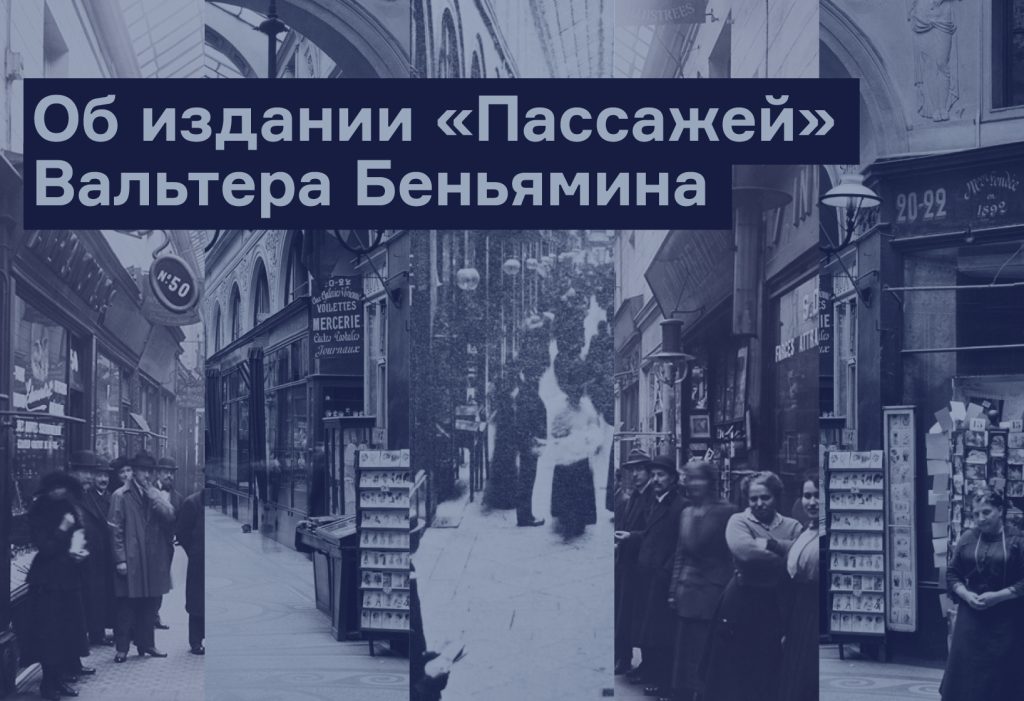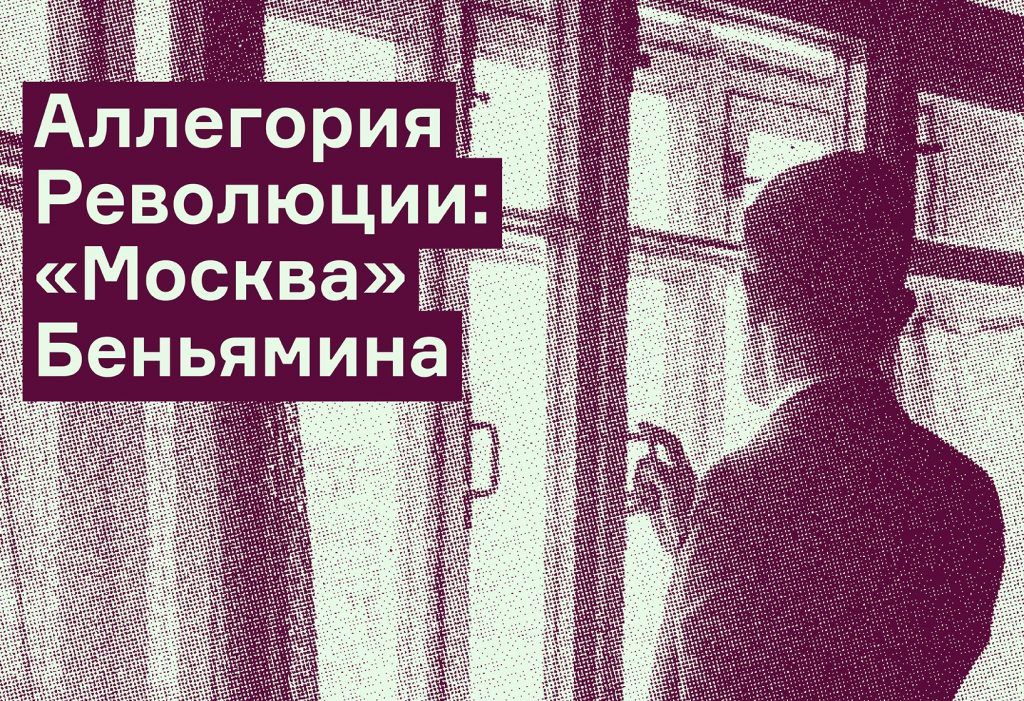Политический театр Аси Лацис

Важная сюжетная линия «Московского дневника» Вальтера Беньямина, переизданного нами в новой обложке, — отношения философа с театральной режиссеркой и актрисей Асей Лацис. Ее личность часто оценивают, опираясь на текст Беньямина, из-за чего Ася (или Анна Эрнестовна) представляется эгоистичной «роковой музой».
В реальности Лацис и ее отношения с Беньямином более неоднозначны, чем в «Московском дневнике». Анна Эрнестова сыграла важную роль в становлении театра и его социальной и политической функций, а еще — в формировании взглядов самого Беньямина: именно она познакомила его с левой теорией. По просьбе Ad Marginem филолог Анна Нижник рассказывает о том, какой была Ася на самом деле.

Об Анне Эрнестовне Лацис обычно говорят в контексте ее запутанного романа с Вальтером Беньямином, хотя публикации последних лет, в том числе мое послесловие к воспоминаниям Лацис «Красная гвоздика», ставили целью освободить латышскую режиссерку, актрису и коммунистку от амплуа «роковой музы». История хорошо известна: в 1924 году на Капри Лацис пытается в магазине купить миндаль, но не знает итальянского, Беньямин выступает галантным переводчиком, дальше — несколько лет мучительного для него романа, бывшего, по всей видимости, в большей степени плодом фантазии и источником меланхолического вдохновения для философа, чем действительным партнерством. Идеальная картина мерцающей привязанности невротизированного интеллектуала, вечная «нехватка», которая прекрасно уложилась в декорации разодранной послевоенной Европы и послереволюционной России, обросла мифами: отчасти благодаря самому Беньямину, закодировавшему свое эротическое бессознательное в «Улице с односторонним движением», посвященной Лацис, а потом и в более детализированном «Московском дневнике», отчасти благодаря его мемуаристам. В частности, Гершому Шолему, обрушившему на Лацис горький скепсис человека, наблюдавшего, как его друг вязнет в болезненных отношениях, и разочарование еврейского мистика и анархиста, который видел, как его единомышленник поворачивается в сторону марксизма (впрочем, сохранившего у Беньямина изрядную долю профетического пафоса).
Беньямин прекрасно вписывается в миф об интеллектуале, который вместо почтенной академической карьеры избирает окольные пути и черпает вдохновение в своих травмах, «тусовках», путешествиях, «озарениях», «ауре», а не в университетских силлабусах. Противопоставление жизни души и жизни разума, приватного и публичного неизменно вписывается в сюжет, где личные потрясения влияют на стиль письма и мышления. Лацис была таким «потрясением», и в этом смысле она следовала очевидной стратегии политических активисток: использовать эротическое напряжение, чтобы продвигать свою повестку. Под ее «влиянием» Беньямин начинает изучать Лукача, размышляет, не вступить ли в Коммунистическую партию Германии, публицистически «заостряет» свои тексты, прежде бывшие более туманными и метафизическими. Когда в «Красной гвоздике» Лацис пишет о нем, можно видеть, как она занимает позицию учительницы, наставляющей «беспризорника», увещевает, что читать одного Лукача недостаточно, и удовлетворенно замечает, что «перевоспитание» удалось: «Наши беседы и споры оказались небесполезными. Когда позже мы встретились снова — это было в Берлине — Вальтер сказал, что читает Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова… Его увлекли положения теоретиков исторического и диалектического материализма» 1. Именно это — в отличие от сексуального подтекста, который явственен в «Московском дневнике» и «Улице с односторонним движением» — оправдывает для Лацис отношения с Беньямином.
Жестокость Лацис стала общим местом в рассуждениях о страданиях немецкого мыслителя. Впрочем, как обнаружил латвийский историк Янис Тауренс 2, отчасти — это типичная для Беньямина двусмысленность. Фраза из «Московского дневника» «но я не знаю, способен ли я даже сегодня на жизнь с ней, жизнь суровую, при ее — несмотря на все очарование — бессердечии» 3 может считываться, так, что будто бы характеризует черствость. Так Лацис превращается в Москву, а Москва — в Лацис, и это закономерно, учитывая, как напряженно в эту эпоху устанавливалась связь между материей и духом, субъектами и предметами. Сам Беньямин пишет во «фрагменте о морщинках» из «Улицы с односторонним движением»: «ощущения спасаются в тени морщин, в нелепых жестах и неприметных изъянах любимого тела, куда они забираются, как в безопасное убежище». Это укладывалось в своеобразную одержимость Беньямина «вещами», которая прослеживается еще в «Происхождении немецкой барочной драмы»: «интенция печали рождена верностью миру вещей» 4. В «Московском дневнике» Россия постигается в том числе через бутафорию: матрешек, бумажные цветы, дымковские игрушки, предметы народных промыслов, а любовь к Лацис — через подарки: блузки, брюки, платья, книги — карусель деталей, которая показывает реально существовавшее отчуждение.
Очевидно, что Лацис и Беньямина связывал интерес к театру, хотя немецкая барочная и романтическая драма — явление, далекое от концепции «театра как такового», которую разрабатывал Евреинов и которой увлекалась Лацис. Она занималась в театральной студии Комиссаржевского, по окончании которой в 1918 году отправилась в Орел в качестве режиссера городского театра (ранее туда отправился заведовать продотделом ее первый муж Юлий Лацис). Там же ее увлекла работа с беспризорниками, вовлечение детей в драматический театр, популярную в те времена концепция «эстетического воспитания». В 1920 году она вернулась в Ригу, чтобы повидаться с больной матерью (ей это не удалось, мать умерла раньше), и наблюдала репрессии против латышских коммунистов. Ответом тоже стал театр: огромная карнавальная процессия, напоминающая мистерию, в которой участвовали коммунистически настроенные деятели латышского искусства и члены профсоюзов: «Мы решили устроить политический карнавал. Часть студийцев — молодые рабочие из левых профсоюзов и учащиеся — в костюмах и масках ехали на повозках, другие шагали по улицам Риги с высоко поднятыми над головами лозунгами: «Свободу заключённым!», «Свободу пролетарскому искусству!», «Знания и культуру — народу!» 5. Полиция побоялась разгонять шествие, но репрессии к этому моменту были слишком сильны.
К 1925 году компартия Латвии окончательно оказалась в подполье, но Лацис вернулась в Ригу, чтобы заниматься политическим театром. Пожалуй, это самая трогательная часть ее биографии, время, когда она верила в возможность преобразования жизни посредством искусства. Тогда же она снова пытается вовлекать в театр детей — участников подпольного «Гонимого театра»: «Помню, как самый маленький, Витольд, шеел по сцене впереди детей, игравших бунтовщиков. На вопрос «Кем ты будешь, когда вырастешь?» который мы задавали всем ребятам, он ответил: «Я буду бомбой!» В годы войны все они погибли. Дети помогали взрослым: рисовали плакаты, распространяли афиши наших спектаклей, разносили по тайным адресам подпольную литературу, с малых лет постигая азбуку конспирации» 6. В этих мемуарах интересно сочетание революционной чувствительности с некоторой мелочностью, которая проявляется в перечислении великих людей и чинов, «правильных» идеологических формул («диалектическое раскрытие характеров и событий») и кокетливом перечислении подарков, которые ей делали мужчины. Лацис была важным актором веймарской и советской интеллектуальной и эстетической сцены, но при этом ее мотивация остается туманной: то ли «революционная необходимость», то ли тщеславие, то ли эмоциональный порыв.
Гендеризированный взгляд на ее историю позволяет увидеть, как женщина находится на границе между разными декорациями и ролями и может вписаться туда, только если занимает определенную культурную роль. Женский лик революции — один из старейших тропов, особенно ярко отразившийся в эротических переживаниях 1920-х годов. При этом «новая женщина», которая стала символом гендерной перестройки периода раннего социализма, имеет корни в модернистском искусстве конца XIX века, с его эстетизацией ощущения конца времен, надломленности и некоторой истеричности. В «Московском дневнике» Беньямин отмечает «злобную едкость» Лацис и объясняет это ее вживанием в роль Гедды Габлер — инфернальной героини пьесы Ибсена, которая остро переживает, что заключена в рамки филистерского мира. «Истерия» Лацис станет перемешиваться с ранним ожиданием революции в Латвии, а потом — с болезненным переживанием поражения русской революции, которое стало проявляться в эпоху НЭПа и, возможно, стало причиной ее депрессии и эмоционального истощения, которые показаны в «Московском дневнике».
В этом смысле ее русскоязычные воспоминания, «выпрямленные» литературным пересказом члена Союза писателей, — это попытка уладить противоречия между ролями «роковой женщины», «революционерки», «театральной деятельницы», но попытка, в которой хорошо видны разрывы. Например, остается загадкой, почему убежденная коммунистка ничего не пишет о времени своей ссылки, о разгроме латышского национального театра «Скатуве», почти вся труппа которого была расстреляна в 1938 году. Она не писала эти воспоминания, а рассказывала их, и в этом содержалась театральная перформативность — выстраивание определенного образа, возможно — попытка «оправдаться» после приговора и продемонстрировать приверженность советской власти, какой бы она ни была. По этой причине нельзя сказать, что мемуары Лацис — это «женское письмо», хотя в них заметны гендерные «швы»: стыдливое отрицание сексуальности, почти не проговоренный опыт материнства, загадочные отношения со вторым мужем Бернгардом Райхом, с которым они то сближались, то отдалялись.
То же касается отношений с Беньямином. Лацис характеризует их как «дружбу», а искусствоведка Валентина Леопольдовна Фреймане в интервью, записанном Анной Альчук со слов дочери Лацис Дагмары утверждает: «Что она могла рассказывать! Что он был влюблен в ее маму, что мама издевалась над ним за его спиной еще больше, чем в глаза. Она, например, уверена, что мать никогда в близкие отношения с Беньямином не вступала не потому, что ей это было трудно из-за Райха. Анна как-то сказала мне: «Всякое было, но с ним (Вальтером Беньямином. — А.А.) не спала, сама не знаю почему» 7. Беньямин же подробно рассказывает об эротических переживаниях, которые, видимо, были недостаточно взаимны, но подпитывались намеками и клубком проекций.
Дагмара характеризовала Лацис как эгоистичную и мелочную, одержимую собственным идеальным образом и искавшую в других слепого обожания: «Ася, по-женски привлекательная, чувствовавшая свою власть над мужчинами, любого мужчину презирала, независимо от того, кем он был. Райх был у нее в добровольном рабстве. Я долгое время была единственным человеком в рижской театральной среде, с которым он мог говорить по-немецки. Ася была жутко ревнивая, и он ее боялся, но говорил: «Такая уж она, но я ее люблю». Она им помыкала, и любила это делать на людях. Какой отвратительнейший характер у нее был! Она была настоящая стерва, но привлекательная» 8.
Не давая оценки самой личности Лацис, которая безусловно была противоречивым человеком, стоит в заключение сказать, что гендерная мифология, которая связывает личное и политическое, все еще занимает центральное место в интерпретации творческих личностей ХХ века. Переживание призрака коммунизма, пронесшегося по Европе, как чего-то предельно интимного, но при этом вынесенного «на площадь», должно было стать этическим основанием для новых форм политической жизни, но осталось нам в качестве лично-документального письма, представляющего все больший интерес для читателей. Детский эгоизм Лацис, сочетающий любовь к высокому с пренебрежением «ближним», — один из вариантов капризного сопротивления тотальности, которая, как кажется, почти победила, но только почти, потому что мертвые, полные парадоксов, продолжают с нами говорить на языке озарений, непроговоренных надежд и нелепых жестов.
[1] Лацис А. Красная гвоздика. М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2018, С. 95.
[2] Jānis Taurens. Asja Lācis and Walter Benjamin: Translating Different Cities // Canadian Review of Comparative Literature,Vol. 45, Issue 1, Mars 2018, pp. 15-30.
[3] Беньямин В. Московский дневник [пер. с нем. — Сергей Ромашко]. М.: «Ад Маргинем Пресс», 2012, С. 54.
[4] Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М.: «Аграф», 2002. С. 161.
[5] Лацис А. Красная гвоздика. М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2018, С. 64.
[6] Там же. С. 115
[7] Альчук А. «Это бы очень украсило мою биографию»… Любовь и революция в судьбе Аси Лацис, Вальтера Беньямина и Бернхарда Райха // Гендерные исследования 2008. № 17. С. 170–176. С. 171.
[8] Там же. С. 174