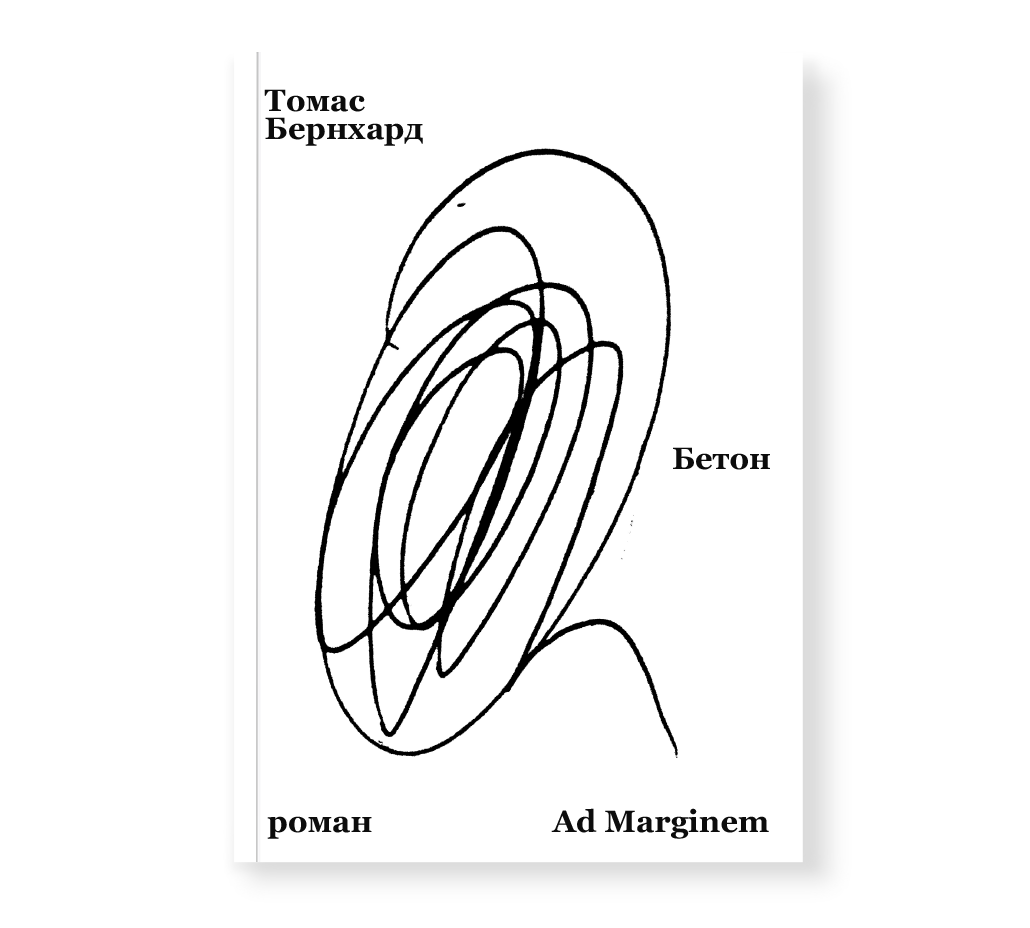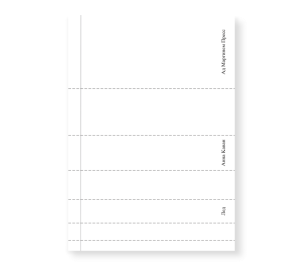Изнутри поврежденной жизни
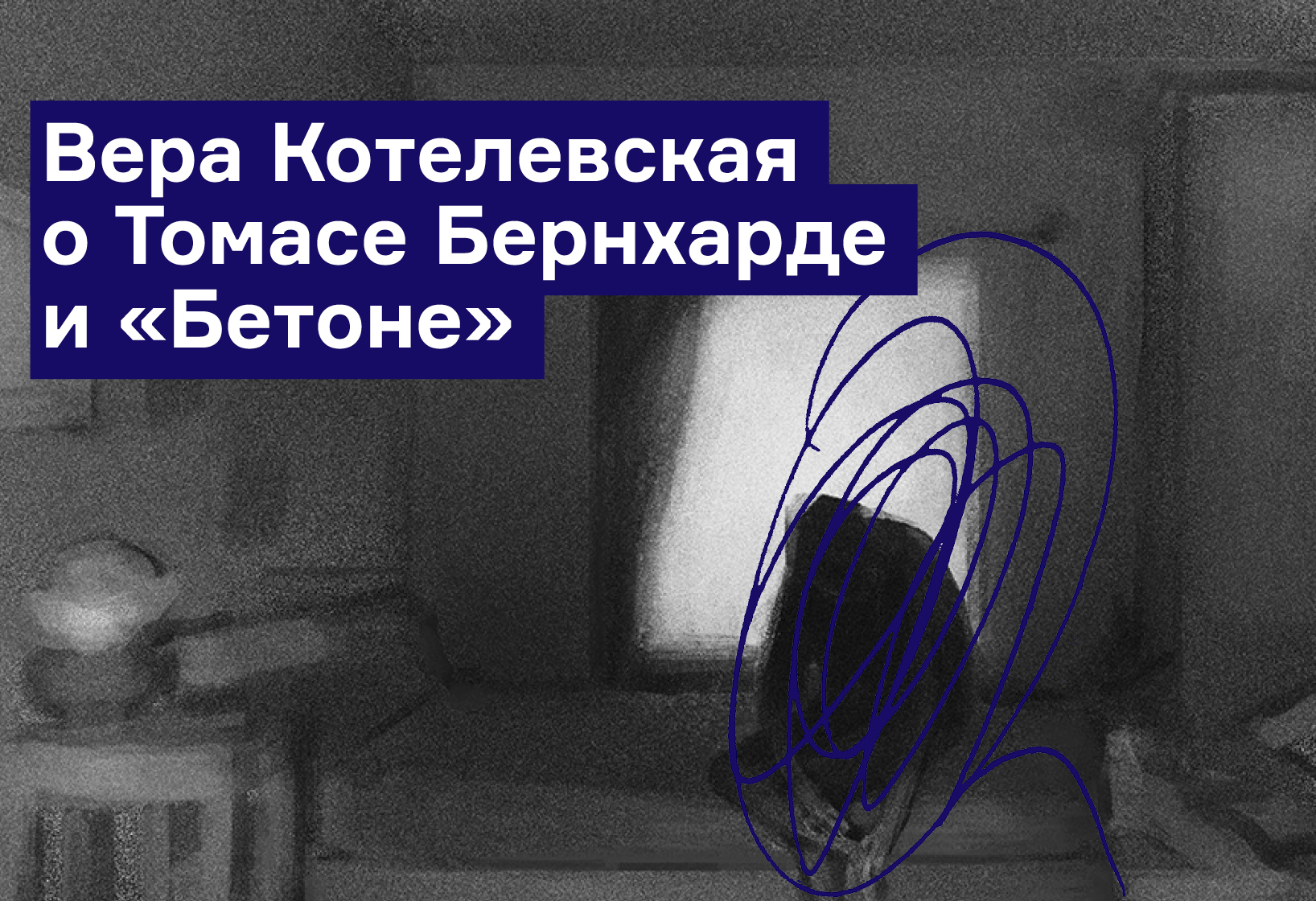
Открываем предзаказ на роман «Бетон» Томаса Бернхарда — крупнейшего австрийского прозаика и драматурга, одного из классиков модернизма. Публикуем послесловие редактора перевода Веры Котелевской о фигуре писателя.
Вера Котелевская

…книга ни о чем, книга без внешней привязи, которая держалась бы сама по себе, внутренней силой стиля, как земля держится в воздухе
без всякой опоры.
Флобер
Соната, чего ты от меня хочешь?
Фонтенель
Книга «Бетон», выходящая на русском впервые, заметно отличается от той прозы, что уже известна русскоязычному читателю Томаса Бернхарда (1931–1989). Если миниатюры из его «Происшествий» и «Имитатора голосов» — иероглифы экзистенциальных ситуаций, кафкианские протоколы, в которых банальное непременно размыкается гротескной бездной, а автобиографические повести — исповеди лицедея, облекшиеся в фактуру и плоть личного опыта, то третий тип прозы — та самая абсолютная проза, по которой узнают Бернхарда на всех языках. «Стужа», «Племянник Витгенштейна», «Пропащий», «Старые мастера»1 — тексты, которые меньше всего похожи на романы, если мы, памятуя о Бальзаке, Толстом, Франзене, ожидаем от них необозримого полотна реальности (пусть даже вся она, как Афина из Зевсовой головы, вышла из фантазмирующего сознания художника), архитектурной сложности, историй, «психологии» наконец. Даже отступники Рильке и Вирджиния Вулф погружают нас в мир — безусловно мозаичный — сознаний конкретных персонажей, проецирующих тени смутно знакомых нам вещей.
Роман «Бетон», написанный Бернхардом в 1982 году на одном дыхании2 — на той самой теплой Пальма-де-Майорке, куда он отправляет своего героя Рудольфа, — примыкает к этой последней группе. Только вот инструментальный характер его пассажей, их самодовлеющая беспредметность в духе серий Шёнберга или Мондриана тотальны — прием доведен до предела, дальше начинается нечто иное, нежели проза. Ведь разворачивается во времени тут не жизнь, а мнения, проносятся не картины, а, прямо по Ганслику, звучащие формы.
Что же перед нами тогда? Монодрама-притча? Исповедь вслух, самосуд и самооправдание? Запись монолога, произносимого наедине с собой изо дня в день кем-то, одержимым саморазрушением — и всё же отчаянно сопротивляющимся катастрофе? Жест возмездия кровному врагу, репетируемый вновь и вновь, с тщетным усердием унять ярость? Обвинительный процесс над миром?
Втягиваясь в безостановочное плетение словес, понимаешь, что разыгрывается тут многоактный спектакль: несмотря на сбивающую с толку ремарку «пишет Рудольф», Рудольф не пишет, а говорит — театрально, искусственно. «Сказал я себе», «твердил я себе снова
и снова»: он цитирует себя, не рассказывает. Смех вслух, хождение из угла в угол и с этажа на этаж в необитаемом доме (обиталище-склепе, если ближе к тексту) — как по пустой полутемной сцене. И говорит исповедующийся не только за себя, но и за сестру — именно ее он страстно любит и ненавидит, а спорит он в конце концов со всем миром — с католической церковью и артистическими кумирами своей юности, с мнимыми друзьями и лживыми политиками, с собственными убеждениями, обернувшимися иллюзиями, с вереницей своих и чужих стереотипов (о так называемых простых людях, например). Разворачивается что-то вроде барочного прения. Тяжба за право быть. Существовать так, а не иначе. Протагонист выводит пассажи, которые оттачивались одинокими днями и ночами долгие годы, отчеканившись наконец в виртуозные нарциссические сцены, — Рудольф мог бы соперничать с изобличающими себя язычниками Расина или подпольными резонерами Достоевского. (О, как и у Раскольникова, у Рудольфа имеется «каморка», чуланчик, где вынашивается гениальная idée fixe о труде, что затмит все существующие!)
Монодрама Рудольфа выношена, отрепетирована, ритмически выверена — и представлена на суд. В пользу искусственности его речей говорит и синтаксис: фразировка здесь как в сложнейшей арии, надо запастись дыханием и интонировать каждый ход, со всеми понижениями и повышениями, градациями и дроблением ритма, повторами и вариациями. Рудольф задыхается, он неизлечимо болен (как и его создатель), поэтому столь длинные периоды под силу ему лишь при должной тренировке.
Тут, думается, тот же механизм преодоления, что и у больного астмой Пруста, о котором Беньямин писал:
Врачи были бессильны перед этой болезнью. Однако сам писатель обдуманно поставил ее себе на службу. Он <…> был безукоризненным режиссером своей болезни. <…> Эта астма вошла в его искусство, если только не была создана его искусством. Его синтаксис формируется ритмично, шаг за шагом, в соответствии со страхом задохнуться. А его иронический, философский, нравоучительный самоанализ является вздохом, с которым отлегает от сердца кошмар воспоминаний. Но в большей степени этим угрожающим, удушающим кризисом является смерть, присутствие которой он ощущал непрестанно и больше всего тогда, когда писал3.
Поэтологическую роль болезни подчеркивает и Эльфрида Елинек, соотечественница и, кстати, гениальная продолжательница стилистической линии Бернхарда. В 1989 году она пишет некролог:
[Бернхард] записывал под диктовку своего больного тела и сохранил себя в письме, как если бы ему приходилось каждый день снова и снова производить само дыхание, за которое больному человеку всегда приходится бороться, на фабрике собственного тела. Не случайно этот поэт4 был поэтом речи (а не письма). Болезнь легких, пережитая им еще в юности, исторгла из него великие тирады, ставшие его произведениями. Я говорю, следовательно я существую. И пока я говорю, я жив5.
Многослойные пассажи конструируются Бернхардом в «Бетоне» (как, впрочем, и в других романах) одновременно как речь прямая и косвенная, самопересказ, когда персонаж-одиночка воспроизводит тот перформанс, который свершался в коммуникативном вакууме, без единого слушателя:
Я уже годы не в состоянии ничего написать, из-за сестры, как я всегда утверждал, но, возможно, просто из-за неспособности вообще написать что-либо интеллектуальное. Мы пробуем всё, чтобы подступиться к такому труду, действительно всё, и, что самое ужасное, мы не остановимся ни перед чем, что подвигнет нас на такой труд, будь то чудовищная бесчеловечность, чудовищное извращение или тягчайшее преступление. Оставшись один в Пайскаме в четырех холодных стенах, где взгляд упирается лишь в пелену тумана за окнами, я не имел ни шанса. В надежде начать работу о Мендельсоне я предпринимал самые нелепые попытки, например устраивался на лестнице, ведущей из столовой наверх, и декламировал целыми страницами из «Игрока» Достоевского, но, естественно, эта абсурдная попытка провалилась, закончившись затяжным ознобом и ворочанием в постели, часами в холодном поту. Или же я выбегал во двор, делал три глубоких вдоха и три глубоких выдоха, затем попеременно вытягивал, как можно сильнее, правую и левую руку. Но и этот метод лишь утомил меня. Я пробовал читать Паскаля, Гёте, Альбана Берга, всё напрасно. Если бы у меня был друг! — в который раз сказал я себе, но друга у меня нет, и я знаю, почему у меня нет друга. Подруга! — воскликнул я так громко, что в передней раздалось эхо. Но подруги у меня нет, совершенно осознанно нет подруги, потому что тогда пришлось бы отказаться от интеллектуальных амбиций, нельзя иметь подругу и интеллектуальные амбиции одновременно, если физически человек слаб, как я. О подруге и интеллектуальных амбициях лучше и не мечтать! Либо подруга, либо интеллектуальные амбиции, совмещать то и другое невозможно.
Отточенность подобных пассажей создается и непременными резюме в конце — возведением собственного опыта в человеческий удел (отсюда и пристрастие к безличному man или обобщенно-личному «мы», в самых, казалось бы, неожиданных местах, например, когда заходит речь о затворничестве: «Нам необходимо остаться в одиночестве, быть всеми покинутыми, если мы собираемся погрузиться в интеллектуальный труд!»). В этом поиске законов Бернхард близок Толстому, Прусту и Музилю, хотя в абстрагировании от Истории и историй он оставил их далеко позади.
Реплика же об «абсолютной прозе» звучит в документальном черно-белом фильме-монологе «Три дня», снятом в 1970 году режиссером Ферри Радаксом.
Сидя на садовой скамье, Томас Бернхард, слегка переменяя позы и временами нервно покачивая ногой, фраза за фразой формулирует свое кредо. Излюбленная мизансцена! В вольтеровском кресле часами сиживает резонирующий протагонист в «Рубке леса» и «Бетоне», на скамье Венского музея истории искусств — герой «Старых мастеров», прикованы к креслам-каталкам говорливые персонажи абсурдистского трагифарса «Праздник в честь Бориса»… Именно в фильме Радакса Бернхард проговаривается и о страсти к затворничеству, и о решающем влиянии деда (заменившего отца), и, пусть скупо, как обычно впрочем, о своих литературных пристрастиях и антипатиях. Именно тут он называет себя «разрушителем историй», открещиваясь от интереса к повествованию, к хорошо сделанным сюжетам. «Трудно начать» текст6: в этой простой фразе — формула всех сюжетов о страхе чистого листа, с которым тщетно борются бернхардовские скрипторы, среди которых — сочинители мемуаров, архитекторы-самоучки, репетиторы по немецкой литературе (в романе-завещании «Изничтожение: распад», 1986), несостоявшиеся гении-пианисты, исследователи природы слуха, и всегда затворники. Но еще сложнее, а, вернее, попросту бессмысленно текст заканчивать:
Целого существовать не должно, нужно рубить его на части. Удавшееся, красивое выглядит всё более подозрительно. Желательно даже прерываться на самом неожиданном месте… Так что неверно и дописывать в книге так называемую главу. И, следовательно, самая большая ошибка — когда автор дописывает до конца книгу. Впрочем, и в отношениях с людьми лучше всего — внезапный разрыв7.
Это недоверие к целому (das Ganze) — больше чем романтический каприз, в нем угадывается общее настроение «эры подозрения». Впрочем, отделить послевоенное поколение Роб-Грийе и Саррот, Соллерса и Кристевой, Бернхарда и Бахман от неприкаянных в своей «трансцендентальной бездомности» Музиля, Пессоа, Беньямина, Адорно, Беккета вряд ли удастся. Уже Пессоа выражает недоверие к целостности, разбивая на части, на бесчисленные гетеронимы, писательское я, создавая в том числе обрывочную биографию-в-заметках неприметного помощника бухгалтера Бернардо Суареша. «Ненаписанную поэму» собственного бытия предпочитает зрелости и цельности «человек без свойств» Ульрих, герой неоконченного опуса Музиля. А Беккет завершает свою послевоенную романную трилогию сомнительным во всех смыслах монологом «безымянного». «Целое есть неистинное», — полемизируя с Гегелем, заключает Адорно, предлагая в начале 1950-х вместо стройной теории фрагменты, мозаику размышлений изнутри «поврежденной жизни»8.
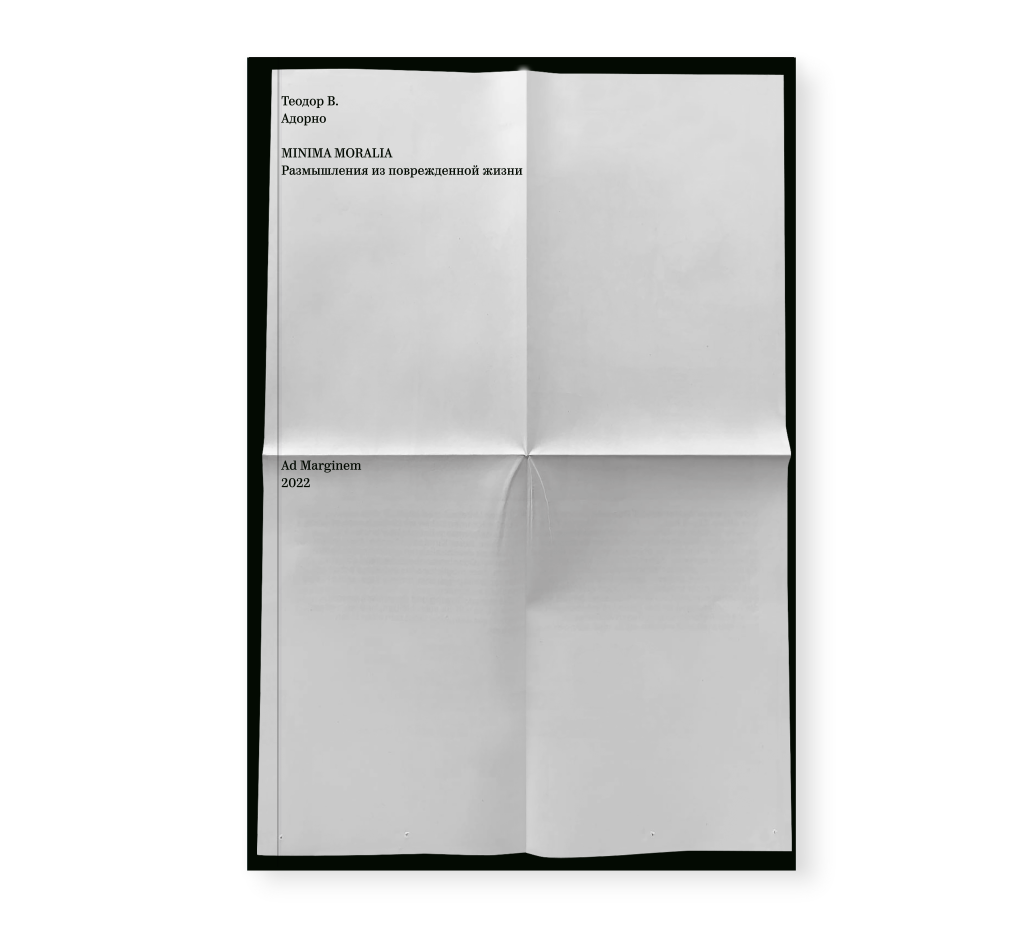
Изнутри поврежденной жизни пытается написать книгу и герой «Бетона», но ему, как становится ясно, не на что опереться ни в себе, ни вокруг. Распаду как будто и должна противостоять идея Книги — монументального труда, итога, opus magnum, но именно целое оказывается не под силу уязвленному, травмированному сознанию.
«Книга обо всем целокупно Возможном» — такой сокровенной новалисовской мечтой был одержим другой персонаж Бернхарда, юный экзальтированный философ из башни Амрас, оставивший брату-душеприказчику фрагменты рукописи и воплотивший «внезапный разрыв» прыжком из окна:
Сознание того, что ты не более чем фрагменты, что краткие, долгие и самые продолжительные эпохи не более чем фрагменты … что время, отмеренное городам и деревням, не более чем фрагменты … и что земля есть фрагмент … что вся эволюция только фрагмент … полноты совершенства нет … что фрагменты рождались и продолжают рождаться … не путь, а только прибытие … что в конце уже нет сознания … что потом без тебя ничего не будет, а следовательно, ничего без тебя и нет…9
Чувство распада согласуется с абсолютной некоммуникабельностью героев Бернхарда. Впрочем, и сам писатель признается в этом в документальной киноисповеди:
…ты не можешь выйти за пределы своего я. <…> В школьные годы ты вечно один. Подсядет сосед по парте — ты всё равно один. Разговариваешь с кем-то — опять один. В воззрениях, чужих ли, своих, снова один. И когда пишешь книгу или, как я, книгу за книгой, ты по-прежнему один. Понимание невозможно, его не существует. Одиночество, уединение порождаютеще более безысходное одиночество, изоляцию10.
Нет веры во взаимопонимание, нет веры в целое, в то, что можно завершить и нужно завершать текст, и тем не менее Бернхард пишет и завершает один роман за другим11, неизменно поддерживаемый своим главным издателем — в Западной Германии, не Австрии — Зигфридом Унзельдом, возглавлявшим многие годы «Зуркамп».
Любимых «противников» по письму, которые его буквально «разрушают, подтачивают» своим талантом, он и называет создателями «абсолютной прозы»12. Здесь соседствуют имена Чезаре Павезе (Бернхард вспоминает его дневник13) и Эзры Паунда14, Роберта Музиля и Поля Валери, Михаила Лермонтова и Вирджинии Вулф. Очевидно, что Бернхард не вкладывал в эпитет «абсолютный» какое-то определенное свойство, скорее, так оценивал высшее качество этой прозы, причем с оговоркой, что и поэзия этих авторов является «абсолютной прозой»15.
Между тем собственный стиль Бернхарда провоцирует припомнить музыковедческое, философско-эстетическое значение термина «абсолютный», утвердившееся в прошлом веке. В ходе долгих терминологических дискуссий за ним закрепляется представление о музыке, лишенной программного (иллюстративного), сюжетного содержания, — музыке, апеллирующей не к психологическим состояниям и аффектам, а к чувствам и интеллектуальной рефлексии исключительно музыкальной природы. Это музыка, взывающая не к «пониманию», переводу на язык обыденных чувств, сколь угодно сильных и ценных, а к аналитическому наслаждению формой как таковой. Ближайший аналог абсолютной музыки в других искусствах — абстрактная живопись, театр абсурда, дадаистская поэзия, экспериментальная проза Бланшо, Беккета, Волльшлегера. И, безусловно, цикл текстов Валери о «Господине Тэсте», которым восхищался Бернхард. Кроме того, и его собственная «музыкальная» проза, которая, как «Бетон» — а отчасти и «Известковый завод», «Корректура», «Пропащий», «Прогулка», «Изничтожение: распад», — написана с минимальной опорой на сюжет, психологию, вещный мир, коего нам так недостает поначалу в этих пустынных пространствах, устроенных наподобие белых (черных) кубов модернистских галерей или сработанных по образцам Ле Корбюзье.
Проза в наибольшей мере сопротивляется «изничтожению» предметного начала (в ней непременно должно отыскаться место барометру на фортепиано, как иронично подметит Ролан Барт), недаром Малларме, провозглашавший подобную беспредметность, был по-настоящему услышан только в ХХ веке.
«Разрушитель историй» устами своего персонажа К. М. из «Амраса» саркастично высказывался о прозе Флобера, его романе «Саламбо», уличив автора в «непрестанном пережевывании дат, исторических случайностей»16. Но именно Флобер, как одержимый, искавший стилистического совершенства и прозванный Прустом «гением грамматики», обронил фразу, выразившую упование материального века на иное, абстрактное искусство, — написать «книгу ни о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама по себе, внутренней силой стиля, как земля держится в воздухе безо всякой опоры, — книгу, где почти не было бы сюжета или, по крайней мере, сюжет был бы почти незаметен, сколь это возможно»17.
Ждать от Бернхарда исторической справедливости (и культурно-исторической точности) не стоит, в своей поистине детской страсти к гиперболизации явлений и поляризации идей он не раз высказывался опрометчиво, постепенно мимикрировав в своих героев (так что, право, уже и не знаешь, кто произносит тирады против пуделя Шопенгауэра и «ссобачившегося» рода людского, герой или автор). Сегодня важно другое: «Бетон» — воплощение такой книги. Более последовательно ее реализовал, возможно, только Беккет своим L’Innommable (1953).
Появляющийся ближе к финалу «Бетона» сюжет, давший название роману, выглядит как deus ex machina.
Что нам извлечь из этой рассказанной взахлеб, скороговоркой (впрочем, по большей части пересказанной со слов Анны Хердтль) истории гибели одного семейства18? Что история распада личности Рудольфа, судорожно цепляющегося за идею фикс о музыковедческой книге, не так важна, не так укоренена в жизни, как трагедия «так называемых простых людей»? Что нерасторжимые, инфантильные узы любви-ненависти брата и сестры из Пайскама, унаследовавших огромное состояние, но с детства лишенных тепла и любви19, — история надуманная, что об этот бетон нельзя разбиться в кровь? Что в мире, где родителей отправляют в последний тур со скидкой, а ловкий адвокат выбьет из вдовы последние гроши, есть вещи поважнее книг и музыки Мендельсона?
В образе старшей сестры героя обнаруживаются биографические следы сразу нескольких фигур: матери Бернхарда Анны Фабьян, его брата20 и его Lebensmensch, неизменной спутницы жизни Хедвиги Ставианичек, старше его на 37 лет, ставшей ему возлюбленной, матерью, сестрой, меценатом и другом, тем самым близким человеком, которого ему недоставало в семье. Ни в одном из романов Бернхарда нет любовной истории, достойной стать стержнем сюжета, заставить читателей поверить в спасительность такой любви для протагониста-нарцисса (в «Старых мастерах» такая любовь озаряется светом прощания, in memoriam). Но везде есть мучительная связь с женщиной старше, являющейся то сводной сестрой и одновременно женой, то только любимой сестрой, ради которой герой создает свои утопические артефакты (так герой «Корректуры» проектирует и возводит дом-конус для любимой сестры, которая не выносит смертоносной выморочности этого здания и умирает). Рудольф предстает пленником этой кровосмесительной связи, он вечный сын и вечный брат, puer aeternus, и, скорее всего, именно эта несвобода мешает ему написать собственную книгу.
Дом Рудольфа в Пайскаме — почти точная копия первого дома, приобретенного Бернхардом и действительно превращенного им в ходе реконструкции в старинный крестьянский дом-крепость21. В покупке дома участвовала и Хедвига Ставианичек, и, возможно, с досадой упоминаемый героем пункт в завещании отца о праве сестры жить в доме — несколько искаженный автором пункт из документа о купле объекта недвижимости, согласно которому второй участник сделки имеет право проживать в доме. Во всяком случае, затворник Бернхард позволял гостить там только ей.
В доме Томаса Бернхарда. Источник: Hertha Hurnaus / Brandstätter Verlag
Буржуазная респектабельность и деловая хватка Элизабет, сестры героя, — прозрачный намек на качества «тети» Бернхарда (именно так представлял он Хедвигу Ставианичек незнакомцам, журналистам например). А вот огромное состояние, позволяющее герою «Бетона» Рудольфу не думать о хлебе насущном и предаваться интеллектуальному труду, — плод чистейшей фантазии писателя, хорошо знавшего с детства, что такое доить коров, бегать до ноября босиком, спать в проходной комнатке и, уже студентом, питаться в столовой для бедных. Далеко не аристократичной была и деловая хватка Бернхарда, умело выбивавшего из Зигфрида Унзельда авансы и внушительные гонорары.
Музыка Мендельсона, судя по коллекции пластинок и нот писателя22 и разрозненным высказываниям, никогда не была в его вкусе. Однако у Мендельсона имелась старшая сестра Фанни, получившая вместе с ним музыкальное образование и чрезвычайно одаренная как исполнительница и композитор. Брата и сестру связывали теплые, тесные отношения, в которые со временем вмешались ноты соперничества, ревности к профессиональному успеху брата, невозможности претендовать на столь же значимую роль в музыкальном сообществе, что и композитор-мужчина (Фанни должна была довольствоваться в итоге замужеством и домашним музицированием)23. Неизвестно доподлинно, повлияла ли эта семейная история на роман «Бетон», но «Странствующих комедиантов», произведение двенадцатилетнего Мендельсона, которое упоминает Рудольф, Бернхард не мог слышать: в период 1961–1982 годов оно не исполнялось в Австрии и не публиковалось24. Возможно, единственным объяснением выбора Мендельсона была мысль Бернхарда о (предполагаемом) несовершенстве этого раннего произведения и, главное, о праве гения на ошибку, несовершенство и незавершенность (все эти нюансы вмещает в себя немецкий лейтмотив романа, Unvollkommenheit).
«Всё есть фрагмент». Возможно, еврейство (как эмблема маргинальности, жертвенности) Мендельсона, на которое с ехидством намекает сестра Рудольфа, тоже не менее веская причина. Бернхард всегда предпочтет героя пропащего, жертву, а не победителя. Так и в его «Пропащем» (Der Untergeher, 1983) потрясающей глубины художественный некролог пишется не Глену Гульду во славе, а потерпевшему профессиональную, экзистенциальную катастрофу вымышленному Вертхаймеру. Не исключено также, что ненаписанная книга о гении-еврее в «Бетоне» — не написанная Бернхардом (но вожделенная?) книга о Людвиге Витгенштейне. Вместо книги о любимом философе он напишет о его племяннике-меломане25, как бы подменяя недосягаемый монумент близким и соразмерным ему персонажем, который, в отличие от великого родственника, канонизированного историками философии, пропал, сгинул в безвестности, угас в психиатрической лечебнице (в павильоне «Людвиг»!).

В «Бетоне» Бернхард снова разыгрывает любимую комбинацию: кто-то гибнет, чтобы другой выжил, рассказав об этой гибели. Так у Вирджинии Вулф в «Миссис Дэллоуэй» должен погибнуть ветеран Первой мировой, чтобы успешная, блистательная Кларисса могла испытать экзистенциальный ужас: он разбился, а я выжила.
Этот роман ничем не заканчивается. Вероятно, Wiederholungszwang заставит героя вернуться в ад самосознания, в поврежденную жизнь. Вероятно, лишь виртуозный ритм речи, выразительная красота языка, рожденного в ужасе, даст ему — и нам? — надежду на исцеление. Может быть, в самой партитуре этого отчаянного музыкального приношения есть свет.
Рекомендуемые книги:
Примечания:
[1] Изданные в России переводы.
[2] Об истории создания этого романа нет документальных свидетельств — слишком стремительным был творческий процесс: Бернхард начал его писать в Ольсдорфе, а закончил в Пальма-де-Майорке, всего за пару месяцев. См.: Huber M., Mittermayer M. (Hg.). Bernhard-Handbuch. Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: Metzler, 2018. S. 64.
[3] Беньямин В. К портрету Пруста // В. Беньямин. Маски времени. СПб.: Symposium, 2004. С. 260–261.
[4] Да, она называет его Dichter, словом возвышенным, которого Бернхард избегал.
[5] Jelinek E. Der Einzige und wir, sein Eigentum // B. Reinert, C. Götze (Hg.). Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard: Intertextualität — Korrelationen — Korrespondenzen. Berlin; Boston: De Gruyter, 2019. S. 11 (курсив мой. — В. К.).
[6] Bernhard T. Drei Tage // T. Bernhard. Der Italiener. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1989. S. 81.
[7] Ibid. S. 87–88.
[8] Адорно Т. Minima moralia / пер. А. Белобратова
под ред. Т. Зборовской. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022
[9] Bernhard T. Amras. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1988. S. 78 (пунктуация автора).
[10] Bernhard T. Drei Tage. S. 79–80.
[11] На данный момент немецкое собрание сочинений Бернхарда,
включающее малую прозу, романы и повести, драматургию, лирику и публицистику, составляет двадцать два тома. Части ранних рукописей из архива, при жизни не публиковавшихся, только предстоит текстологическое изучение.
[12] Bernhard T. Drei Tage. S. 87.
[13] Были изданы после самоубийства писателя под названием «Ремесло жить» («Il mestiere di vivere», 1835–1950).
[14] Не исключено, что Бернхард читал в немецком переводе его «Cantos»: темный монтажный стиль Элиота и Паунда ощутим в его поэме «Ave Vergil»
[15] Bernhard T. Drei Tage. S. 87.
[16] Bernhard T. Amras. S. 63.
[17] Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2 томах. М.: Художественная литература, 1984. Т. 1. С. 161–162.
[18] Сюжетом именно с таким подзаголовком (Verfall, если пол- нее — гибель, распад, угасание, падение) открывается история великого немецкого романа ХХ столетия — «Будденброки» Томаса Манна.
[19] И именно поэтому сорокавосьмилетний Рудольф не может выбросить пальто умершей матери и вынужден повторять тайный ритуал — доставать его из шкафа и вдыхать ее запах?
[20] Тень брата, безусловно, сквозит и в фигуре терапевта Рудольфа (сводный брат Петер Фабьян и был таким терапевтом у неизлечимо больного Томаса Бернхарда).
[21] «Архитектурной» биографии Бернхарда посвящено немало книг, сошлемся на свидетельства его друзей, оставивших интереснейшие воспоминания — мемуары риелтора Бернхарда и его друга, Карла Игнаца Хеннетмайра (Hennetmair K. I. Ein Jahr mit Thomas Bernhard. Das versiegelte Tagebuch 1972. Salzburg: Residenz Verlag, 2000), альбом фотографий и заметок, созданных супружеской четой Шмид о Бернхарде (Schmied E., Schmied W. Thomas Bernhard. Leben und Werk in Bildern und Texten. Salzburg: Residenz Verlag, 2008). См. также: https://thomasbernhard.at/die-haeuser/
[22] В каталоге музыкальной домашней библиотеки, составленном Гудрун Кун, указана только пластинка с «Прекрасной Мелузиной» Мендельсона, в то время как произведения Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена и других композиторов исчисляются десятками наименований: Kuhn G. Thomas Bernhards Schallplatten und Noten. Linz; Wien; Weitra; München: O. J. S. 30.
[23] См подробно: Löffler S. Ich bin ja ein musikalischer Mensch. Thomas Bernhard und die Funktion der Musik in seinem literarischen Werk. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2018. S. 181–194.
[24] Ibid. S. 189–191.
[25] Есть интересный факт — письмо Хильде Шпиль с отказом написать статью о Витгенштейне, где Бернхард пишет буквально о невыразимости своего представления о Витгенштейне, как бы реализуя ужас чистого листа, неохватность замысла, которому подвержены его персонажи-скрипторы.
В оформлении обложки использована иллюстрация к роману Томаса Бернхарда «Стужа» (Franziska Blinde)