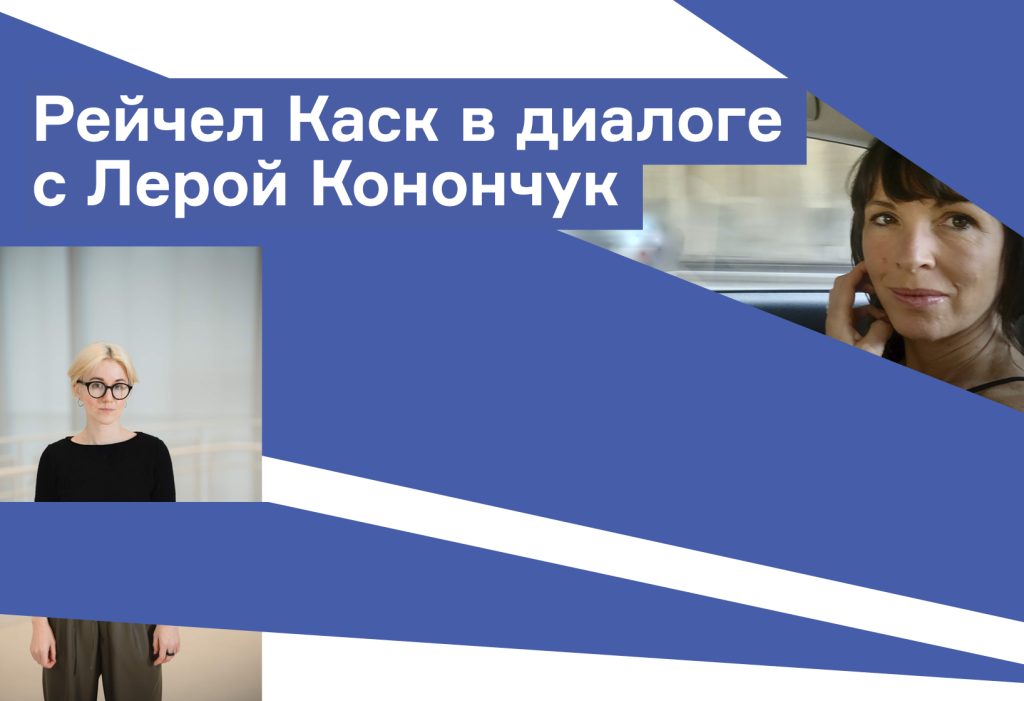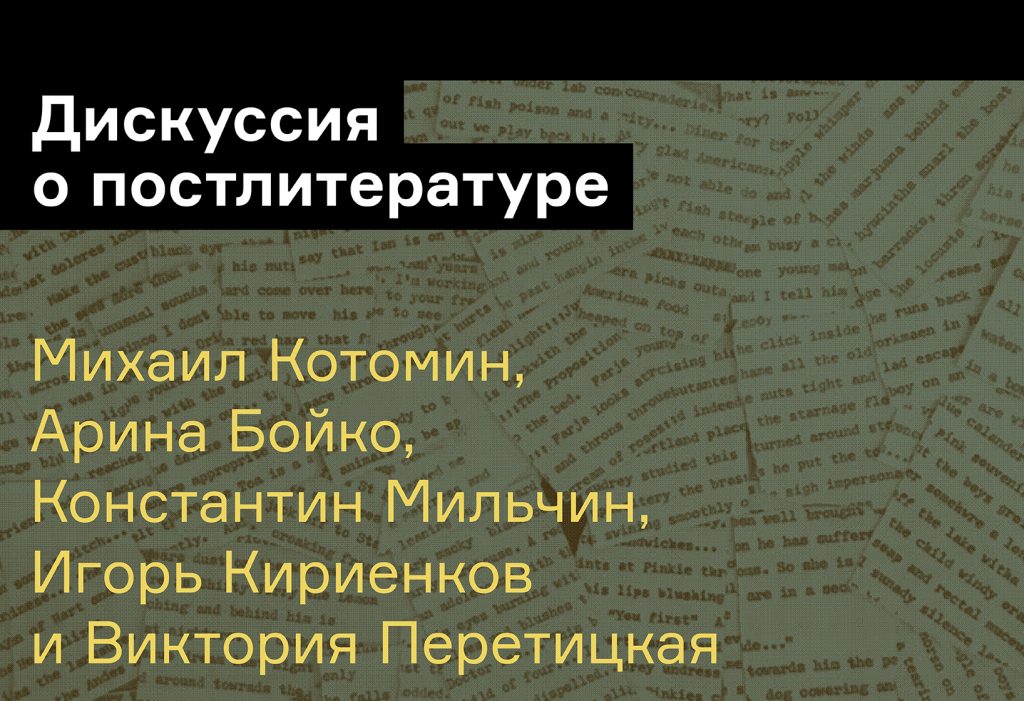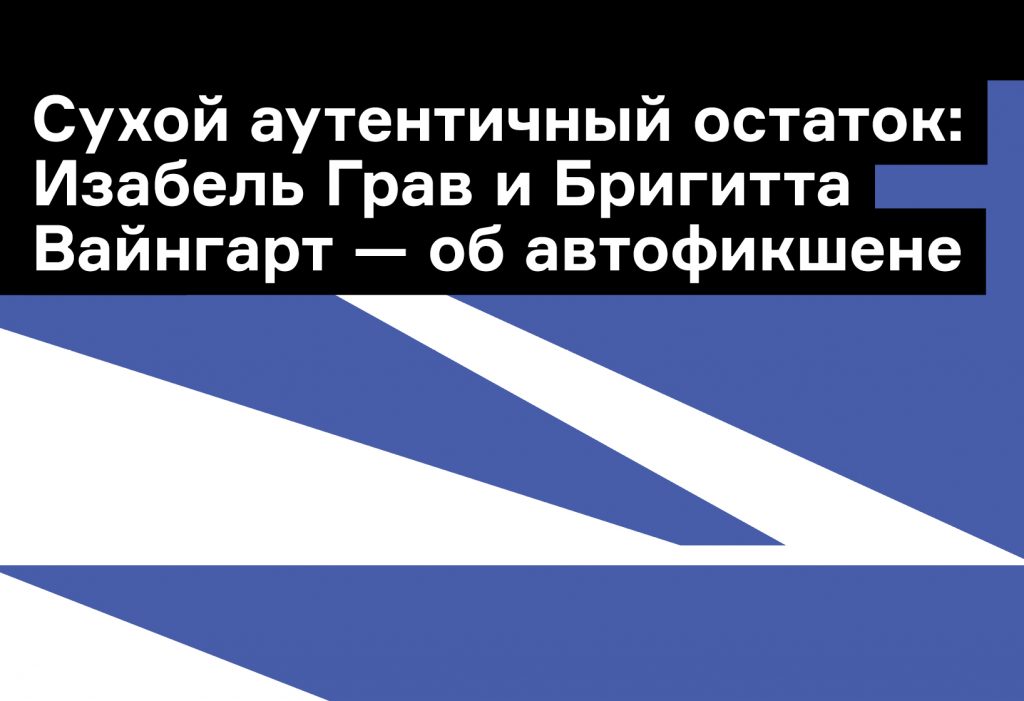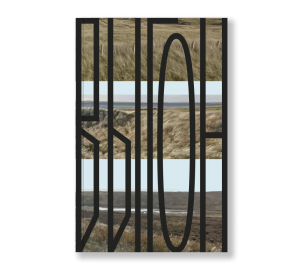Автофикшн и горевание

«И в момент, когда мир перешел в острую фазу сумасшествия, когда стал разрушаться мой частный порядок, когда одна за одной посыпались гопотери, я обнаружила себя читающей». Публикуем текст Ольги Касьяновой об автофикшене как первом шаге к выходу из кризиса — как для писателя, так и для читателя. Статья опубликована в новом номере журнала «Искусство кино», посвященному прошлому и истории.
Ольга Касьянова

tg: «вырвано из контекста»
…Как писатель, еще в детстве, я пришла к выводу, что смысл присутствует в ритмах слов, и фраз, и абзацев: техника, скрывающая то, что я думала или во что верила, за все более непроницаемыми слоями лака (…) На этот раз мне понадобится нечто большее, чем слова, чтобы обрести смысл. На этот раз мне понадобится то, что я сочту или признаю проницаемым — хотя бы для меня самой.
Дж. Дидион «Год магического мышления»
Много написано о том, что искусство умеет утешать. Милосердие в отвлечении на красоту. Магическая дудочка, лунная колыбель. Однако оно способно не только убаюкивать, когда мы беспомощны и тревожны, но и передавать нам жизненно важный опыт. Яркий пример — почти каждый хоть раз читал книгу, написанную человеком, пережившим концлагерь. Через документальную прямую или художественную окружность люди рассказывали, как готовили в бараке воображаемую похлебку по рецепту бабушки (Тонино Гуэрра) или напоминали себе, что по утрам надо чистить зубы зубным порошком, а летом полезны велосипедные прогулки (Алан Ислер). Искусство повествования помогало, сохраняя память о нормальности в предельно ненормальных обстоятельствах. И оно же контейнировало опыт в книгах и передало технику преодоления будущим поколениям.
Но, как известно, не всякий психический опыт одинаково поощрялся для сохранения. Не особо представлен женский опыт или опыт табуированных практик — например, тяжелого горевания или помыслов о самоубийстве.
Когда в начале нулевых у Джоан Дидион умер любимый муж, она с удивлением обнаружила, что есть очень мало образцов художественной культуры, которые помогли бы ей в переживании горя. Пара опер, один балет, три стихотворения. От Джона Донна и Уистена Одена, которых хватило на полтора дня, она перешла к статьям антропологов и — неожиданно — похоронным главам в книге об этикете Эмили Пост, написанной в 1920-х. Та показалась ей гораздо более уместной «в своей непогрешимой конкретике». Она давала проверенную моторику, упражнения, пассы — и разоблачала сочувствие за ними. «Информация дает контроль», — пишет Дидион. В итоге она решила сама заполнить нишу и написала книгу о горевании — репортаж-хронологию некрепкого ума, вопреки холодной личности своей хозяйки цепляющегося за возможность возвращения возлюбленного. «Год магического мышления» стал моментальной классикой.
Примерно тогда же с подобной проблемой столкнулся другой писатель — в конце девяностых Борис Акунин (внесен в реестр иностранных агентов) оказался один на один с навязчивыми мыслями о (не)допустимости самоубийства (принято считать, что причиной стала болезнь жены, но поскольку этого не написано в книге, утверждать не будем). Как человек основательный, он стал собирать информацию, что вылилось в увесистый двухтомник «Писатель и самоубийство» — увлекательное и глубокое погружение в историю вопроса, пробежка по прецедентам, философским обоснованиям и противоречиям, по бесконечным за и против. Это буквально путешествие внутрь руминации о выборе между жизнью и смертью на языке монографии. Полуэссе, подписанное не привычным псевдонимом, а настоящим именем. Потому что личное. «Приватное исследование» — так определил его сам автор.
Хотя оба кейса в первую очередь именно личные, заметьте, как обошлись писатели со своим нутром. Они не ударились в то, что мы привыкли ассоциировать с литературной чувствительностью, хотя отлично умели ей пользоваться. Они не использовали беллетристические таланты, не отдали мысли и эмоции персонажам или лирическим героям. Они погрузились в опыт, имея в качестве фонаря тот навык, каким сами привыкли контактировать с миром. Джоан Дидион была репортером — и о горе написала как репортер. Григорий Чхартишвили историк, и о влечении к смерти написал как историк.
На мой взгляд, это прямое соприкосновение с миром тем способом, который лично ты ощущаешь как правильный, — основа того, что за двадцать лет превратилось из разрозненной эссеистики, поэзии, публицистики, научпопа и других штуковин в единый фронт текстов под названием «автофикшен». Свобода выражения опыта и освобождение авторского «я», с одной стороны, от биографического двойника (всегда неизбежно публичного, что сделало жанр мемуаристики одним из самых лживых), а с другой — от героя-персонажа, который искажает опыт, наделяя его собственной субъектностью.
Условно лирический герой или героиня автофикшена находится в уникальной, как будто невозможной позиции, ближе поэтического «я» и дальше «я» анонимного исследователя — одинаково бережной как для границ читателя, так и границ автора. Это отнюдь не душевный стриптиз и не бесконечное эгоцентричное я-кино, как часто видят издалека. Исповедальность — совершенно ложный ярлык жанра. Книги одной из главных звезд сегодняшнего автофикшена Рейчел Каск — почти полностью скрывают ее и концентрируются на людях, с которыми она контактирует, но не превращают в фольклориста-собирателя, как происходит, например, у Линор Горалик (внесена в реестр иностранных агентов). Каск предлагает очертить ее образ «по контуру» соприкосновений с другими (трилогия так и называется — «Контур»). Оливия Лэнг в романе Crudo «подселяет» к себе и своему вполне буржуазному опыту личность умершей панк-поэтессы Кэти Акер, чтобы показать гибридность — не только собственную, но и любого современного человека, разрывающегося между частной жизнью и апокалипсисом новостей. А Теджу Коул в «Открытом городе» описывает собственное состояние через географию мегаполиса, исхоженного им вдоль и поперек. Ничто из этого не автопортрет — но пересечение между автопортретом и миром, который взаимно отражается в каждой своей части.

Работающий автофикшен не стушевывается в ноль и не упивается субъектностью, не превращает себя в безликую камеру и не смотрит в зеркало ради смотрения в зеркало, не делает главным объект, себя или читателя, а уравнивает всех троих по праву живого и делится опытом переживания и наблюдения на уникальной дистанции. Проникновение в прозрачное нутро человека и одновременно встраивание в мир языка, а значит и фикшена — нетвердой, неопределенной, как позиция микрочастицы, полуправды, где ты никогда не знаешь и не должен знать, где фактическая информация, а где только поэтическая. Таким образом, можно вынимать яйцо, не разбивая скорлупы, сохранять границу силентиума и целостность. Говорить свою внутреннюю правду почти что безбарьерно и наладить прямой контакт с читателем. Это пространство абсолютного комфорта.
И, судя по тому, как много женщин среди авторов направления (и как плотно эссеистика и эмансипация в принципе шли рука об руку последние сто лет), эта практика стала возможной именно благодаря постепенному отходу от андроцентричного взгляда. Она и есть альтернатива выработанному карьеру, где веками добывали мысль и опустошили недра. Она и есть напитанная земля, которая всё это время стояла непаханой.
Сегодня иной опыт наконец-то выходит из тени. Гетто женской литературы больше не существует — литература стала дорогой без ограничительных полос, и женщины проявляют давно созревшие в них… вещи. Я не назову их творческими методами и не назову их методами постижения мира. Потому что в эпоху проявления феминного голоса, второго, уравновешивающего голоса, метод самопроявления и метод проявления мира (творческой энергии и энергии наблюдения) абсолютно неделимы.
И оказывается, что такой метод может принести немало именно тем, кто нуждается в помощи не философским утешением или слепой лирикой, а безжалостной честностью — имеющей большую силу объединения и коупинга, то есть потенциала справиться.
О некой новой честности, жестковатой на поворотах, острой в подаче, мне хотелось говорить еще раньше, когда не было особой необходимости справляться и когда женская литература только начинала занимать больше места в моем читательском рационе. Самыми любимыми и самые безжалостными книгами последних лет были «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары, «Рюрик» Анны Козловой, «Девочки» Эммы Клайн, «Мой год отдыха и релакса» Отессы Мошфег, тексты Натальи Мещаниновой и Дарьи Серенко.
Конечно, всё это очень разные истории и нет надобности притягивать их за уши (к тому же децентрализованность — тоже своего рода черта нового видения), но кое-что отметить можно. Во-первых, очевидно бо́льшая близость опыта, облегчение от того, что можно наконец сменить фокус и не засовывать себя в мужские ботинки. Во-вторых — непривычная полисенситивность, умение воспринимать мир сразу всеми органами чувств, опустить нарративный взгляд из головы куда-то в центр себя и оттуда находить слова и сравнения для ощущений, цвета, движения, запаха и вкуса. Богато синонимизированные зелень Янагихары, жара Арундати Рой, войлочная пыль Оксаны Васякиной, заоконный морозец Марии Галиной. Всё это приглашения к соощущению, а не просто инструменты фонового психологизма.
И в-третьих, качество, особенно остро актуализированное в неопределенно-личном жанре автофикшена: ультимативная честность, отказ от непроницаемости слова, от толстых стен структуры (структура всегда заставляет врать — это знает каждый, кто когда-нибудь пробовал писать что угодно, даже рецензию). Смиренная честность присутствия, а через нее — особая взрослость, не только в плане признания ответственности за свою жизнь, но и эволюционной взрослости человека, который, чтобы позволить себе так писать, должен был кое-что непростое понять про то, как устроен мир и как слой за слоем с него сходят черные полосы цензуры и блюра.
И в момент, когда мир перешел в острую фазу сумасшествия, когда стал разрушаться мой частный порядок, когда одна за одной посыпались потери, я обнаружила себя читающей. Я не ахти какой читатель и запоем не читала со времен университета. Теперь же чтение оказалось моим главным занятием, томики книг стали пенопластовыми буйками, за которые я хваталась в холодеющем море. И основную их часть составлял именно автофикшен.
Искать книги не пришлось, они находили меня сами. Их дарили, их выпускали любимые издательства, они просились в руки со случайных полок. Очень важную книгу черного периода, «В царстве голодных призраков» Габора Матэ, я просто наобум ткнула в предложке «Лабиринта». Это что-то между врачебными воспоминаниями, научным исследованием, повестью и личным дневником — образное описание жизни и смерти обитателей отелей для наркозависимых, переходящее в рассказ об эскапизме автора и причинах побега от реальности как таковых. Опыт врачебной практики там, где каждый день маячит точка невозврата, дает «непогрешимо конкретную», словами Дидион, картину того, как работает выживание, что дает ему шансы, а что — отнимает.
В отличие от популярного жанра врачебного нон-фикшена, рассказ Матэ о технологии зависимости лишен бодрых убеждений. Он построен на процессе, а не на желании что-то сконструировать. Это делает его более художественным, поддерживающим, вызывающим доверие и в то же самое время несовершенным — здесь не дают гарантий, не округляют метафоры и не прячутся. Сам автор в ходе повествования незаметно переходит от авторитетной фигуры доктора, уговаривающего своих подопечных не ширяться перед родами, в смиренную позицию человека, который сам не может себя контролировать, пусть и в таких более социально приемлемых формах, как трудоголизм и маниакальное собирательство.
То же самое происходит и в книге Дидион. Описывая свое горевание, она довольно быстро разоблачается из знаменитой бесстрашной репортерки в потерпевшую пошатнувшегося порядка: по краям видно, как она не может сконцентрироваться на живой дочери, как ее план оплакивания выходит из-под контроля и не хочет ложиться в знакомую структуру, гладкую и трехчастную, как эссе для Vogue.
Беззащитность структуры перед хаосом наплывающего опыта видна во всех книгах о кризисе и горевании, которые я прочитала в трудное время. Главная из них — «Рана» Оксаны Васякиной — даже умудряется отрефлексировать эту беззащитность в процессе письма.
Васякина пишет о смерти матери, перетекая от формы к форме: начинает как автобиографическую повесть, сбивается на стихи, потом на трактат о стихах и в итоге признается, что теряет всякий контроль над книгой. При этом процесс горевания описан невероятно терапевтично именно из-за своей флюидности и признания в потере управления — в этом ухватывании момента, когда текст еще не дописан и стоит на беспутье, как человек, не выбравшийся из туннеля травмы. Запинка перед чудом — это и есть механизм чуда.
Умение писать о стихах дает фору в письме о смерти. «Рана» обладает образной рифмованностью поэмы, аналитическим центром критика, резцом прозаика — и эта полиинструментальность, которую раньше бы загнобили как нерешительность в выборе пути, дает дополнительные силы в описании неописуемого. Я не читала более точного высказывания о моем поколении. Об опыте девочек, выросших в девяностых с отстраненными матерями, затопленными окисленным гибридом сексуальной революции, хлынувшей через лопнувшую обшивку страны. Мне никогда не удавалось расшифровать этот портрет женщины, которая всегда смотрит куда-то мимо. Васякиной удалось — кругами, накатами приблизиться к энигме очень близко и связать ее с прошлым, чередой поколений гнева и задавленности, что позволяет наконец простить и начать процесс выздоровления.
Приближение к сердцевине боли может происходить и скрыто, где-то под ковром повествования. Героиня Рейчел Каск в «Контуре» переживает развод — но она настолько заморожена жизненным землетрясением, что предпочитает молчать. Вместо нее говорят другие люди, каждый о своем опыте, так или иначе связанном с потерей, расставанием, расслоением бытия. Но мы ловим отсветы героини не столько в содержании этих историй, сколько в их общей интонации. Все герои «Контура», от соседа в самолете до литературной знаменитости, говорят одним голосом — голосом глубинной честности — и вытаскивают из самого нутра некое основное послание (несмотря на общий голос, ни на секунду не сомневаешься в разности этих людей и в их реальности). Каск пытается представить то, как бы мы говорили друг с другом, если бы смогли всецело доверять. Интонация быстро засасывает — через какое-то время начинаешь ловить себя на том, что говоришь этим голосом. Голосом абсолютной интроспекции.
Найденный инструмент оказывается удивительно сильным — одновременно будоражащим и успокоительным. Когда он найден, сама травма, сама история становится не так важна — она уходит, как детективная загадка, и остается лишь способ ее проживать. С помощью тональности, просвечивания, возвращения в знакомый камертон.
Читая книги о горевании, я поняла, что искренность может работать не только через признание, но и через перформатив. Размеренный тон рекомендаций из книги этикета, повторяющиеся, но всегда разные серые палитры «Раны», рифмующиеся с серой сталью погребальной урны, терапевтический шепот случайных людей из «Контура», словно заставляющий весь мир сонастроиться с твоей грустью. Необходимые знания о том, как пережить девятый вал, даются исподволь и часто скорее через ритм, через рисунок. Лонг Литт Вун, например, объясняет горе… рассказывая о грибах. В книге «Путь через лес. О грибах и скорби» она предлагает практику отвлечения: неожиданно став молодой вдовой в неродной стране, она остается в изоляции и, чтобы чем-то себя занять, увлекается тихой охотой. В итоге обретает новую идентичность и связь с местом — становится членом Норвежской микологической ассоциации. Книга по большей части состоит из описаний грибов, субкультуры грибничества и даже рецептов, но вкрапления рефлексии, связанной с гореванием, выделенные специальным шрифтом, показывают нам зарубки пути сквозь темноту: Вун заговаривает нас грибными историями, спокойными, как осенняя прогулка, размеренными, как старый справочник, конкретными, как корзинка и ножик, чтобы показать мир за пределами беды и дать время перейти от этапа к этапу. То время, которое было нужно ей самой. Только человек, испытавший тяжесть потери, знает, в каком темпе и направлении ее нести.

Больше всего в этих причудливых книгах, расширяющих представление о связи документального и художественного, личного опыта и его литературного воплощения, привлекает то, что их авторы вообще не заинтересованы в поиске совершенства. Не заняты этим пассивно-агрессивном единоборством. В них делают другую работу: наконец-то говорят нам трудную правду. И это делает их очень красивыми.
Однажды этой весной психолог, ведущая кризисных групп, сказала мне, что если обобщить все эмоции, с которыми многим сейчас приходится бороться, каждому в своей мере и со своей конкретикой, то это горевание. Горевание оттого, что в мире оказалось меньше любви, чем мы надеялись.
Спокойное, честное признание внешней недостачи любви, которым пронизаны что воспоминания наркозависимых канадских индейцев, что одиночество малазийской вдовы в холодном Осло, что отчаянная борьба молодой поэтессы с российскими правилами авиаперевозки праха, это признание дефицита любви, потери напитывающей близости — не сдача позиций, не победа скепсиса. Это первый шаг к восполнению потерь, к поиску сил внутри себя. Это первый шаг в пути через лес. Первый шаг к солнцу.