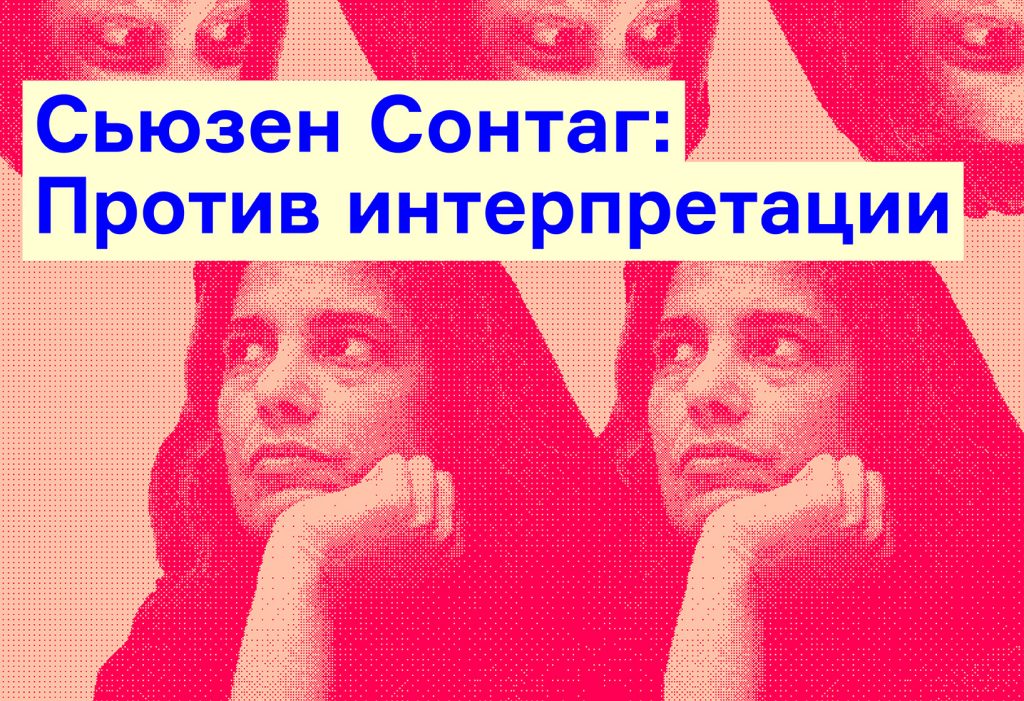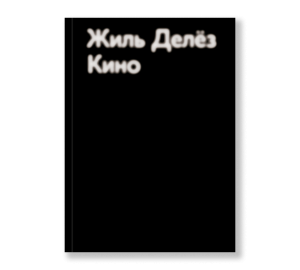Умышленный разрушитель кинематографа

«Фильмы Годара пока не стали классикой и не названы шедеврами. То есть его произведения пока не признаны нетленными, бессмертными и безусловно (и единственно) „прекрасными“», — это цитата из эссе Сьюзан Сонтаг 1968 о Жан-Люке Годаре. Публикуем его фрагмент, где Сонтаг размышляет о литературных основах фильмов Годара и сравнивает их с сериалами Луи Фейада.

В последние годы творчество Годара обсуждается с бо́льшей страстью, чем творчество всех остальных современных кинорежиссеров. Хотя он справедливо претендует на звание величайшего из режиссеров — исключая Брессона, — активно работающих в современном кинематографе, его фильмы нередко раздражают и разочаровывают интеллигентную публику и даже представляются ей невыносимыми. Фильмы Годара пока не стали классикой и не названы шедеврами — подобно лучшим работам Эйзенштейна, Гриффита, Ганса, Дрейера, Ланга, Пабста, Ренуара, Виго, Уэллса и других или, если взять недавние примеры, подобно «Приключению» (L’Avventura) и «Жюлю и Джиму» (Jules et Jim). То есть его произведения пока не признаны нетленными, бессмертными и безусловно (и единственно) «прекрасными».
Создатели кино и зрители до сих пор учатся на фильмах Годара, до сих пор спорят с ними. Тем временем Годару (отчасти из-за того, что каждые несколько месяцев он выпускает новый фильм) с легкостью удается избегать опасностей культурной канонизации — расширяя прежние проблемы, отказываясь от прежних решений или усложняя их, оскорбляя старых поклонников и приобретая столько же новых. Его тринадцатый фильм, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (Deux ou Trois Choses que je sais d’elle, 1966), пожалуй, самый аскетичный и сложный из всех его работ. Его четырнадцатый фильм «Китаянка» (La Chinoise, 1967), впервые показанный в Париже прошлым летом, в сентябре завоевал на Венецианском фестивале специальный приз жюри. Однако Годар тогда не приехал из Парижа, чтобы получить свою первую премию на крупном кинофестивале, поскольку только что приступил к съемкам следующего фильма «Уик-энд», показанного в Париже в январе следующего года.
На данный момент Годаром снято и выпущено пятнадцать художественных фильмов. Первым был знаменитый «На последнем дыхании» (A Bout de Suffle), вышедший в 1959 году. Затем появились: «Маленький солдат» (Le Petit Soldat, 1960); «Женщина есть женщина» (Une Femme est une Femme, 1961); «Жить своей жизнью» (Vivre sa Vie, 1962); «Карабинеры» (Les Carabiniers, 1963); «Презрение» (Le Mepris, 1963); «Банда аутсайдеров» (Bande a Part, 1964); «Замужняя женщина» (Une Femme Mariee, 1964); «Альфавиль» (Alphaville, 1965);
«Безумный Пьеро» (Pierrot le Fou, 1965); «Мужское-женское» (Masculin Feminin, 1966);
«Сделано в США» (Made in U.S.A., 1966).
Плюс последние три, о которых я уже упоминала. Кроме того, между 1954 и 1959 годом им были сняты пять короткометражек, из которых наибольший интерес представляют «Шарлотта и ее Жюль» (Charlotte et son Jules) и «История воды» (Une Histoire d’Eau), а также несколько «киноновелл». Первая из них, «Лень» (La Paresse), представляет собой один из эпизодов фильма «Семь смертных грехов» (Les Sept Peches Capitaux, 1961); последние три сняты в 1967 году: «Предвидение» из фильма «Древнейшая профессия в мире» (Le Plus Vieux Metier du Monde); затем одна из частей совместного фильма «Далеко от Вьетнама», выпущенного Крисом Маркером; и наконец, эпизод из еще не вышедшего итало-французского «Евангелия-70»1
На удивление много, с учетом того, что родившийся в 1930 году Годар снимал свои фильмы в сфере коммерческой киноиндустрии. Очень жаль, что многие из этих фильмов вообще не демонстрировались в Соединенных Штатах (среди них «Безумный Пьеро» и «Две или три вещи»), никогда не предлагались для артхаусного просмотра (к примеру, «Маленький солдат» и «Карабинеры»), за исключением крайне редких и непродолжительных показов в Нью-
Йорке. Хотя, конечно, не все фильмы одинаково хороши, эти пробелы существенны. Творчество Годара — в отличие от творчества большинства кинорежиссеров, художественное развитие которых носит гораздо менее личностный и экспериментальный характер, — заслуживает и в конечном счете требует знакомства с ним во всей его полноте.
Один из наиболее современных аспектов мастерства Годара состоит в том, что конечная оценка каждого из его фильмов зависит от места этого фильма в более обширном предприятии, в труде всей его жизни. В некотором смысле каждый фильм — это фрагмент, который, в силу стилистической целостности творчества Годара, проливает свет на остальные.
В самом деле, практически нельзя назвать ни одного другого кинорежиссера, кроме Брессона, который, подобно Годару, бесспорно и бескомпромиссно делал бы только авторские фильмы. (Сравним Годара с некоторыми из самых талантливых его современников: Рене после возвышенной «Мюриэли» опустился до фильма «Война окончена» (La Guerre est Finie), Трюффо после «Жюля и Джима» снял «Нежную кожу» (La Peau Douce); для каждого из них это была всего лишь четвертая картина.) То, что Годар, бесспорно, стал самым влиятельным режиссером своего поколения, объясняется его отказом изменить свою восприимчивость, при этом оставаясь совершенно непредсказуемым.
Вот качества, сделавшие Годара культурным героем, в отличие от Брессона (а также, подобно Брессону, одним из крупнейших художников своего времени): безмерная энергия, безоглядная готовность идти на риск и редкое умение работать в сфере корпоративного, в высшей степени коммерциализированного искусства.
Однако Годар не просто бунтарь-интеллектуал. Он умышленный «разрушитель» кинематографа — разумеется, не первый, но, несомненно, самый упорный и последовательный. Его подход к установленным правилам киносъемки, например к незаметному монтажу, постоянству точки зрения и четкости сюжетной линии, можно сравнить с отказом Шёнберга от тональной музыки, преобладавшей в 1910-х годах, когда в его творчестве наступил атональный период, или с вызовом кубистов, который они бросили освященным веками правилам живописи: реалистичности изображения и трехмерности живописного пространства.
Великие культурные герои нашего времени обладают двумя качествами: все они показательно аскетичны и все они великие ниспровергатели. Однако эта общая черта сочетается с двумя разными, хотя и равно убедительными установками по отношению к «культуре». Одни, подобно Дюшану, Витгенштейну и Кейджу, совмещают искусство с презрением к высокой культуре и прошлому или по меньшей мере занимают ироническую позицию неведения или непонимания. Другие — подобно Джойсу, Пикассо, Стравинскому и Годару — демонстрируют огромную тягу к культуре (скорее, к отбросам культуры, чем к музейным святыням); они жадно роются в культуре, утверждая, что их искусству ничто не чуждо.
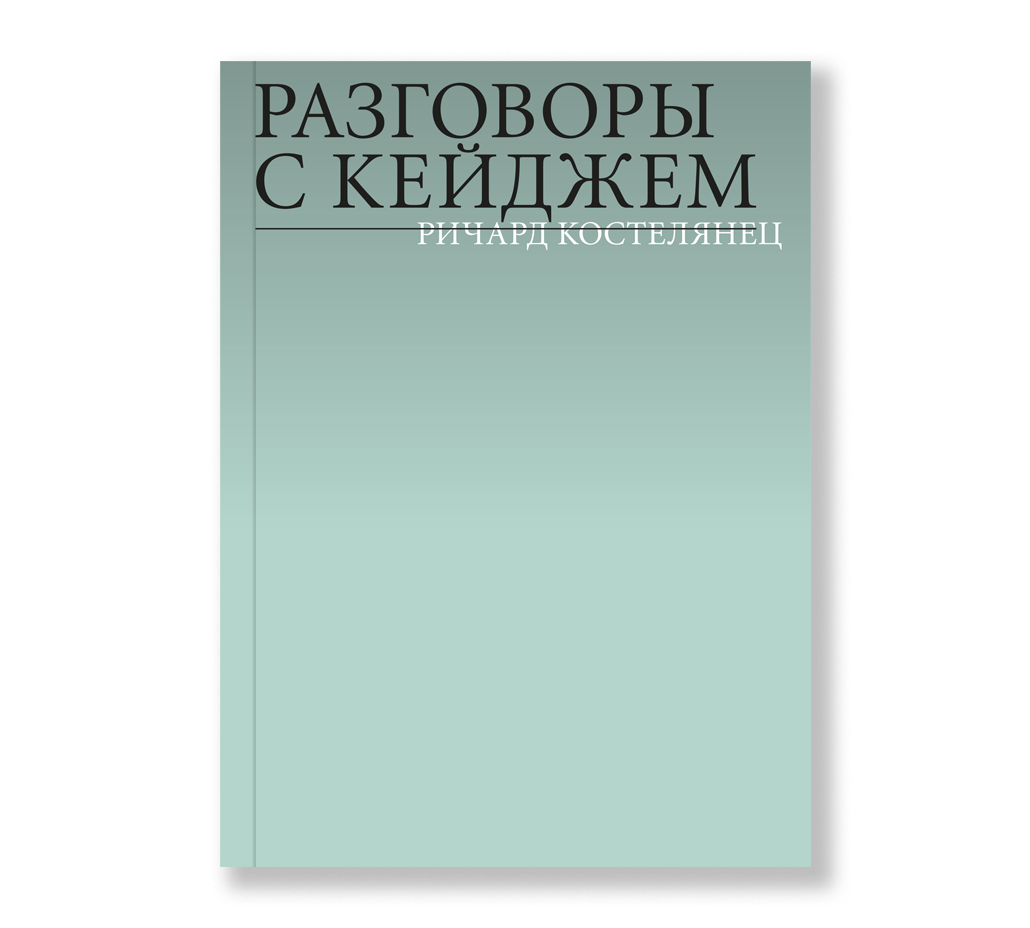
с Кейджем
На этом уровне тяга к культуре рождает произведения, представляющие собой нечто вроде субъективно составленного компендиума: это произведения невольно энциклопедичные, напоминающие антологию, формально и тематически эклектичные, отмеченные стремительной сменой стилей и форм. Таким образом, самым поразительным в творчестве Годара являются его бесстрашные попытки гибридизации. Небрежная смена тональностей, тем и методов повествования предлагает зрителю нечто вроде смеси, состоящей из Брехта, Роб-Грийе, Джина Келли, Франсиса Понжа, Гертруды Стайн, Дэвида Рисмена, Оруэлла, Роберта Раушенберга, Булеза, Раймонда Чандлера, Гегеля и рок-н-ролла. В его творчестве технические приемы литературы, театра, живописи и телевидения свободно перемешиваются c остроумными, дерзкими аллюзиями на историю кино. Эти составляющие нередко выглядят противоречивыми — когда, например, прием, заимствованный из живописи и поэзии авангарда, который Ричард Рауд называет«повествовательным методом коллажа»2, сочетается со скупой, жесткой неореалистической эстетикой телевидения (сравнить интервью, снятые прямым крупным планом, в «Замужней женщине», «Мужском-женском» и «Двух или трех вещах»), или когда Годар откровенно использует стилизованные визуальные композиции (например, повторяющиеся синие и красные тона в фильмах «Женщина есть женщина», «Презрение», «Безумный Пьеро», «Китаянка» и «Уик-энд»), одновременно стремясь к импровизации и непрерывному поиску «естественных» проявлений личности под беспристрастным взглядом камеры. Однако какими бы раздражающими ни были эти смешения в принципе, результаты, которых добивается Годар, оказываются весьма гармоничными, пластически и этически привлекательными и пробуждающими эмоции.
Сила годаровских фильмов в их нарочито рефлективном — точнее, рефлексивном — аспекте. Его творчество представляет собой впечатляющие раздумья о возможностях кино. Как я замечала выше, Годар — это первая сознательно деструктивная фигура в истории кино. Иными словами, Годар, вероятно, — первый крупный режиссер, снимающий коммерческое кино, преследуя при этом явно критические цели.
«Я остался тем же критиком, каким был всегда, работая в „Кайе дю синема“, — заявил он (Годар регулярно писал для этого журнала в 1956–1959 годах и до сих пор эпизодически сотрудничает с ним). — Единственное различие состоит в том, что прежде я писал свои критические работы, а теперь снимаю их». Однажды он назвал картину «Маленький солдат» «самокритикой»; пожалуй, это слово применимо ко всем фильмам Годара.
В фильмах Годара повествование от первого лица и тонкие, нередко юмористичные размышления о кино как средстве выражения служат не личной прихотью художника, а проявлением прочно установившейся в искусстве тенденции все больше осознавать себя и ссылаться на себя. Как и всякая важная совокупность работ в каноне современной культуры, фильмы Годара просто таковы, каковы они есть, но в качестве событий они подталкивают зрителя пересмотреть значение и возможности той формы искусства, примерами которой они выступают; они представляют собой не только произведения искусства, но и метахудожественную деятельность, направленную на реорганизацию восприимчивости аудитории. Подобная тенденция не только не вызывает у меня никакого сожаления, но я считаю, что будущее кинематографа как искусства связано с этим направлением. Однако метод, благодаря которому кино в конце XX века остается серьезным искусством, становясь все более критичным и сосредоточенным на себе, тем не менее допускает множество вариантов. Метод Годара весьма далек от торжественных, полностью осознанных, самоуничижительных построений великого фильма Бергмана «Персона». Действия Годара гораздо более легкомысленны, игривы, нередко остроумны, временами небрежны, а порой и просто глупы. Как любой одаренный спорщик (Бергман к таковым не относится), Годар не боится упрощений. Эта упрощенность многих произведений Годара выражает как некую щедрость по отношению к зрителям, так и агрессию против них; а отчасти просто становится результатом чрезмерной живости восприятия.
Стилистику, которую Годар привносит в кинематографическую среду, пренебрежительно называют «литературной». Обыкновенно под этим подразумевают чрезмерную озабоченность идеями, концептуализацию в ущерб чувственной целостности и эмоциональной выразительности, то есть склонность (вероятно, нечто вроде дурного вкуса) нарушать изначальное единство данной формы искусства, вводя в нее чуждые элементы, — так, Эрика Сати обвиняли в том, что он сочиняет литературную музыку, а Рене Магритта в том, что он пишет литературные картины. То, что Годар, в отличие от всех предшествующих режиссеров, смело взялся за задачу представить или воплотить абстрактные идеи, не вызывает сомнений. В некоторых фильмах даже появляются приглашенные интеллектуалы: вымышленный персонаж сталкивается с реальным философом (героиня фильма «Жить своей жизнью» расспрашивает в кафе Бриса Парена о языке и искренности; в «Китаянке» девушка-маоистка спорит в поезде с Фрэнсисом Джинсоном об этике терроризма); критик и кинорежиссер произносит философский монолог (в «Замужней женщине» пылкий, склонный к эпатажу Роже Ленар рассуждает об интеллекте); крупная фигура в истории кино получает возможность подновить свой несколько потускневший образ (Фриц Ланг собственной персоной, человек из хора, безымянный персонаж, рассуждающий в «Презрении» о немецкой поэзии, Гомере, кинематографе и порядочности). Многие из героев Годара афористично рассуждают вслух или вовлекают своих друзей в обсуждение таких тем, как различие между правыми и левыми, природа кино, тайна языка и духовный вакуум, скрывающийся за удовольствиями потребительского общества.
https://youtu.be/oCQNqAHRBbU
Фриц Ланг в фильме «Презрение»
Мало того, фильмы Годара не только перегружены идеями, многие из его персонажей выставляют свою образованность напоказ. Действительно, создается впечатление, что с помощью многочисленных упоминаний книг и писательских имен, цитат и длинных отрывков из литературных произведений, разбросанных по всем его фильмам, Годар вовлекается в бесконечный поединок с самим фактом существования литературы, с которой
он пытается в какой-то мере поквитаться, включив литературу и писателей в свои фильмы. К тому же, помимо изначального использования в качестве кинематографического объекта, литература интересует Годара как средство возрождения кино и его альтернатива. В интервью и собственных критических работах Годар подчеркивает, что литература, в отличие от кино, «с самого начала существует как искусство». Однако он также указывает на огромное сходство этих двух искусств: «Мы, писатели и кинорежиссеры, в отличие от музыкантов и художников, обречены на исследование мира, реальности».
Рассматривая кино прежде всего как исследование, Годар исключает любое четкое разграничение «литературного» и «визуального» (или кинематического) исследования. Если фильм, по лаконичному определение Годара, — это «анализ» того или иного явления «с помощью образов и звуков», ничто не мешает нам сделать литературу предметом кинематографического анализа. На аргумент, что подобный материал — по меньшей мере в таком объеме — чужд кинематографу, Годар, несомненно, ответил бы, что книги и другие средства культурного познания являются частью мира и, следовательно, могут фигурировать в фильмах.
Действительно, поместив в одну плоскость тот факт, что люди читают, думают и всерьез ходят в кино, и факт, что они плачут, бегают и занимаются любовью, Годар открыл новый источник лиризма и пафоса в кинематографе: в книжности, в подлинной страсти к культуре, в интеллектуальной неискушенности, в страданиях человека, задыхающегося в собственных мыслях. (Пример оригинального обращения Годара к знакомой теме, к поэтике неотесанности, неграмотности — двенадцатиминутный эпизод «Карабинеров», где солдаты распаковывают свои трофеи: почтовые открытки.)
Его мысль заключается в том, что в принципе не существует неприемлемого материала. Требуется только, чтобы литература, как и все другое, действительно обратилось в материал. Для этого вполне подойдут литературные отрывки, осколки литературы. Чтобы кино могло поглотить литературу, последнюю нужно разобрать или произвольно разделить на части; тогда Годар сможет присвоить порцию интеллектуального «содержания» любой книги (художественной или нет), заимствовать из публичной сферы культуры любой контрастный тон голоса (благородный или вульгарный), мгновенно поставить любой диагноз современной болезни, тематически актуальной для его повествования, независимо от того, насколько тот расходится с психологическими возможностями или умственными способностями его героев.
Таким образом, хотя фильмы Годара в некотором смысле можно назвать «литературными», ясно, что в основе его альянса с литературой лежат совсем другие интересы, чем те, что связывали прежних режиссеров-экспериментаторов с авангардистской литературой их времени. Если Годар и завидует литературе, то не столько ее формальным инновациям, осуществленным в XX веке, сколько ее тяжкой ноше — способности к открытому формированию идей, присущей прозаическим литературным формам. Какие бы идеи относительно формальных инноваций в кино Годар ни почерпнул при чтении Фолкнера, Беккета или Маяковского, явно выраженный литературный вкус (его собственный?), присутствующий в его фильмах, служит преимущественно средством обретения более публичного голоса или выработки более общих суждений. В то время как авангардистская традиция в кинематографе в основном сводилась к «поэтическим» фильмам (вроде тех, что в 1920–1930-х годах делали сюрреалисты, вдохновленные освобождением современной поэзии от повествовательного нарратива и последовательного изложения, наряду с возможностью прямой презентации и чувственных,
поливалентных ассоциаций идей и образов), Годар создал, в сущности, антипоэтическое кино, основной литературной моделью которого служит прозаическое эссе.
Он даже заявил: «Я считаю себя писателем-эссеистом. Я пишу эссе в форме романов или романы в форме эссе». Заметим, что здесь Годар не проводит различия между романом и фильмом, — в некотором смысле так оно и есть, ибо кинематограф отягощен традицией романа; к тому же Годара подстегивает пример современного романа3. «Я нашел идею романа, — бормочет герой „Безумного Пьеро“, отчасти в насмешку над собой подражая голосу Мишеля Симона. — Описывать не жизнь и людей, а просто жизнь, жизнь саму по себе. То, что между людьми, пространство… звук и цвет… Должен быть способ это сделать; Джойс пытался, но надо, надо… сделать лучше». Наверняка, Годар говорит здесь от своего лица как режиссер, и, кажется, он уверен, что кино может сделать то, чего не может литература; при этом неспособность литературы отчасти объясняется менее благоприятной критической ситуацией, в которой находится любое значительное литературное произведение.
Я уже говорила, что творчество Годара сознательно разрушает прежние кинематографические условности. И эта задача по разрушению выполняется с напором человека, работающего в том виде искусства, который представляется ему молодым, стоящим на пороге величайших достижений, а не в конце пути. Годар считает разрушение старых правил конструктивным — по контрасту с общепризнанными взглядами на судьбу литературы. Как он писал, «литературные критики часто превозносят такие произведения, как „Улисс“ и „Конец игры“, потому что они исчерпывают определенный жанр, захлопывают перед ним двери. Однако в кино мы хвалим те произведения, которые открывают двери».
Связь с образцами, предложенными литературой, проливает свет на значительную часть истории кино. Кинематограф, который в силу его двойственного статуса поддерживают и финансируют и как массовое развлечение, и как вид искусства, остается последним бастионом ценностей литературы и театра XIX века даже для тех, кто способен понимать и даже получать удовольствие от таких модернистских романов, как «Улисс», «Между актов», «Безымянный», «Голый завтрак» и «Бледный огонь», от разрушительно лишенных драматизма драм Беккета и Пинтера, а также от хеппенингов. Как правило, критики Годара утверждают, что его сюжеты недраматичны, произвольны, а часто и вовсе бессвязны, что его фильмы эмоционально холодны и статичны — если не считать суетливых, бессмысленных движений, — перегружены не поддающимися драматизации и невнятными идеями. Его хулители не понимают, что Годар намеренно не стремится к действиям, в отсутствии которых его упрекают. Поначалу зрители принимают резкие монтажные переходы в фильме «На последнем дыхании» за признак непрофессионализма или упорного презрения к самоочевидным правилам техники съемки; на самом деле ощущения, будто камера случайно замерла на несколько секунд и вновь пришла в движение, Годар упорно добивался в монтажной, вырезая куски из совершенно ровных кинокадров. (Если посмотреть «На последнем дыхании» сегодня, то прежде заметные «несовершенства» монтажа и странности съемки переносной камерой почти незаметны, так часто подражают этой технике сейчас.) Таким же намеренным выглядит пренебрежение Годара к формальным условностям киноповествования, основанным на романе XIX века: причинно-следственная цепь событий, кульминационные сцены, логическая развязка. Несколько лет назад на Каннском кинофестивале Годар поспорил с Жоржем Франжю, одним из самых талантливых и признанных французских режиссеров старшего поколения. «Но наверняка, мсье Годар, — говорят, в отчаянии воскликнул Ф., — вы хотя бы признаете, что в ваших фильмах должны быть начало, середина и конец». — «Разумеется, — ответил Годар, — но не обязательно в таком порядке».
Беспечность Годара представляется мне вполне оправданной. Однако меня искренне удивляет, что кинорежиссеры, вовсю используя тот факт, что «показанное» (или услышанное) в фильме неизбежно происходит в настоящем, до сих пор не осознали, что повествование не обязательно должно сводиться к форме романа. Как я уже указывала, до сих пор единственной альтернативой был полный разрыв с формальными структурами художественной прозы, отказ от «сюжета» и «действующих лиц». Эта альтернатива, используемая только в некоммерческом кино, получила свое воплощение в «абстрактных» или «поэтических» фильмах, построенных на ассоциации образов. В отличие от них метод Годара остается нарративным, хотя и лишенным реалистичности и опоры на психологическое объяснение, которое обычно связывают с серьезным романом. Из-за того, что фильмы Годара не столько порывают с условностями художественной прозы, лежащей в основе главной кинематографической традиции, сколько видоизменяют их, они поражают многих зрителей гораздо больше, чем откровенно «поэтические» или «абстрактные» фильмы официального кинематографического авангарда.
Какими бы нелепыми ни казались его сюжеты многим людям, было бы неверно назвать фильмы Годара бессюжетными, как, например, фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», два немых фильма Бунюэля («Золотой век» и «Андалузский пес») или фильм Кеннета Энгера «Восход Скорпиона», в которых режиссеры полностью отказались от сюжетной линии как повествовательной основы. Как и в большинстве художественных фильмов, в картинах Годара показаны взаимосвязанные группы вымышленных героев, помещенных в узнаваемую постоянную среду, в данном случае обычно в современную городскую (Париж). Но несмотря на то, что последовательность событий в фильмах Годара предполагает внятный сюжет, она не выстраивается в логическую схему; зрителю показывают сюжетную линию, которая частью вычеркнута или удалена (структурный эквивалент резкого монтажного перехода). Пренебрегая традиционным правилом романа объяснять вещи настолько, насколько это необходимо, Годар предлагает упрощенные причины, а нередко просто оставляет их без объяснения; действия героев часто непонятны и не образуют последовательности; время от времени сам диалог неразборчив. (В других фильмах, например в «Путешествии в Италию» Росселлини или в «Мюриэли» Алена Рене, также используется «нереалистичная» система повествования с делением сюжета на отдельные элементы, однако Годар, единственный кинорежиссер, создавший множество подобных фильмов, предложил больше разнообразных путей «абстрагирования» от якобы реалистичного повествования, чем все другие режиссеры. Важно также проводить различие между разными видами абстрагирования, например между систематично «неопределенным» сюжетом «Персоны» Бергмана и «дискретными» сюжетами фильмов Годара.)
Хотя нарративные средства Годара заимствованы скорее из литературы, чем из кинематографа (по меньшей мере в своих высказываниях и интервью он никогда не ссылается на авангардистское прошлое кинематографа, зато нередко упоминает в качестве образцов произведения Джойса, Пруста и Фолкнера), он никогда не пытался и вряд ли попытается в будущем экранизировать какое-либо серьезное произведение современной литературы, разрушившей традиционную форму романа. Напротив, подобно многим кинорежиссерам, Годар предпочитает посредственный и даже слабый литературный материал, чтобы с ним было легче работать и трансформировать в ходе постановки. «В сущности, я не любитель рассказывать истории, — писал Годар, несколько упрощая вопрос. — Я предпочитаю использовать нечто вроде канвы, вышивая по ней собственные идеи. Но обычно мне нужна история. Шаблонная история подходит не хуже, а возможно, даже лучше».
Так, Годар безжалостно называет роман Альберто Моравиа «Полуденный призрак», легший в основу его блестящего «Презрения», «книгой, полной старомодных сантиментов, которую приятно почитать в дороге. Но именно из таких романов получаются лучшие фильмы». Хотя картина Годара достаточно близка к роману Моравиа, обычно его фильмы имеют отдаленное отношение к литературному источнику. (Более типичным примером служит «Мужское-женское», в котором почти не проглядывается связь с рассказами Мопассана «Подруга Поля» и «Знак», откуда Годар черпал вдохновение.)
Независимо от близости фильма к тексту оригинала, большинство романов, выбранных Годаром в качестве точки отсчета, — это истории с крепким сюжетом и напряженным действием. Особенно нравится ему американский китч: фильм «Сделано в США» основан на романе Ричарда Старка «Взломщик», «Безумный Пьеро» — на книге Лайонела Уайта «Одержимость», «Банда аутсайдеров» — на «Золоте дураков» Долорес Хитченс. Годар обращается к популярной американской традиции нарратива как к плодотворной и прочной основе для собственных антинарративных предпочтений. «Американцы умеют хорошо рассказывать истории, французы нет. Флобер и Пруст не умели рассказывать, они делали что-то другое». Хотя «что-то другое» и есть цель устремлений Годара, он понял, что удобнее начинать с незатейливого повествования. Намек на эту стратегию содержится в памятном посвящении, предпосланном фильму «На последнем дыхании»: «Посвящается „Монограм пикчерс“». (В первоначальной версии фильм «На последнем дыхании» шел вообще без титров, и первым кадрам предшествовало только это краткое приветствие самым производительным поставщикам малобюджетных боевиков в 1940-х — начале 1950-х годов.) В данном случае Годар не был дерзок или непочтителен, разве что чуть-чуть. Мелодрама — неотъемлемая часть его сюжета. Вспомним детективные расследования в «Альфавиле», выдержанные в стиле комиксов; романтику гангстерских фильмов в «Банде аутсайдеров», «На последнем дыхании» и «Сделано в США»;
атмосферу шпионского триллера в «Маленьком солдате» и «Безумном Пьеро». Мелодрама, со свойственными ей преувеличениями, прямолинейностью и непрозрачностью «действия», предоставляет основу для усиления реалистических приемов серьезного киноповествования и выхода за их пределы, однако не обрекает фильм на явную эзотерику (как это было с сюрреалистическими фильмами). Адаптируя знакомый второразрядный, банальный материал — распространенные мифы о насилии и сексе, — Годар получает значительную свободу в «абстрагировании», не упуская случая привлечь поклонников коммерческого кино.
То, что материал такого рода пригоден для абстрагирования — и даже содержит в себе его зародыш, — прекрасно показал Луи Фейад, один из первых великих кинорежиссеров, работавших с низким жанром криминальных сериалов («Фантомас», «Вампиры», «Жюдекс», «Ти Минь»). Эти сериалы (лучшие из которых были сделаны между 1913 и 1916 годом), как и второсортные литературные модели, легшие в их основу, мало соответствуют общепринятым критериям правдоподобия. Пренебрегая психологией, интерес к которой уже заметен в фильмах Гриффита и Демилля, повествование населено взаимозаменяемыми персонажами и настолько изобилует случайностями, что следить за развитием событий можно только в самых общих чертах. Однако судить о фильме следует не по этим критериям.
Реализм его фильмов относится только к изображению на экране (Фейад был одним из первых европейских кинорежиссеров, широко применявшим натурные съемки); остальное неправдоподобно: необузданность поступков, вписанных в это физическое пространство, бешеный ритм, формальная симметрия и повторяемость действий. В фильмах Фейада, как и в некоторых ранних фильмах Ланга и Хичкока, режиссер доводит мелодраматическое повествование до абсурда, так что действие начинает походить на галлюцинацию. Конечно, подобный перевод реалистического материала в логику фантазии требует щедрого использования эллипсиса. При доминировании временных и пространственных моделей, а также абстрактных ритмов действия, само действие неизбежно становится «туманным». С одной стороны, у подобных фильмов, разумеется, есть сюжет — в самом прямом смысле слова, так как они изобилуют действием. Но, с другой стороны, к тому, что касается последовательности, логичности и окончательной внятности событий, сюжет вообще не имеет никакого отношения. Утрата пространных текстовых вставок в некоторых фильма Фейада, сохранившихся в единственном экземпляре, почти не имеет значения, как не имеет значения восхитительная непроницаемость сценариев «Глубокого сна» Говарда Хоукса и «Целуй меня насмерть» Роберта Олдрича. Подобные киноповествования обладают эстетической и эмоциональной ценностью как раз благодаря своей непонятности; точно так же «непрозрачность» некоторых поэтов (Малларме, Реймона Русселя, Уоллеса Стивенса, Уильяма Эмпсона) — это важное техническое средство пробуждения и соединения нужных эмоций, установления иных уровней и элементов «смысла». Непрозрачность сюжетов Годара (в этом направлении особо выделяется фильм «Сделано в США») не менее функциональна, это
часть программы по абстрагированию его материала.
В то же время Годар, независимо от материала, сохраняет живость своих упрощенческих литературных и кинематографических моделей. Даже когда он использует нарративные приемы романов в стиле «нуар» и голливудских триллеров, преобразуя их в абстрактные элементы, он реагирует на их свободную чувственную энергию и вводит некоторые из них в свои произведения. В результате большинство его фильмов оставляет впечатление скорости, временами граничащей с поспешностью. Темперамент Фейада представляется более строптивым. В пределах нескольких весьма ограниченных тем (таких как изобретательность, беспощадность, физическая ловкость) фильмы Фейада демонстрируют неисчерпаемое число формальных вариаций. Поэтому его выбор формы сериала с открытым концом полностью оправдан. После двадцати серий «Вампиров», почти семи часов просмотра, становится ясно, что подвиги великолепной Мусидоры и шайки бандитов в масках под ее началом не требуют завершения, как и тонко выверенная борьба сверхпреступника и сверхдетектива в «Жюдексе». Ритм событий, установленный Фейадом, подчинен бесконечным повторениям и украшениям, подобно долго лелеемым сексуальным фантазиям. Фильмы Годара разворачиваются в абсолютно другом ритме; им не хватает единства фантазии, наряду с навязчивой серьезностью и бесконечными, несколько механистичными повторами.
Эти различия, возможно, объясняются тем, что галлюцинаторное, абсурдное, абстрагированное, наполненное действием повествование, являясь главным ресурсом для Годара, не контролирует форму его фильмов, как это было у Фейада. Хотя мелодрама остается на одном конце художественных средств Годара, на другом возникают ресурсы факта.
Импульсивный, отстраненный тон мелодрамы контрастирует с серьезностью и сдержанным негодованием социального разоблачения (обратите внимание на постоянно всплывающую тему проституции, которая возникает в самом первом фильме Годара, короткометражной «Кокетке» (Une Femme Coquette, 1955), и вновь всплывает в фильмах «Жить своей жизнью», «Замужняя женщина», «Две или три вещи» и «Предвидение») и даже с более холодным тоном прямой документальности и квазисоциологии (в фильмах «Мужское-женское», «Две или три вещи», «Китаянка»).
Хотя Годар и заигрывал с идеей сериала, как в конце «Банды аутсайдеров» (где обещан так и не снятый сиквел, рассказывающий о дальнейших приключениях героя и героини в Латинской Америке), так и в общей концепции «Альфавиля» (задуманного как последнее приключение французского героя сериалов Лемми Кошена), его фильмы нельзя с уверенностью отнести к одному жанру. Открытый конец годаровских фильмов означает не гиперэксплуатацию какого-либо жанра, как в картинах Фейада, но последовательное развертывание разных жанров.
Так, в «Безумном Пьеро» движущая сила сюжета — скука и пресыщенность Марианны. В какую-то минуту она произносит прямо в камеру: «Оставим роман Жюля Верна и вернемся к roman policier4 со стрельбой и всем остальным». В фильме «Женщина есть женщина» Альфредо, которого играет Бельмондо, и Анжела в исполнении Анны Карины говорят, что хотели бы стать Джином Келли и Сид Чарисс в голливудском мюзикле с хореографией Майкла Кидда. Паула Нельсон в начале фильма «Сделано в США» замечает: «Уже кровь и тайна. Мне кажется, я в фильме Уолта Диснея с Хамфри Богартом в главной роли». Эта ремарка показывает, до какой степени «Сделано в США» — это одновременно фильм политический и аполитичный. То, что герои Годара время от времени выглядывают из «действия», чтобы поместить себя в качестве актеров в фильм, лишь отчасти шутка Годара-режиссера; это прежде всего ироничное опровержение приверженности какому-либо одному жанру или способу рассмотрения действия. Если организующий принцип фильмов Фейада — это сериальное повторение и зацикленность на развитии сюжета, то организующий принцип Годара — соседство противоположных элементов непредсказуемой продолжительности и ясности. В то время как в работах Фейада искусство неявно воспринимается как удовлетворение и продолжение фантазии, работы Годара подразумевают совсем иную функцию искусства: функцию чувственного и интеллектуального сдвига. Каждый из годаровских фильмов образует единство, разрушающее себя; разъединенное единство (по выражению Сартра). <…>
Февраль 1968
Примечания:
[1] Впоследствии фильм вышел под названием «Любовь и ярость».
[2] В превосходной книге «Годар» (New York: Doubleday and Co., 1968), первом серьезном исследовании творчества Годара на английском. — Примеч. автора.
[3] С исторической точки зрения может показаться, что современная литература испытывает гораздо более сильное влияние кино, чем наоборот. Однако вопрос влияния сложен. К примеру, чешский кинорежиссер Вера Хитилова заявила, что моделью для ее блестящего фильма «О чем-то ином», сделанного в форме диптиха, послужили перемежающиеся повествования в сериале «Дикие пальмы»; однако удачным примером сильнейшего влияния кинематографической техники на литературу могут служить нарративные конструкции зрелого Фолкнера. Годар, вдохновленный той же книгой Фолкнера, хотел, чтобы два фильма, снятые им в 1966 году, «Сделано в США» и «Две или три вещи», демонстрировались вместе, причем за отрывком из одного следовал отрывок из другого. — Примеч. автора.
[4] Детективный роман (франц.).