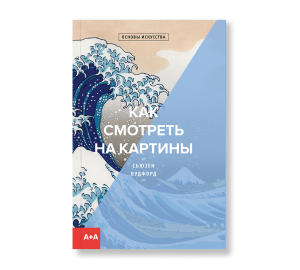Как думает краска

В 2013 году Ad Marginem совместно с Музеем «Гараж» выпустили перевод книги Джонатана Литтелла «Триптих. Три этюда о Фрэнсисе Бэконе». К выходу новой книги Мартина Гейфорда «Модернисты и бунтари», где Бэкон — один из основных героев, публикуем отрывок из книги Литтелла (тираж которой, увы, давно закончился).

По-моему, говорить о живописи очень трудно… Живопись — мир в себе, она самодостаточна. Как правило, когда речь идет о живописи, ничего интересного не говорится. Все это довольно поверхностно. Что тут можно сказать? В общем, я считаю, что говорить о живописи просто нельзя, невозможно, и все тут.
Фрэнсис Бэкон, апрель 1992-го
Живопись не только отображает, она думает.
Юбер Дамиш
Фрэнсис Бэкон был человеком, глубоко сознававшим тщетность всех человеческих стремлений, бренность тела, хрупкую, случайную природу наиболее сильных чувств, дьявольской жестокости, просачивающейся через повседневную ткань жизни. «В самом факте рождения заключен неимоверный ужас», — полагал он, следуя в этом Софоклу и мадам дю Деффан; однако живопись для него не являлась протестом против чего бы то ни было, это был лишь способ справиться с ежедневным существованием, способ самый лучший и интересный, а также возможность — тайно, хотя и у всех на виду — отделаться от своих наиболее сокровенных призраков.
«Для художника важно писать, и больше ничего», — сказал он Мишелю Аршимбо незадолго до смерти. Причем необязательно писать — просто так выходило у него, с того самого дня, когда он, еще не достигнув двадцатилетия, увидел на выставке Пикассо и решил: вот что я хочу попытаться сделать. Он не торопился; по-настоящему писать он начал лишь ближе к сорока годам, а величайшие свои работы произвел, когда ему было под шестьдесят. В работу он вкладывал все, что в нем было: свою бесконечную тоску от жизни, свою любовь к коже, телу, цвету, свою слабость и свои желания, и вину, свою ярость и невнятные стремления. Людям картины казались ужасными, хотя он подчеркивал, что никогда не пытался быть ужасным. «Нельзя быть ужаснее, чем сама жизнь», — вставил он однажды в разговор. Он всего лишь тянулся к неистовству реальности; но, как некогда сказал Т.С. Элиот, «ведь людям труднее всего, когда жизнь реальна» («Четыре квартета», пер.А.Сергеева — примечание Ad Marginem). Его картины с самого начала вызывали непонимание и неверные заключения, а также весьма суровый отпор. Как пишет Джон Расселл в своем основополагающем труде 1971 года «Фрэнсис Бэкон», «Три этюда фигур в ногах Распятия», впервые выставленные в лондонской галерее Лефевр в начале апреля 1945-го, были восприняты на удивление отрицательно: «Они вызвали полнейшее оцепенение… Их сочли уродами, монстрами, не имеющими отношения к заботам нынешнего дня, продуктом воображения столь эксцентричного, что его никоим образом невозможно воспринимать всерьез».
Фрэнсис Бэкон. Три этюда для распятия. 1966. Музей Соломона Гуггенхайма. Нью-Йорк
При этом в тот же месяц Ли Миллер оказалась в концлагере Дахау, и страшные фотографии, которые она опубликовала, должны были продемонстрировать публике насущную связь образов Бэкона с жизнью — и смертью, — которую по-прежнему день за днем претерпевали миллионы европейцев. Во время послевоенного затишья нападки, разумеется, лишь усилились; в 1946 году картины Бэкона осудили как «тревожные, извращенные, зловещие», а его первая персональная выставка в 1949-м, куда был включен его первоначальный образ папы Веласкеса Голова VI, была, как отмечает Мартин Харрисон в книге In Camera, «встречена эпитетами „отталкивающая“, „жестокая“ и „кошмарная“… Выпады критиков, сделавшиеся в то время нормой, — заключает он, — отнюдь не прекратились полностью». Даже британский писатель Джон Бёрджер, один из наиболее тонко чувствующих арт-критиков последних пятидесяти лет, пренебрежительно назвал Бэкона художником-«конформистом» и вызвал скандал, сравнив его с Уолтом Диснеем. В Америке, где абстрактный экспрессионизм давно занимал доминирующую позицию среди критиков, отпор был еще категоричнее: ретроспектива Бэкона в музее искусств Метрополитен в 1975 году привела Хилтона Крэмера, журналиста «Нью-Йорк таймс», к выводу: «В мире, где работы м-ра Бэкона смотрят, покупают, оценивают и обсуждают, открыто заявлять о своем гомосексуализме, торговать образами сексуального насилия и собственного садизма — позиция куда менее шокирующая, чем быть, скажем, открытым сторонником методистской церкви». Однако все это, кажется, не особенно беспокоило Бэкона: «То, как люди воспринимают мои работы, — не моя проблема, это их проблема. Я пишу не для других, я создаю картины для себя».
Действительно, что бы в этих картинах ни говорилось, говорилось прежде всего самому себе, он писал, чтобы понять определенные вещи, а не рассказать нам то, что уже знает; ведь если бы он это уже знал, то рисовать не было бы нужды — не было бы нужды заставлять краску думать, обдумывать эти вещи за себя.
Чтобы понять живопись, надо, по словам Юбера Дамиша, не просто смотреть на то, что она отображает, — надо видеть, как она думает.
***
Вскоре после «Трех этюдов», в 1946 году Бэкон написал большое полотно, до сих пор называемое просто «Картина», одну из самых странных своих работ, образы которой сочетают в себе мясные туши, задернутые шторы в округлой комнате, сцену на возвышении с микрофонами и драпировкой и человека в костюме с дикарским разинутым ртом, верхняя часть лица которого скрыта под черным зонтом. Впоследствии Бэкон объяснял: «Я пытался изобразить птицу, спускающуюся на поле. И… внезапно линии, которые я нарисовал, стали намекать на нечто совершенно другое, и из этого намека возникла картина. У меня не было намерения это писать; я никогда не думал об этом в подобном ключе. Так вышло — как будто сплошные случайности навалились друг на дружку».
Фрэнсис Бэкон. Картина. 1946. Музей современного искусства. Нью-Йорк
Открытый зонт, по-видимому, происходит от птицы, возможно — от зонтичной птицы, как предполагает Мартин Харрисон. Харрисон, который называет зонт «обычным приемом фаллического символизма сюрреалистов», отмечает, что Бэкон использовал его дважды за год до того, и связывает это с «многочисленными фотографиями голливудских съемочных групп 1920-х годов, когда зонт был стандартным оборудованием — им прикрывали камеру». На более ранней картине, «Этюд фигуры II» (которая сама является переработкой «Этюда фигуры I»), обнаженный человек, предположительно мужчина, выставляет ягодицы, при этом целомудренно прикрытые мужским твидовым пальто в елочку; зонт возвышается над его плечами, а чуть впереди — не вполне соединенный с телом, распахнутый в удивленном экстазе (или расстройстве?) рот, верхняя часть лица тоже отсутствует, хотя и не полностью скрыта под тенью зонта. Спустя двадцать пять лет после оригинала Бэкон переписал «Картину», упростив ее, но оставив зонт, теперь ставший бежевым. Правда, зонт уже возникал у него по новой в предыдущем, 1970 году — тогда он обрамлял верхнюю часть тела безголовой обнаженной женской фигуры на центральной панели работы «Триптих — Этюды человеческого тела». И Бэкону предстояло вернуться к нему еще раз в «Триптихе 1974–1977», где он фигурирует дважды, на каждой из боковых панелей, снова прикрывая своей тенью две мужские фигуры; если тот, что слева, упрятал голову в зонт, то лицо фигуры справа — впервые за всю эту длинную серию — показано: это умерший любовник Бэкона Джордж Дайер, глаза его закрыты. Зонту предстоит возвратиться еще один, последний раз — если не ошибаюсь — в 1978 году, когда появилась «Сидящая фигура»: на этот раз лицо фигуры снова скрыто под зонтом, видны лишь нос и нижняя челюсть; у ног, поднимаясь от низа холста, лежит профиль того же Джорджа Дайера, нарисованный незамысловато, бюст или вырезанный силуэт. Роль или функция этого зонта, его настойчивые возникновения и вариации, сложная грамматика его ассоциаций ставят, как мне кажется, интересный вопрос. Почему он постоянно навязывается таким образом художнику — и нам?
Джордж Дайер
Большинство людей, глядя на картину Фрэнсиса Бэкона, предполагают, можно сказать, не задумываясь, что фигура человека или животного перед ними и есть главный предмет этой картины. Однако это не совсем так: фигура — изображенный на картине объект; предметом же, как и во всей живописи, не только в живописи абстрактной, является сама краска. Именно краска повествует о сути дела.
Будучи языком, она обладает собственной фонологией (соотношением тона и насыщенности) и собственной морфологией (расположением формы на холсте), собственными грамматикой и синтаксисом, чьи особые организация и выражение в работе каждого художника — единственное, что способно научить тебя эту работу читать. Тщательное изучение объектов, конечно, чрезвычайно важно, и большое количество появившихся трудов, посвященных источникам работ Бэкона, оказалось, подобно любому иконологическому подходу, мощным инструментом, пусть и быстро достигающим своих пределов, как демонстрирует недоуменный отклик Харрисона на черный зонт. Ибо грамматику Бэкона и его синтаксис необходимо читать сами по себе, в соответствии с их собственной логикой и их собственными законами. Не символически или метафорически — для этого Бэкон слишком умен, и в картинах его полным-полно намеренных ловушек и тупиков. Лучше рассуждать в терминах классических фрейдистских операций: конденсация, смещение, замещение, обращение, искажение и т.д., либо ссылаться на риторические фигуры, такие как метонимия или синекдоха, — ведь это в определенном смысле еще и вопрос риторики. Еще лучше отказаться от слишком буквального восприятия бэконовых заявлений на эту тему — его, так сказать, официального курса — и просто сосредоточить внимание на том, что он сам называл своим «техническим воображением». А главное, лучше никогда не задаваться вопросом: «Что Бэкон хотел этим сказать?», потому что он и сам этого, по сути, не знал, но вместо того спросить: «Что говорит нам эта картина?» Не жалеть времени на то, чтобы рассматривать их по-настоящему, одному ли в галерее, в толпе ли посетителей, приклеившихся к своим аудифонам, или даже сидя перед крохотными репродукциями в каталоге или на экране компьютера, рассматривать долго, возвращаясь от одной к другой, терпеливо, — мало-помалу начнешь понимать, как думает краска.
Для начала возьмем в качестве второстепенного примера жестокий «Триптих» 1987 года, три изображения, обрамленные узкими бледными прямоугольниками, которые, в свою очередь, размещены на фоне бархатного песочного и ярко-оранжевого.
Фрэнсис Бэкон. Триптих. 1987. Находится в личной коллекции
Считается, что в основе этой работы Бэкона лежит стихотворение Гарсия Лорки на смерть тореадора Игнасио Санчеса Мехиаса. На левой панели мы видим ноги обнаженного тореадора, лежащего поперек стола, с зияющей раной в бедре (ровно в треугольнике Скарпа, участке рядом с мошонкой, куда часто попадает рог быка, когда тореадор готовиться к решающей атаке), обведенной синим и отмеченной красной стрелкой; на центральной панели стоит обнаженный тореадор, его левое колено забинтовано, он поднимается на ступеньку, но изображены опять лишь его ноги и гениталии, а кровоточащая рана расположена чуть выше, заключенная в от- дельный кружок; наконец, на третьей, правой панели перед нами стилизованные бычья голова и лопатки, один рог в крови, а над этим — не поддающаяся определению фигура, похожая на птицу или летучую мышь, которую можно связать с фигурами Эриний на других полотнах Бэкона. Зачем это существо тут прячется, спросите, возможно, вы, в чем его роль? На мой взгляд, ничто не заставляет нас прочитывать это как символ трагической судьбы тореадора, символ удара возмездия, нанесенного быком за всех его убитых братьев, — напротив, здесь можно увидеть указание на то, что картина, не исключено, вообще не про быка и нанесенную им рану, как хотелось нам думать сначала, более того — как нам с сознанием выполненного долга сообщает табличка, прикрепленная рядом с полотном. Тут следует еще раз посмотреть на саму краску и на то, как она наложена. Тогда на левой панели мы сможем заметить, что «рана» в бедре бесполой фигуры по форме в точности напоминает влагалище, кровоточащее влагалище (и еще: а что делают в этой предполагаемой операционной две декоративные кисточки, возможно — шнуры от лампы, которые у Бэкона всегда ассоциируются со спальней?); что же до раны на центральной панели, то это, как видно совершенно четко и явственно, вовсе не рана, скорее женская грудь, из соска которой течет кровь, а не молоко. Если теперь сопоставить все эти факты с единственным окровавленным рогом, можно прийти к выводу: хотя эта картина вполне может быть «про» насилие в схватке между мужчинами и быками, написана она таким образом, что ее можно считать еще и (если не главным образом) картиной про насилие в сексе между мужчинами и женщинами — акте, который Бэкон, по его заявлению, испытал на себе лишь однажды, хотя заявления его необязательно принимать за чистую монету. «Живопись стремится к полному смыканию образа и краски, — писал он в 1953 году, в статье, посвященной британскому художнику Мэтью Смиту, — так что образ есть краска, и наоборот. Мазок кисти создает форму и даже не заполняет ее. Следовательно, каждое движение кисти на холсте меняет очертания и подтекст образа. Потому-то настоящая живопись — загадочная непрерывная борьба со случаем». Яснее он выразиться не мог; опять-таки вопрос тут не в том, что художник хотел сказать, — вопрос в том, что говорит наложенная им краска.