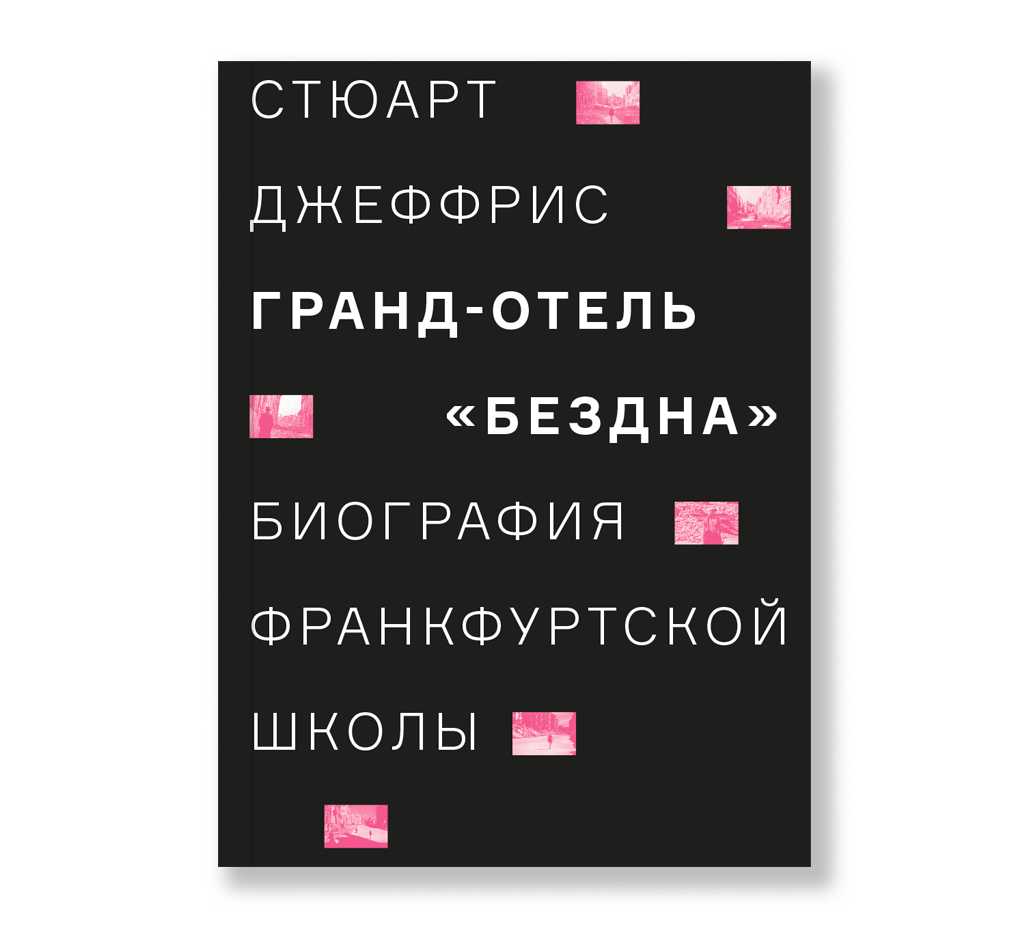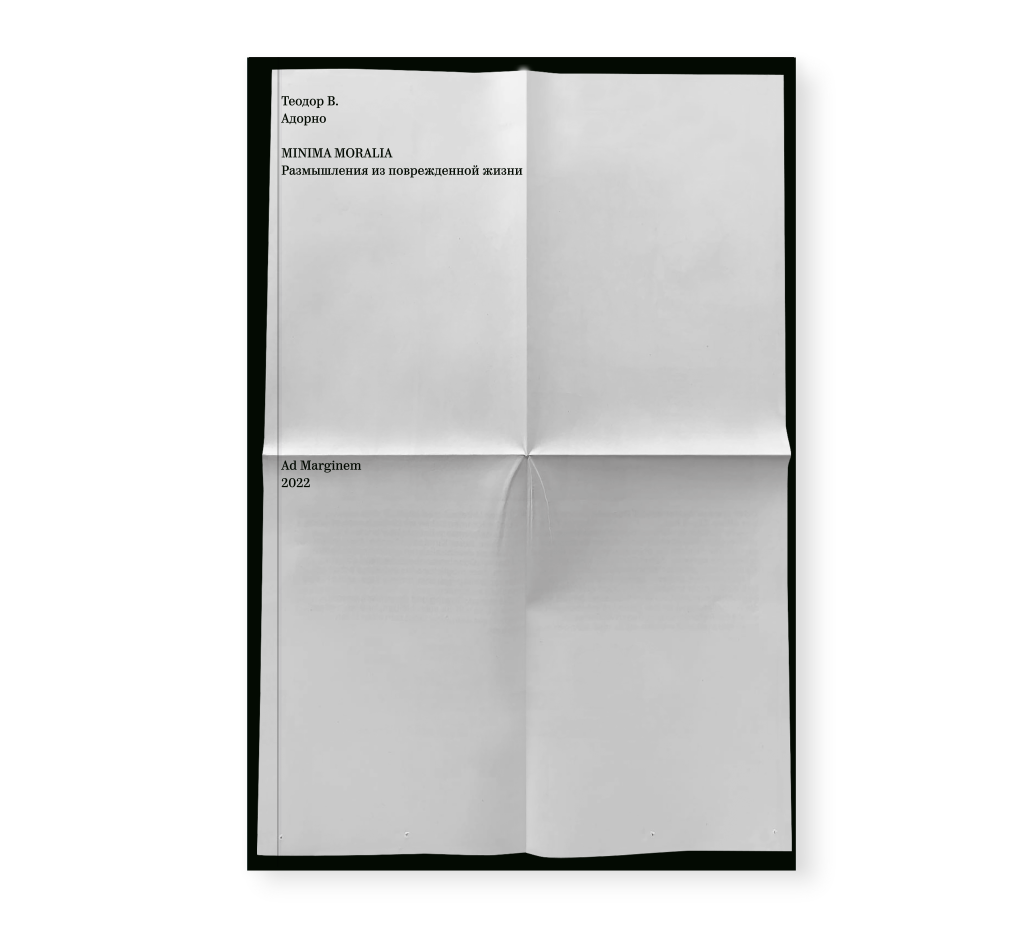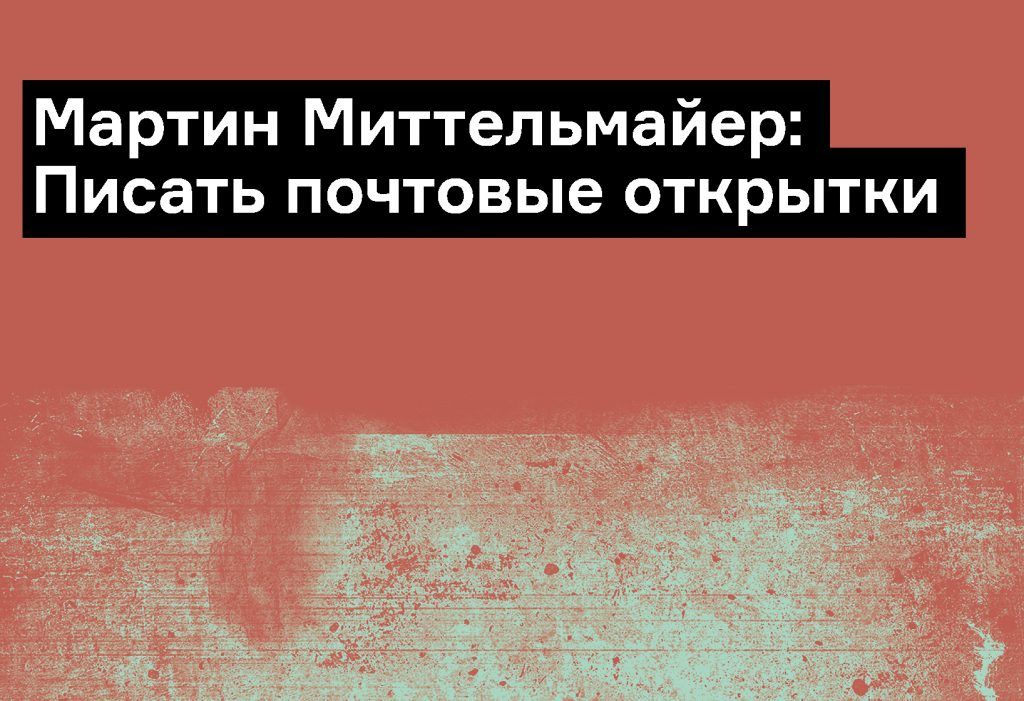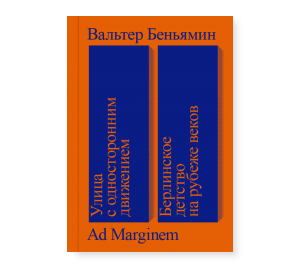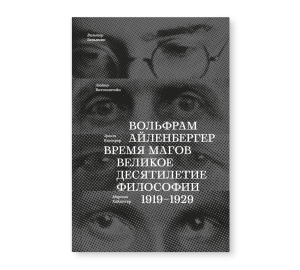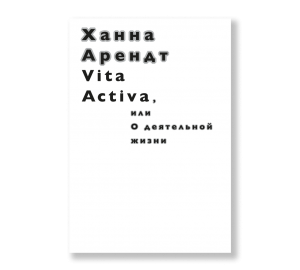«Мне стало понятно каждое слово» — в чем актуальность Адорно сегодня

Теодор Адорно начинает работать над «Minima moralia. Размышления из поврежденной жизни» в 1944 году и заканчивает уже после войны. Этой весной книга впервые выходит на русском языке. В чем актуальность Адорно сегодня, как бы он отреагировал на TikTok и как снобизм помогает нащупать мораль, — эти и другие вопросы обсудили на презентации книги 30 апреля в магазине «Фаланстер».
Александр Иванов

Игорь Чубаров

Татьяна Зборовская

Александр Иванов: Мне кажется очень важным, что наше мероприятие проходит в преддверии Вальпургиевой ночи, сакрального события, связанного со свергнутыми богами, языческим маргиналитетом, который собирался в эту ночь на горе Брокен в Саксонии со всей католической Европы. В каком-то смысле издательство Ad Marginem наследует этой традиции «сакральной маргинальности».
«Маргинальное» означает для нас и социальную маргинальность, и культурную, и политическую. В Вальпургиевой ночи нам важен этот момент деления на центр и сакральную периферию, на имеющих право голоса богов и демонов-субалтернов. Поэтому то, что мы собрались поговорить об Адорно и его книге именно сегодня, в канун Вальпургиевой ночи, представляется довольно символичным.
О подготовке русского издания
Александр Иванов: Для начала я хотел бы сказать о тех людях, благодаря которым эта книжка появилась на русском языке. И здесь меня дополнит Игорь, потому что проект издания этой книги достался нашему издательству именно от него. Он одно время работал в Издательском Центре РГГУ и там затеял серию («Современные гуманитарные исследования»), в которой вышло три-четыре книги и, в том числе, планировался выпуск Minima moralia. Игорь уже подписал договор с петербургским переводчиком Александром Белобратовым, но в какой-то момент решил расстаться с издательской карьерой, посвятив себя академической. И как-то в разговоре с ним я узнал, что проект этой книги «завис» — перевод не закончен, но тем не менее идет. Я сказал: «Игорь, я с удовольствием подхвачу у тебя это издание». Это было лет семь назад.
Через какое-то время мы получили перевод и нам пришлось обратиться к помощи редактора. Здесь сидит замечательная Татьяна Зборовская, которая совершила титанический труд. В течение почти четырех лет она работала не покладая рук, совершенно бесплатно — в уповании на честность и благородство немецких фондов и издательства. И вот мы получили, наконец, перевод.
И тут я должен сказать еще об одном человеке. Это замечательный научный редактор — Кирилл Чепурин. Философ, знаток немецкой критической теории, Кирилл совершил очень тонкую и очень важную работу по сведению воедино всего понятийного каркаса этой книги. Хотя, казалось бы, у книги афоризмов, максим, заметок и фрагментов не должно быть такого каркаса, но, тем не менее, он есть. И эти излюбленные понятия Адорно, о которых, видимо, поговорит Игорь, приведены в состояние умопостигаемости и сравнительной доступности для русского читателя. Книга обрела рациональность, которая присуща оригиналу. Также Кирилл внес огромную лепту в составление комментариев и примечаний, над которыми работали также Александр Белобратов и Татьяна Зборовская.
Я еще должен назвать моих коллег по издательству, которые внесли заметный вклад в подготовку этого издания: исполнительный директор издательства Кирилл Маевский, мой соиздатель Михаил Котомин, и наши редакторы Виктория Перетицкая и Алексей Шестаков.
Нам посчастливилось работать с одними из самых талантливых российских книжных дизайнеров сегодня — Анной Наумовой и Кириллом Благодатских, которые сделали очень адекватный этому произведению дизайн книги. Произведение Адорно исполнено духа минимализма, духа не-миметичности, я бы сказал духа не-дизайна. Одна из сквозных тем этого текста, важная и для других книг Адорно — тема неидентичности. И тема не-дизайна через дефис, не-поэзии, не-политики — вот этого «„не-“ через дефис» для него невероятно важна. Как тема, которая позволяет мыслить всё в качестве чего-то не-стабильного, не-субстанциального, не принадлежащего некоему собственному предзаданному определению и предзаданной сущности.
Об актуальности Адорно
Александр Иванов: Адорно, если и актуален сегодня, то каким-то очень непрямым, косвенным образом. Хотя он и пишет о войне, фашизме, об угрозе того, что он называет культуриндустрией, которая выравнивает, гомогенизирует весь мир смыслов и значений, в котором мы живем. Но какие-то прямые параллели Адорно с сегодняшней ситуацией довольно затруднительны. Прежде всего потому что Адорно — представитель мощной левой теории, которая здесь в своих предпосылках была совершенно другой. И эта левая теория, стоящая за Адорно, которая начинается с Гегеля, Маркса, проходит через фигуры Ницше и Фрейда, довольно странна для нашего контекста и эту ее странность важно сохраня, помнить о ней, рассуждая о том, чем нам может сегодня пригодиться Адорно как собеседник.
Я хотел бы попросить дорогого Игоря, чтобы он ответил на любой собственный вопрос, который он сам себе мог бы задать, но от мне хочется спросить его вот о чем: если говорить совсем прямо, почему Адорно может быть интересен сегодня? И если он все-таки интересен, то как бы ты предложил интерпретировать его актуальность именно здесь и сейчас?
Игорь Чубаров: Я очень счастлив что имею отношение к этой книге. Я добрался до [ее оригинального издания] как раз в Германии, где я работал. Я купил ее, начал читать и понял, что пока моего немецкого не хватает.
Сама книга — это вызов сейчас. Да и наша встреча — для меня большой вызов. Я последний раз был на такой презентации довольно давно и от этого формата отвык. Сейчас это выглядит довольно странно, как мероприятие из прошлой жизни. Мне кажется, что оно мне снится. Как будто бы все нормально, ничего не произошло — вышла очередная классная книга у Иванова, выражающая его отношение к философии и к хорошей литературе, собирающая глубокие интеллектуальные идеи, социальную критику, модное имя невостребованного автора, его никогда не переводившиеся произведение. Но что-то здесь есть еще, связанное с уникальностью момента. Уникальность эта будет сразу понятна, как только вы откроете первую страницу и начнете читать.
Книгу эту я не понимал не только из-за ее немецкого языка, но еще и потому, что она никак не была связана с моим опытом. Конечно, опыт войны, концлагерей, какой-то исключенности есть у любого человека, живущего в России. Но он как до нас доходил? — через фильмы, книги, иногда бабушка что-то могла рассказать. Но в целом это была не моя история, я не мог себя с ней соотнести, несмотря на то, что об этом так много говорилось и писалось — о лагерях смерти, о Второй мировой, о фашизме, нацизме, трагедии еврейского народа. Все равно было непонятно, что за интеллектуальная культура стоит за этими проблемами.
Эта книга была очень популярна после войны. Тираж около ста двадцати тысяч экземпляров — по тем временам это невероятный успех для философской книги. Значит, она отвечала какому-то запросу от послевоенного немецкого общества. В мире она была принята неоднозначно, но все равно стала заметным явлением. Что довольно неожиданно после такого обескураживающего для всей Европы опыта, когда стало ясно, что ни культура, ни интеллектуалы не помогли ни Германии, ни всему миру избежать этой разрушительной войны с такими ее компрометирующими феноменами как лагеря смерти и многомиллионные жертвы. И тут этот опыт вдруг у нас появился. Понятно каждое слово. Я не думаю, что это из-за того, что мне пятьдесят шесть лет внезапно наступило в прошлом году, не в этом дело. А в том, что этот исторический опыт теперь имеет место быть.
Замысел Адорно состоял в описании того, что происходит непосредственно с ним, с его сознанием. Не знаю, вернулся ли он к тому времени из Америки или нет, но Германия его уже призвала. Надо было разгребать эти руины — культурные и материальные — и как-то участвовать в том, что произошло.
Для него было понятно, что он не пишет о вине — он еврей и для него это не так актуально, как, например, для Ясперса. Но он понимал, что весь мир будет думать, что он тоже был к этому причастен. Он не мог сказать, что плохо сделал кто-то там, какой-нибудь Гитлер. Он сразу ставит точки над i: дело не в том, что мы сейчас Гитлера назовем параноиком, маньяком, убийцей и этому абсолютному злу припишем все ответы. Он начинает копать глубоко. Глубина его впрочем ограничена. Капитализм, риторика отчуждения, указание на то, что мы не живем своей жизнью — вы сразу встречаете эти узнаваемые фразы. Но что-то там есть еще такое, что привлекало тогда и привлекает сегодня к этому тексту.
Я просто делюсь пока впечатлениями читателя, потому что я последние пару суток провел за чтением этой книги. Я хотел бы остановиться на моментах, которые меня больше всего привлекли. Я узнал в ней все свои проблемы, с которыми сейчас сталкиваюсь в своей деятельности в Университете, в интеллектуальной работе и просто в повседневной жизни. Хотя нет такого, что я все узнаю, это было бы странно. Прошло все-таки больше семидесяти лет. Другая страна, другие условия.
Адорно заходит через афоризм, пытается объяснить, что это такое. А афоризм — это очень стремная штука. Ее любят массы, потому что это не обязывающие ни к чему максимы в духе Ларошфуко, удачно сформулированные наблюдения, выхваченные из повседневной жизни, с которыми согласны многие. И у Адорно часто встречаются наблюдения сомнительные — когда сейчас ты читаешь их с современным опытом феминистской критики. Какие-то вещи навсегда устарели, но сам подход не устарел. А подход в том, что он пытается очень индивидуальное, обнуленное от всяких культурных кодов и достижений сознание интеллектуала выразить в связи с его новым социальным опытом. Это то, что сближает сейчас его с интеллектуалами России.
И еще близость в том, что идентичность, которую он приобрел после войны — это не та идентичность, которая у него была во время войны. Он об этом тоже пишет: когда во время войны он писал эту книгу, он как будто был полностью выключен из всех процессов. Как если бы он сам был в этом лагере, хотя прекрасно себе находился в Америке. Он сначала полагал, что эта книга будет написана в соавторстве с Хоркхаймером, но потом он взял ее на себя — это тоже важно учитывать. Это такая ответственность, которую нельзя разделить ни с кем. Она одновременно и общая — национальная, культурная — и твоя личная. И вот эта личная ответственность здесь проблематизируется.
Представьте себе схему, где индивидуальное философское сознание говорит: мы живем в неправильном мире, проживаем неправильную жизнь. Но при этом мы носители великой немецкой и мировой культуры. Мы учились, писали книги, а вот жизнь сложилась так, что она оказалась неправильной. Как же нам теперь быть? Мы тоже неправильные? Все у нас неправильное? Это невозможно! У нас такое призвание — поставить все точки над i, как-то выправить все. А не получается. Потому что мы левые, а, с точки зрения левых, социальное предопределяет то, что ты делаешь индивидуально. А еще мы гегельянцы, а там целое определяет части и мы идем от общего к частям. Что же делать? Надо все пересматривать!
Представим себе фигурку. Она живет какую-то жизнь, но эта жизнь неправильная. Идет война, потом заканчивается, начинается передел, выясняют, кто прав, кто виноват, судят тех, кто воевал, преследовал, уничтожал направо и налево. Все очень плохо. С петель сошло. А есть картина мира, в которой все хорошо. Есть какая-то хорошая жизнь — справедливое общество, общество благосостояния. И как нам в той картине себя увидеть? Адорно говорит: никак. Тот человек, который в этой картине мира, он не человек, он утрачен. Меня там нет. Я только здесь, в этой неопределенности, в этом неправильном месте, в этом неправильном времени. Я должен с этим разобраться. Предложить другую картину мира. Вот он и пытался это сделать. Но выяснилось, что это невозможно. И сама эта затея с афоризмами, на мой взгляд, объясняется тем, что прямым философским текстом или социальной теорией, ответить на вопросы, которые были поставлены этим временем — невозможно. Можно только объявить: Es gibt kein richtiges Leben im falschen («В жизни ложной нет жизни правильной»).
Адорно в 1968 году
Но я мог бы рассказать, за что я не люблю Адорно. Мне кажется, он все украл у Беньямина. Есть такие мысли, которыми человек делится бесплатно, не присваивая себе, а какой-то очень ловкий чувак, который выжил в этой войне, в отличие от остальных, все взял перекодировал и использовал в своих коварных целях. Точнее, в целях нормальных — надо было осмыслить этот опыт. Другое дело — удалось ли ему это? Я мог бы пойти далеко и вспомнить, чем закончилась жизнь Адорно, как все сложилось плохо и печально — он умер из-за того, что студенты, ради которых он, в том числе, писал эту книгу, молодежь, которая должна была восстановить Германию, его очень сильно обидела. Он же в 1968 году умер?
Александр Иванов: В 1969.
Игорь Чубаров: Ну как раз в эти годы, когда студенческие движения перешли в новую стадию и обещали какой-то новый мир, новый слом. И Адорно оказался их жертвой. Его произведение говорило о необходимости сопротивления в безнадежных условиях, которые я описал. Что человек, связанный с мыслью, с рефлексией, человек, который способен производить культурные объекты — композитор, писатель — должен это делать, несмотря на то, что все, что он скажет и сделает, предопределено социальными институтами, структурами, общественными практиками. Получается, что и его действия направлены на те же самые разрушительные и печальные итоги. Как выбраться из этого? Он считал, что все может сложиться и по-другому, но для этого надо сопротивляться — это то, что через десять-пятнадцать лет будет говорить вся французская интеллектуальная сцена, но тогда, в 1968-м, его за это критикуют.
Александр Иванов: Там был эпизод, когда он выступал с лекцией, а на кафедру взошли три студентки, сняли с себя майки и предстали перед ним топлес, что его очень сильно поразило. Вообще вся эта катавасия 1968 года описана разными людьми, в том числе Юнгером, как ситуация, когда профессура тотально перестала устраивать европейских и американских студентов. Перестала устраивать эта концепция исторического гуманитарного курса. Они все требовали чтобы вместо Канта им рассказывали про Че Гевару, вместо Гегеля про Фиделя Кастро.
Адорно и музыка
Александр Иванов: Надо напомнить какие-то важные вещи из его биографии. Адорно родился в 1903 году в довольно обеспеченной семье. Его отец был торговцем искусства, маршаном. Отец — еврей, мать — корсиканка. Она была профессиональной музыкантшей, а ее сестра пела в венской опере, и Адорно с детства прекрасно музицировал. Музыка — это его главная страсть в течении всей жизни. Он же знаменитый музыковед, один из основателей современной социологии музыки, автор многочисленных исследований о Новой венской школе и прямой ученик, как музыковед и как музыкант, одного из ее представителей — Альбана Берга. Более того, он его духовный наследник, потому что Берг завещал дописать свою последнюю оперу. Незадолго до эмиграции Адорно написал оперу «Сокровище индейца Джо» на основе «Приключений Тома Сойера» Марка Твена. То, что по-немецки называет Songspiel — такая брехтианская опера с речитативами, смесь музыкальной драмы с обычной.
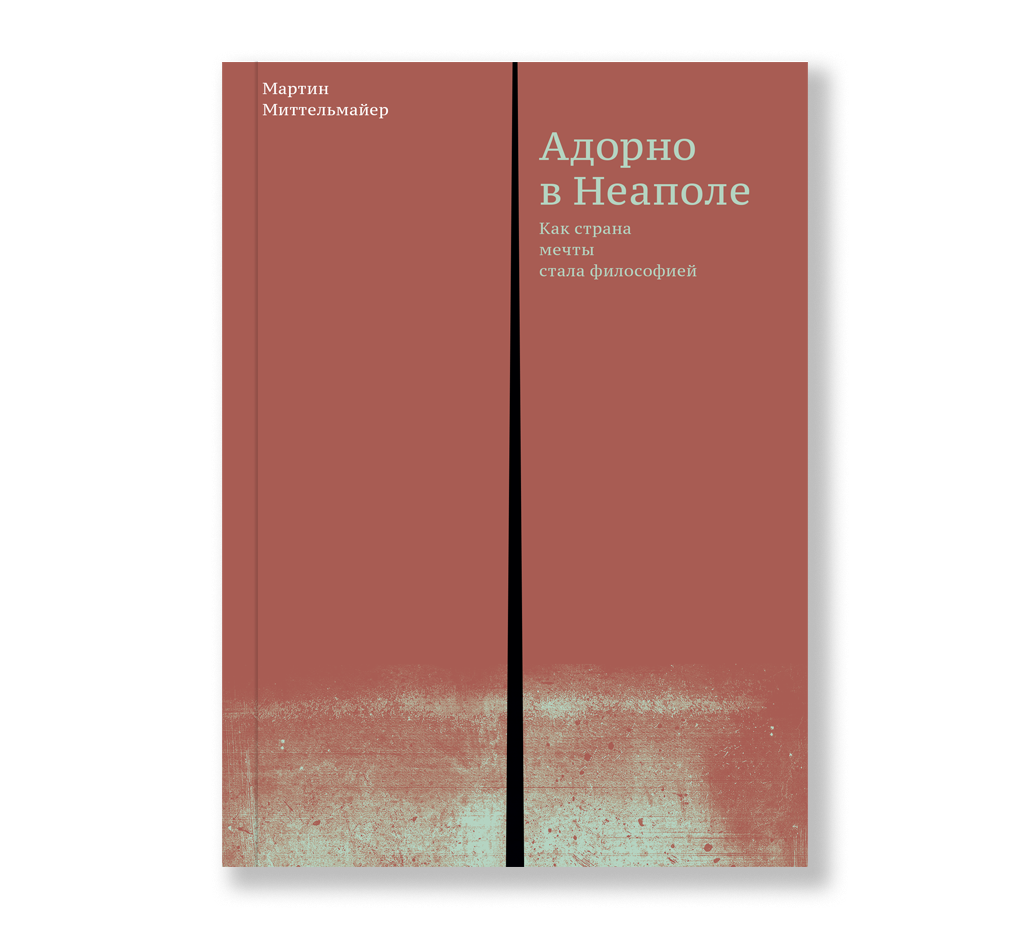
Адорно в середине 30-х эмигрировал в Англию, в Оксфорд, затем переехал в Калифорнию. Там он очень близко общался с Томасом Манном и стал одним из важных его советчиков. Томас Манн попросил помочь ему в подготовке романа «Доктор Фаустус», а именно тех страниц, где Адриан Леверкюн заключает соглашение с дьяволом. Манн говорит: «Господин Адорно, подскажите мне, как, с вашей точки зрения, мог бы вести себя музыкант, который подписал договор с дьяволом? Какую музыку он мог бы писать?» И Адорно очень сильно ему помог. Он поделился с ним своими сокровенными идеями о связи социального контекста и музыкальной формы. Все, что написано о музыке в романе Томаса Манна, — это мысли Адорно.
Франкфуртская школа
Адорно родился во Франкфурте, месте, где усилиями его коллег — Хоркхаймера, Маркузе, Мангейма, Фромма и Беньямина, образовалась Франкфуртская школа социальных исследований, которая положила начало «критической теории», сохранившей свое влияние — через Хабермаса и его учеников — до наших дней.
Что важно знать про критическую теорию? Критическая теория — это мыслительный концепт, который исходит из того, что все, что мы можем назвать реальным, является в каком-то смысле подозрительным, предстает следствием некоторой идеологической процедуры или идеологических действий, которые подкладывают нам вместо адекватного образа реальности всяческие искажения и обманы. Причем эти обманы носят объективный характер. Это не субъективные выдумки, а сама реальность выглядит как объективный обман. Это связано с марксистской концепцией товарного фетишизма и идеей, что в результате отчуждения труда в товаре, он становится чем-то, что Маркс называет «фантасмагорией». Он приводит пример со стулом, который вдруг начинает скакать сам — отчужденные от человека мертвые вещи обретает характер оживших мертвецов. Это довольно поэтическая картина у Маркса, которая оказала огромное влияние на представителей Франкфуртской школы. Это все дико фасцинировало, будоражило сознание франкфуртцев — на этой интуиции построено почти всё в критической теории. Для того чтобы понять критическую теорию, в том числе Адорно, нам нужно понимать, что мир, в котором живут критические теоретики — это мир, находящийся под серьезнейшим подозрением.
Игорь Чубаров: Эта история со студентами показывает, что выбраться из этой предопределенности всех своих действий и поступков к подлинному я, уникальной индивидуальной жизни, которая не была бы обменена на рынке, не выступала бы в форме товара культуриндустрии — невозможно. И Адорно не смог справиться с этой ситуацией, его победила эта система. Хотя описывал он ее очень верно.
Я в своей деятельности пришел к выводу, что насколько бы ты верно ни понимал какой-то феномен или объект, еще не значит, что ты можешь с ним что-то сделать. Это связано с особым качеством этого объекта, с тем, что он не сводится к тому пониманию, которое ты ему навязал. Он может тебя удивить. И в этом феномене могут находиться разные акторы — не только материальный мир, но и твоя мать, твоя любовь, твой сын. Даже ты сам в какой-то мере раздваиваешься в ситуации, где ты должен работать, выполнять какие-то функции, правовые нормы, соответствовать общественной морали. И это драма, с которой он столкнулся. Он писал об этом Беккету — жаловался на студентов. А Клуге жаловался на начальство. Это были такие печальные невозможные письма — ему было не к кому обратиться. И ничего не оставалось, кроме как просто пойти в горы как Ницше и умереть там от разрыва сердца. Красиво с одной стороны, но я не хотел бы такой истории ни для кого.
Может, есть шанс нам к каким-то темам перейти? Можно обсуждать не темы самого Адорно, а скорее тот способ, которым он их обсуждает. Не то, что он понял, а то, что он может и не понял. Например, он атакует отели и поезда своего времени. Говорит, что они из-за капитализма стали бездушными, не то что были в начале XX века. И отели такие все мрачные… Он обвиняет в этом капитализм.
Вульгарность, снобизм и мораль
Александр Иванов: Адорно оказывается между двух огней в этой книге, как и многие немецкие интеллектуалы, эмигрировавшие в Америку. У Брехта есть замечательные рабочие дневники, где он описывает в том числе свое пребывание в США. Это ужас какой-то! Когда европейский интеллектуал, типа Брехта или Адорно, оказывается Америке 1930–1940-х, он оказываются в салуне среди дикарей кольтами. Наверное, так и было. Для Адорно весь этот голливудский морок, все эти дайнеры с джазом— это какой-то кошмар. Он имеет дело с торжеством массовой культуры и совершенно примитивного омассовленного сознания. Никакой европейской рафинированности. С одной стороны фашизм, который уничтожает евреев, с другой — чудовищная американская массовая культура. Абсолютно гомогенизированный мир одномерных людей.
Пока Адорно живет с Санта-Монике рядом с Томасом Манном (Адорно вообще не бедный человек), Брехт живет в совсем других местах. Он описывает, что когда Томас Манн заканчивает строительство своей виллы в Санта-Монике, его брат Генрих Манн стоит в очереди за похлебкой для безработных. Когда советская армия в 1942 году отбрасывает немцев от Москвы до Смоленска и там останавливается наступление, Брехт записывает в дневнике: «Под Смоленском идет битва за лирику». Т.е. советские войска борются не только против фашизма, они борются за саму возможность поэзии. Поэзия будет невозможна, если фашизм победит. Это перекликается со знаменитым афоризмом Адорно (не из Minima moralia), что писать стихи после Освенцима — это значит вступать на территорию варварства.
Вообще слово варварство — одно из самых часто употребляемых в этой книге. Оно у Адорно очень сложно по значению и связано с понятием вульгарности у Маркса. Это не то варварство, которое отсылает к античности, — это другое.
У Маркса есть второй и третий том «Капитала» («Теории прибавочной стоимости»), которые мало кто читает. Я в юности их прочел и понял, что Маркс, оказавшись в Англии, усвоил приемы, которые потом высветились у Адорно. Я называю это «левым снобизмом». Что это такое? Левый — человек не богатый и не знатный, и когда он имеет дело со снобизмом происхождения или снобизмом богатства, он отвечает на это снобизмом интеллектуальным. Он говорит: «Я вас всех видел в одном месте, потому что я вам сейчас докажу, что вы — идиоты». Что и пытается делать Маркс во втором и третьем томе с Рикардо, Смитом и всей этой экономической традицией. Он их обвиняет в вульгарности, а это едва ли не самое тяжкое обвинение для британского сноба.
Вульгарность — очень английское слово. Мы помним его из Пушкина, оно впервые встречается в «Евгении Онегине». Вульгарный, по Марксу, это тот, кто путает природное с искусственным, нечто органически, спонтанно возникшее, рожденное природой — с тем, что создано в историческом контексте трудом человека и что имеет не природную, а социальную форму. Социальные формы, формы стоимости, операции обмена у Смита возникают в качестве естественно присущих человеку по природе. Маркс называет эту идею вульгарной. Природа для Маркса — в виде дикой природы, в которую он вообще не верит, или природы человека, к которой апеллирует традиция Гоббса, — это что-то чрезвычайно неприятное, чудовищное. Маркс не любит природу, он любит все, что сделано человеческим творчеством, трудом и т.д. И Адорно перенимает эту идею. Этот левый снобизм Адорно касается как вульгарности нацизма — а нацизм для него это прежде всего вульгарная теория, его расовая теория вульгарна, потому что она приписывает человеческой природе то, что является исторически возникшим идеологическим конструктом, который может и исчезнуть так же, как и всё когда-то возникшее. Но так же вульгарна для него и культурная индустрия, массовая культура, вульгарна Америка. В 1940-е годы он имеет дело с отвратительным, вульгарным миром, лежащим в луже своих стереотипов, привычек, идеологической лжи.
Что можно этому миру противопоставить? Я согласен с Игорем — выход, предложенный Адорно, практически безнадежен. Он говорит: мы не можем этот мир исправить. Более того, когда мы этот мир начинаем рационально осмыслять, мы поневоле впадаем в некоторые объективации, в некоторые мыслительные стереотипы, которые делают нас частью этого вульгарного мира. Что нам остается? Очень немногое. Адорно секулярный человек — веры у него нет. Философия Адорно не основана на эросе, как у Платона, он не принадлежит к этой традиции — любви тоже нет. Остается надежда. И вот надежда у Адорно очень странная вещь. С ней очень интересно разобраться.
Игорь Чубаров: Я считаю, что еще остается «критиковать». Эта книга вроде бы посвящена морали. Она отсылает к Аристотелю, к Канту, к каким-то серьезным этическим коллизиям и спорам философии, но на этом обескураживающем материале, который обнуляет большие надежды на просвещение. «Диалектика просвещения» это по сути приквел Minima moralia. Все, что остается — это критиковать. Он говорит: «Мы сейчас покажем, что мы живем в неправильном мире, который лежит во зле. И мы настолько далеко идем, что честно говорим, что эта критика особо ничего не даст. Но надежда остается», — ты сейчас об этом скажешь наверняка.
Критикует он все очень жестко. Не просто отдельные элементы повседневной жизни, а тотально всё. Даже самые интимные вещи, где человек, казалось бы, проявляет себя в своей уникальности. В любви, в каких-то отношениях, связанных с образованием, с собственностью, с развлечениями. И он говорит, что максимум того, что мы можем потребовать от современного мира — это стремиться к тому, чтобы люди не голодали, например. А в итоге, чтобы интеллектуал мог спокойно отдыхать и смотреть на эту природу, которую недооценивал Маркс, сделать еще один шаг к свободе и уникальности.
И вот на этом моменте я говорю: стоп. С этого момента я, пожалуй, с Адорно дальше не иду. Конечно, возможно у кого-то есть эта мечта, оказаться опять в лоне матери — природы или своей матери. Проблема в том, что можно не только критиковать, но и поучаствовать. Вопрос в том, сможешь ли ты этим заняться? Поддаются ли какому-то управлению, рациональному собиранию руины этого мира? Или мы просто его осуждаем? Как религиозные, по сути, люди, которые говорили: мир во зле лежит, он греховен, мы не можем это исправить, потому что есть предопределенность.
Вроде левый мыслитель не может такого говорить. Мы же помним его фразу: Das Ganze ist das Unwahre («Целое есть неистинное»). Она означает, что целое, в отличии от того, что думал Гегель, не является истиной. Но что из этого следует? То, что любая ценность, которую мы построим, будет не истинной. Тогда зачем ее строить?
Получается, что картина мира — это не наша цель. Разрушать? Это Адорно не очень поддерживал — он же не был как Беньямин, сумасшедшим еврейским революционером, он был напуганным американским контрреволюционером, любителем жизни. Что тогда остается? Здесь мы должны отказываться от самой модели целого, а это уже следующий шаг, к каким-то онтологиям, которые в его время еще не были возможны. Он же диалектик, ему достаточно было сказать, что есть целое, а есть части, которые в него немного не вписываются, он их немножечко критикует. Но потом они как-то все равно вписываются. Выглядит это очень снобистски и все это сводится к тому, что он начинает осуждать джаз. А это выглядело уже просто нелепо. Как бы он воспринял TikTok, если бы жил сейчас? Да как любой старпер! Он бы сказал: это зло!
Александр Иванов: Ну, это как реакция Агамбена на Zoom.
Игорь Чубаров: Притом, что Беньямин… Я сейчас сяду на своего конька, извините ради бога. Беньямин, наоборот, говорил: «Пускай люди пишут в газету! Рабочие должны писать о своем опыте!». Он прямо как Сергей Третьяков относился к возможности новых медиа. А газеты для Адорно… Ну какие газеты? Это культуриндустрия! А вот книги… Вот это да, это мы можем.
Но потом пришла ответственность (после второго развода, но это не важно). Ответственность состоит в том, что есть другие люди. Когда ты учился у Гуссерля, это под вопросом — нет других людей, есть пассивные синтезы.
Я пытаюсь шутить, потому что Адорно к этому подталкивает. Все его афоризмы — это стендапы. Любой можно прочесть, и все будут смеяться. Не сегодня, а семьдесят лет назад. Потому что это все случайный опыт жизни, но благодаря его вовлеченности в очень сложную фундированную культуру это становится столкновением понятий, возможность столкновения которых сегодняшний человек не может себе даже представить. Мы профанный опыт сталкиваем с концепциями и в этом видим свою культурность. Мы, например, что-нибудь съели и говорим: у нас произошел пассивный синтез с нечеловеческими акторами. Какая-то чушь. А у Адорно видно, что он Аристотеля имеет в виду, спорит с Беньямином, не цитируя его и т.д. И поэтому он говорит, как все плохо, все умерло — и теперь мы не способны читать на древнегреческом великих авторов. Короче, этот снобизм приводит его к тому, что он нащупывает какую-то мораль.
Я вспомнил, как меня научили не брать в долг. Что такое мораль? Это когда ты не делаешь поступков, которые сто процентов окажутся не моральными. Вот, например, брать в долг в нашей стране и вообще в условиях капитализма — нельзя. Почему? Потому что если ты возьмешь в долг, то тогда отдавать тебе нужно будет больше — будет инфляция, повысятся цены. Вроде бы это не проблема: отдашь больше и вернешь свой долг. Но проблема будет с человеком, у которого ты взял. Он перестанет быть твоим другом. Поэтому ты можешь взять долг только у банка. Но брать в долг у банка это, сами понимаете, не то, что левый мыслитель мог бы считать моральным. Я про Брехта, например. Все, теперь возвращаемся к надежде. Извини.
Александр Иванов: У Адорно есть очень много вещей, которые являются чистой демонстрацией неразрешимости позиции интеллектуала в ситуации катастрофы. Адорно не объяснил нам, что такое катастрофа. Он скорее показал на самом себе некую рану, некую боль — то, что с интеллектуалом может сделать катастрофа.
Вообще, для него, как для марксиста, этика является огромной неразрешимой проблемой. Потому что у Маркса нет никакой этики вообще. Ни у Маркса, ни у Ленина мы ничего этического не найдем. Там много политики, много истории, но как вести себя, как действовать в ситуациях выбора — этого у Маркса нет. Почему? Это вопрос очень сложный. Мой ответ такой: потому что Маркс — скрытый спинозист. Он довольно жестко отличает мораль от этики. Мораль — это ответ на вопрос, что ты должен. В этом смысле мораль всегда ставит нас перед операциональным выбором добра и зла. Вот это добро — я его выбираю, вот это зло — я его не выбираю. Нынешняя ситуации реакции на спецоперацию в Украине — это на 99% ситуация морального отношения. И в этом смысле это абсолютно бессильная реакция.
Что такое этика? Она не ставит вопрос, что ты должен. Этика спрашивает, что ты можешь, что тебе по силам. Это совершенно другой вопрос. Этика у Спинозы связана с понятием «конатус» — усилием, которое ты прикладываешь, чтобы существовать, потому что само существование требует усилий. Приведу математический пример: чтобы дважды два было четыре, нужно приложить усилие. Оно не автоматически становится четыре, нужно совершить операцию. Это занимает время, пусть ничтожно малое, и это занимает какое-то интеллектуальное усилие. Любое число, любое тождество есть усилие отождествления. Любая свобода есть усилие освобождения. И в этом смысле, когда мы задаемся вопросами жизни, мы находимся в пространстве этики, а не морали. Мы не занимаемся поеданием шарлоток, мы не едим яблоки с древа познания, мы не являемся специалистами по различению добра и зла, которыми переполнен наш Facebook (деятельность организации запрещена на территории РФ).
Адорно, пусть не прямо, задается вопросом: а что может интеллектуал? Люди воюют, сопротивляются — а что может интеллектуал? Вот одно из определений ответа на этот вопрос: «Истины лишь те мысли, что сами себя не понимают». Очень странный афоризм, таких у него много.
Интеллектуал — это чистая фигура различения. Не отождествления, а различения. Внутри мысли есть не-мысль. Внутри добра есть не-добро. Внутри силы есть слабость. Если мы не способны это различать, мы вне этической позиции, мы в позиции морали. Позиция морали регрессивна, она ведет нас к ослаблению. Вот это различение добра и зла, в котором мы все готовы преуспеть, ведет нас к слабости, невозможности действия, к заторможенности, к абсолютной абстрагированности от реальности. Значит, задача интеллектуала заключается в том, чтобы научить нас различать, научить себя различать. Быть непохожим на самого себя, быть не тождественным самому себе, быть собственным проектом. Вот в этом цель и задача интеллектуала — и в этом сверхзадача афоризмов Адорно.
Он создает такую же афористическую машину, как Ницше. И в этой машине, в этом странном эллипсе мы учимся не совпадать с самим с собой, мы учимся быть иными, мы учимся не быть вещами, не быть такими предметами, на которых написано: «человек». Или: «добро». Или: «зло». Или: «субстанция». Способность все понимать через усилие, через несовпадение, через нетождественность, неидентичность — это и есть надежда, по Адорно. В этом смысл его книги, которая конструирует интеллектуальную форму надежды.
Есть еще один важный для меня образ. У Альбана Берга есть опера «Воццек», в которой одна из арий специально написана таким образом что певец, исполняющий ее, должен петь фальшивя. Для профессионального певца это невозможно, он даже во сне будет петь правильно, «по нотам» — но в данном случае сами ноты «фальшивят». Это удивительное событие. Все, что неотчуждаемо, все, что неовеществляемо, все, что является достоянием человеческого живого общения и живого мира, может быть фальшивым, неправильным, искаженным. И все эти неправильности, искажения, ошибки являются косвенными признаком того, что мы имеем дело с чем-то человеческим. Тем, что достойно сочувствия и что может помочь нам обрести надежду.
О переводе
Вопрос: Очень добросовестные преподаватели и руководители часто говорят студенту, который хочет разобраться: не читай на русском ни Хоркхаймера, ни Лукача, ни Хабермаса, читай их на английском. В данном случае можно ли читать эту книгу человеку, который хочет разобраться в Адорно?
Александр Иванов: Я думаю, да, потому что у этого перевода есть два, как минимум, разных экспертных взгляда. Один принадлежит переводчикам, прежде всего Татьяне Зборовской. И он очень точный, потому что Татьяна — билингв со знанием исторического немецкого языка XX века. Второй взгляд — Кирилла Чепурина — взгляд философа, знатока критической теории, что видно по комментариям. Эта двойная работа позволила найти какой-то компромисс. Выдающееся литературное произведение, которым является этот текст, где все рефлексивные фигуры, понятия и интеллектуальное образы проверены на их связь с немецкой интеллектуальной традицией, на которую опирается Адорно.
Игорь Чубаров: Говоря о переводе, тем более такой книги и в такое время, надо вспомнить «Задачу переводчика» Беньямина. Он говорит, что перевод на другой язык — это новое произведение. То, что это произведение появляется сейчас на русском — настоящее культурное событие. Особенно в этих условиях. Конечно, оно двусмысленно. Я об этом пытаюсь осторожно говорить, потому что не считаю, что опыт Германии может быть переведен на сегодняшний. Это будет совсем другой опыт. Но те вызовы, которые стоят перед любым интеллектуальным человеком — те же.
И все, что он говорит, — немыслимо. Сравните то, что говорит Адорно, с тем, что говорили Примо Леви или Варлам Шаламов после той же войны — найдите тысячу отличий. Например, про вину. Вина для Адорно — вещь, которая не имеет особого значения, с ней можно что-то сделать — и она не будет столь подавляющей. А кто-то с этой виной справиться не смог. Делёз описывает, до чего довел себя Леви, он просто покончил с собой, несмотря на все свои прекрасные книги, хотя он и не был никаким там надсмотрщиком.
Иронично можно сказать, что Адорно дает нам подсказку: будьте конформистами, примиряйтесь с реальностью. Но держите фигу в кармане. Потому что, хотя вы сейчас ничего не можете изменить, но потом, возможно, вы что-то поймете, постараетесь — и мир изменится под вас.
Татьяна Зборовская: Вы сказали про пересоздание произведения, Игорь, и это то, на что я, как переводчик, обычно стараюсь не соглашаться. Потому что для меня лучшая оценка перевода — когда не слышно переводчика, а слышно автора. И если я открываю книгу и сразу вижу, кто это переводил, значит переводчик вложил больше себя, чем автора.
Адорно невероятно сложно читается. У него невероятно сложный язык. Эти предложения на полстраницы, в которых нанизано такое количество придаточных, что вы не можете понять, к чему они относятся. С одной стороны, язык Адорно в книге остался, словесный выбор Белобратова тоже остался. Но при этом… Есть фраза, которую мне Александр Терентьевич [Иванов] сказал после нашего первого совместного проекта — это был текст Бориса Гройса. И когда Александр Терентьевич прочитал мою версию того, что Гройс когда-то написал по-русски, потом перевел на немецкий, потом переписал по-немецки, а потом захотел снова увидеть по-русски, он сказал: «Тань, понимаете, Гройс всегда старается казаться очень умным, а у вас он читается как Лесков».
Александр Иванов: Для Гройса важно, чтобы в чтении его текстов сохранялось затруднение, связанное с неполной русификацией его латинского вокабуляра.
Игорь Чубаров: Я имел в виду ровно то, что говорится в работе Беньямина. Речь идет о том, что перевод понимается почти как буквальный. Но при этом само событие перевода создает новое произведение. Не на русском языке, а на каком-то божественном. Речь о том, что будучи переведенным, этот текст оказывается понятым, как минимум переводчиком. А если он понят, то в нем появляется качество понятности. Этого не обеспечивает гугл-переводчик. Мы можем загнать туда Minima moralia, но получится что-то странное. При том что тексты второго уровня, тексты об Адорно, вполне можно так переводить. Поэтому не обижайтесь, что я пытаюсь подставить под сомнение вашу верность оригиналу, просто это невыполнимо. Невозможно перевести текст — это как написать стихотворение заново.
Татьяна Зборовская: Мой личный критерий текста, чтобы мне было понятно, что я пишу.
А с английским есть два момента. Адорно, к этому времени живя в Америке, в своем тексте так или иначе изобилует англицизмами, которые становятся ложными друзьями переводчика. И очень важно не перепутать, что Адорно имеет в виду.
Касаемо самой английской версии, я, работая с этой книгой, обложилась всем, чем только можно. Потому что одни переводчики видят одно, другие видят другое. Это как раз тот случай, когда нужно прочитать максимальное количество версий. Английских версий две. Одна очень марксистская, а другая очень американизированная, по моему ощущению. И если вы интересуетесь тем, каким текст стал сначала в английском восприятии, а потом уже, после этой вульгарной латыни, в национальном языке, читайте оба английских перевода, или хотя бы загляните. Это интересно.
Истина, искусство и левая меланхолия
Александр Иванов: Я рекомендую эту книжку еще по одной причине. В ней есть та приятная вещь, которая отличает оригинальные авторские тексты любого жанра и любого профиля — Адорно здесь очень озабочен формой своего произведения. А это довольно большая редкость. Спросите сегодня любого гуманитария о форме, в которой написан его текст, он ничего вам толком не ответит — мол, как пишется, так и пишется. Адорно пишет именно исходя из рефлексии формы, пишет формальным образом, как и пишутся все афоризмы и максимы. Эта книжка имеет свою музыкальную систему, обратите внимание на особую музыкальность, ритмичность и мелодичность текста. Это само по себе является посланием читателю. То есть, не просто мысли Адорно, а сама форма этого произведения является отдельным месседжем. Смысл это месседжа в том, что мы можем думать и спорить о чем угодно, но нужно все время исполнять свою мысль. Мысль должна быть исполнена. Вытанцевана, спета. И если мы не может ее исполнить, у нас никакой мысли нет. Она будет витать в воздухе в виде чего-то абстрактного.
Игорь Чубаров: Это, кстати, объясняет цитату, которую ты взял из Адорно, что истинны лишь те мысли, которые себя не понимают. Это как поэзия. Великий поэт хоть и не пишет философских текстов, но посылает какие-то сообщения, которые еще будут расшифровываться многие сотни лет, если он действительно великий поэт. И Адорно претендовал именно на эту роль. Как и Беньямин, его учитель или, как минимум, старший коллега. Он тоже посвятил свою работу о немецкой драме тому, что нет никакой истины, которая могла бы быть выражена в чётких формулах. Но есть опыт мысли языка, который может позволить кому-то пройти этот путь к истине за счет манеры выражения. И к переводу он точно так же относился. Мне очень понравилось то, что ты сейчас сказал. Что он пытается, как наш с тобой учитель Валерий Александрович Подорога — тоже очень сложный чувак — быть не философом, который говорит какие-то истинные вещи, а выражать что-то так, чтобы никто это не мог присвоить. Зато потом ты сам мог бы кем-то стать, а не просто быть его непризнанным учеником.
Александр Иванов: Есть еще один выход, который Адорно всем рекомендует. И здесь он прямой ученик и наследник Ницше. У Ницше есть такой афоризм в «Веселой науке», где он говорит, что искусство нам дано, чтобы спасти нас от истины.
И Адорно, при том, что он критикует эту терапевтическую функцию искусства…
Игорь Чубаров: … и иллюзорность искусства
Александр Иванов: Он, тем не менее, практикует ее. Одной половиной своего сознания критикует и уничтожает, а другой —практикует. И вот это да и нет, которые слились, этот double bind — невероятно важен. Это противоречие является конструктивным для Адорно.
Игорь Чубаров: Это и есть пресловутая диалектика.
Александр Иванов: Я бы не сказал, что это диалектика. Диалектика требует от нас телеологии, она требует движения к цели. Без движения к цели диалектики нет. Если мы устраиваем некий буддистский барабан повторения того же самого, то мы не в диалектическом движении. Нет милленаризма, нет идей конца света, которые были у Беньямина. Адорно не разделяет эту милленаристскую и эсхатологическую марксистскую веру. Ведь марксизм эсхатологичен, марксизм верит, что в конце будет счастливое будущее, где польются все блага.
Игорь Чубаров: Беньямин, наоборот, говорит, что вы все обречены, вы сдохнете, вас ждет только смерть.
Александр Иванов: Подожди-подожди. У Беньямина это является спасением, потому что это смерть в мессианском смысле, это смерть, которая является единственным путем к вечной жизни. Для того чтобы обрести вечную жизнь, ты должен умереть. В этом смысле левая меланхолия, которая есть и у Адорно, и у Беньямина, предполагает что мы всё оплакиваем, потому что сейчас это есть, а через секунду этого не будет. И мы, как герои Бодлера, ходим в черных пиджаках, потому что мы все оплакиваем. Интеллектуалы во времена Адорно ходили в черном, потому что они были в трауре. Они были в левой меланхолии.