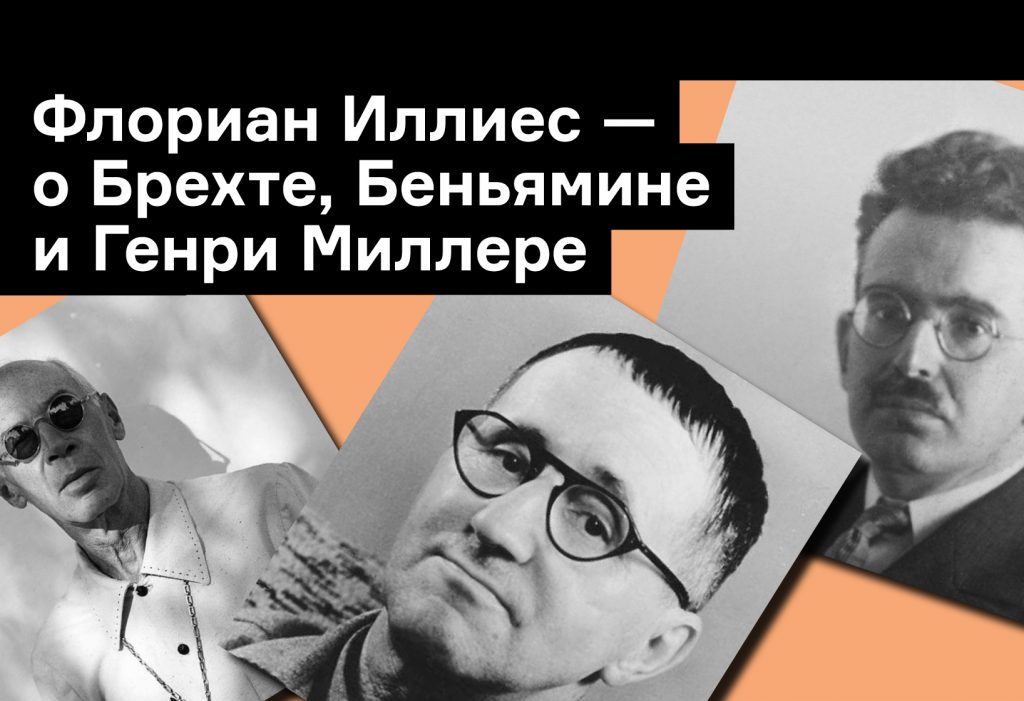Отрывок из книги «Открытый город» Теджу Коула

В 2022 году мы расширяем нашу фикшн-программу, ждите много литературных новинок! А пока публикуем препринт книги американского писателя и историка искусства Теджу Коула «Открытый город» и предисловие переводчицы Светланы Силаковой.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Этот роман, казалось бы, лишен сюжета, он начинается как бы на
середине разговора, а обрывается, словно заброшенный автором блог, — после очередной краеведческой зарисовки.
Впрочем, в первой же главе автор любезно подсказывает читателю
возможный способ прочтения текста — упоминает об умении «восстанавливать контуры истории по фигурам умолчания», которое герой перенял у своего учителя.
А некий сюжетный поворот, поджидающий в финале, — на самом деле переворот. Контур замыкается, и включается прожектор, совершенно по-иному выхватывающий из красивого полумрака кое-какие сцены и подробности. Читатель, возможно, будет шокирован. А, возможно, предпочтет среагировать так, как среагировал герой, — перевернет страницу и шагнет на следующий жизненный этап, оставшись прежним. Но давайте пока ограничимся первой главой. Я сама подивилась, как мало существенного герой сообщает в ней о себе. Где он жил до Нью-Йорка и студенческих лет, кто его родители, чем он увлекался до того, как полюбил классическую музыку — обо всем этом мы узнаем позднее. В первой главе нам даже остается неизвестно, какой он расы: между тем его происхождение и национально-расово-языковая идентичность настолько многогранны, что герой предпочитает о них не распространяться, знакомым сообщает упрощенную версию, а от излияний братских чувств со стороны других темнокожих досадливо отмахивается.
Автор не тождественен герою: Теджу Коул скупо сообщает, что его
родители — нигерийцы, а по профессии он искусствовед (с медициной его связывает только один неудачный год учебы). У героя отец нигериец, а мать — немка, натурализовавшаяся в США (причем лишь самый внимательный читатель восстановит по датам и топонимам, из какого государства она предположительно попала в Америку). В романе описывается последний год учебы героя в ординатуре на психиатра. Похож ли он на практикующего врача, решать читателю: отметим лишь, что на работе он ставит диагнозы
и выписывает рецепты, а вот свое переутомление лечит, совершая пешие прогулки и кардинально меняя обстановку.
Собственно, ключ к роману — в том, что герой отказывается давать
определения своим проблемам и драматизировать состояние своей психики. Просто такой жизненный этап: в США учеба в интернатуре и ординатуре предполагают работу на износ. Расстался с девушкой — что ж, постепенно стали чужими друг другу. Отношения с матерью испортились настолько, что герой с ней уже много лет не разговаривает — что ж, у нее такой характер. Вместо поисков выхода герой отправляется на очередную прогулку: то по Нью-Йорку, то по Брюсселю, то по воспоминаниям о Лагосе, а, может, вглубь симфонии Малера или на полотна слабослышащего портретиста-самоучки. Или в рассказ очередного случайного знакомого: так он становится очевидцем гражданской войны в Либерии, немецкой оккупации в Бельгии и даже — благодаря встрече с чистильщиком обуви, то ли безумцем, то ли призраком — истории Нью-Йорка. И почти всякий раз остается почти бесстрастен. Он — камера Go-Pro. В его мире нет блогов и YouTube, но его текст, казалось бы, легко транспонировать в видео с заголовком типа «Прогулка по Манхэттену с пояснениями без купюр».
И только кое-какие фигуры умолчания намекают нам, что бесстрастие героя — лишь фильтр на объективе пленочной фотокамеры. Его эффект не так-то просто аннулировать (в отличие от фильтров при цифровой обработке фото).
Светлана Силакова
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Посвящается Карен, а также Ва-Мин и Бет
Смерть — совершенствование глаза.
Глава 1
Итак, когда прошлой осенью я начал прогуливаться по вечерам, обнаружилось, что выбираться из Морнингсайд-Хайтс в город совсем нетрудно. По дорожке, сбегающей с холма за собором св. Иоанна Богослова и пересекающей парк Морнингсайд, каких-то пятнадцать минут до Центрального парка. В другую сторону, на запад, — десять минут до парка Сакура, а оттуда, повернув на север, можно двинуться к Гарлему вдоль Гудзона; правда, шум реки, отделенной от тебя деревьями, тонет в гуле автомобилей. Эти прогулки, служившие противовесом хлопотливым дням в больнице, затягивались, раз от разу заводя меня всё дальше и дальше, так что поздно вечером я часто обнаруживал себя на немалом расстоянии от дома и должен был возвращаться на метро. Таким вот образом, в начале моего последнего года в психиатрической ординатуре, город Нью-Йорк прокрался со скоростью пешехода в мою жизнь.
Незадолго до того, как начались эти бесцельные шатания, у меня завелась привычка наблюдать в окно квартиры за перелетными птицами, и теперь я спрашиваю себя: не связано ли одно с другим? В дни, когда я возвращался домой из больницы достаточно рано, я обычно смотрел в окно, словно авгур, гадающий по полету птиц, — надеялся узреть чудо естественной миграции. Всякий раз, как мне попадались на глаза гуси, строем пикирующие в небе, я задумывался, как выглядит с их точки обзора наша жизнь внизу, и воображал, что, если бы они вдруг увлеклись такими спекуляциями, небоскребы показались бы им скоплением пихт в роще. Часто, прочесывая взглядом небосвод, я видел разве что дождь или бледный инверсионный след самолета, как бы разрезающий окно по биссектрисе, и тогда в закоулках сознания копошилось сомнение: да существуют ли они в реальности, эти птицы с темными крыльями и шеями, светло-серыми торсами и неутомимыми крохотными сердцами? Я им настолько поражался, что, когда их не было перед глазами, просто переставал доверять собственной памяти.
Время от времени мимо пролетали голуби, а также воробьи, крапивники, иволги, танагры и стрижи — правда, по крошечным, одиноким, в основном бесцветным крапинкам, мелькавшим в небе, как искры, почти невозможно определить, какого они вида. В ожидании редких гусиных эскадрилий я порой слушал радио. Американских радиостанций обычно чурался — на мой вкус, там многовато рекламы: вслед за Бетховеном — лыжные комбинезоны, после крафтовых сыров — Вагнер; итак, я включал интернет-станции из Канады, Германии или Нидерландов. И, хотя частенько, ввиду слабого знания их языков, я не мог понять ведущих, программы всегда абсолютно точно попадали в мое вечернее настроение. Музыка была по большей части знакомая — я уже четырнадцать с гаком лет был заядлым слушателем радиостанций классики — но обнаруживалась и новая. Случались и редкие мгновения потрясений — например, когда на одной гамбургской станции я впервые услышал чарующую пьесу Щедрина (а, может быть, Изаи) для альта с оркестром; ее название я так до сих пор и не выяснил.
Мне нравились полушепот ведущих, звучание этих голосов, спокойно беседующих со мной откуда-то за тысячи миль. Я приглушал звук в колонках компьютера и смотрел в окно, нежась в уюте этих голосов, и становилось совсем нетрудно провести аналогию между мной в квартире с голыми стенами и ведущим или ведущей в студии в час, когда в Европе, наверное, глухая ночь. Даже сейчас эти бестелесные голоса по-прежнему ассоциируются у меня со зрелищем перелетных гусей. А ведь перелеты я видел нечасто — собственно, три-четыре раза за всё время, не больше: в типичный день видел только оттенки закатного неба: светло-бирюзовые, грязно-розовые и рыжевато-багровые, постепенно вытесняемые темнотой. Когда смеркалось, я брал какую-нибудь книгу и читал под старой настольной лампой, спасенной когда-то с университетской помойки; ее лампочка, накрытая стеклянным колоколом, струила зеленоватый свет на мои пальцы, книгу на моих коленях и драную обивку кушетки. Иногда я даже читал вслух, самому себе, слова из книг и замечал при этом, как странно вплетается мой голос в полушепот французских, немецких или голландских радиоведущих или в тонкую текстуру скрипок симфонического оркестра, и эффект этот усиливался ввиду того факта, что текст, зачитываемый мной в эту минуту, в большинстве случаев был переведен с какого-нибудь европейского языка. Той осенью я, как мотылек, перелетал с одной книги на другую: то были «Camera lucida» Барта, «Телеграммы души» Петера Альтенберга, «Последний друг» Тахара Бен Желлуна и другие.
В этом состоянии звуковой фуги я припомнил блаженного Августина и его изумленные слова о святом Амвросии: тот прославился тем, что изобрел способ читать, не произнося слова вслух. А ведь и впрямь странно — сам до сих пор не устаю изумляться — что мы можем понимать слова, не выговаривая их. Августин полагал, что весомость и внутреннюю жизнь фраз лучше воспринимать на слух, но с его времен наши представления о чтении значительно переменились. Нам слишком долго внушали, что, если видишь человека, разговаривающего с самим собой, это примета его чудачества или сумасшествия; звук собственного голоса стал нам совершенно непривычен, кроме как при беседе с другими или в неистовствующей толпе: хором вопить неопасно. Но книга предполагает разговор: человек говорит с человеком; а для такого диалога звучание, различимое слухом, — это, наоборот, нечто совершенно естественное или должно быть естественным. Итак, я читал вслух, сам себе слушатель, и становился рупором для слов кого-то другого. В любом случае эти необычные вечерние часы текли без усилий с моей стороны, и я частенько засыпал прямо на кушетке и лишь намного позже — обычно сильно за полночь — заставлял себя перебраться на кровать. А затем — всякий раз казалось, что я успевал проспать лишь пару минут — меня резко будил писклявый будильник моего мобильника: «O Tannenbaum» в престранном переложении для маримбы или какого-то подобного инструмента. В эти первые мгновения бодрствования, когда внезапный утренний свет бьет в лицо, мои мысли носились по кругу, выуживая из памяти обрывки снов или фрагменты книги, над которой меня сморило. И потому, чтобы нарушить монотонность этих вечеров, я совершал прогулки: по два-три раза в будни после работы и как минимум один раз по выходным.
Вначале я находил, что улицы — это нескончаемый шум-гам, эффект шока после моей дневной сосредоточенности и относительного спокойствия: все равно, что, врубив телевизор, взорвать умиротворенность тихой домовой часовни. Я лавировал в толпах покупателей и офисных работников, петлял между асфальтоукладчиками и истошно сигналящими такси. Прогулки по оживленным городским кварталам означали, что передо мной промелькнет больше людей — больше на несколько сотен, если не тысяч — чем я привык видеть за весь день, но отпечатки этих бессчетных лиц в моем сознании ничуть не подавляли чувство изоляции; наоборот, они его только усиливали. Вдобавок, начав выходить на прогулки, я стал сильнее утомляться, причем эта измочаленность отличалась от всех разновидностей усталости, изведанных мной с первых месяцев в интернатуре — то есть, за последние три года. Как-то вечером я просто шагал без остановки, дошагал аж до Хаустон-стрит — прошел около семи миль — и обнаружил, что изнурен до одурения и еле держусь на ногах. В тот вечер я доехал до дома на метро и вместо того, чтобы немедленно уснуть, валялся на кровати — переутомление не отпускало меня из яви в дрему, и потому, лежа в темноте, я воспроизводил в памяти многочисленные происшествия и картины из своих странствий, рассортировывая их поочередно: так ребенок играет с деревянными кубиками, пытаясь догадаться, где место каждому, что с чем перекликается. Казалось, каждый район города состоит из своего особенного вещества, и в каждом районе свое атмосферное давление, свой уровень нагрузки на психику: яркие огни или скрытые железными ставнями витрины, муниципальные многоэтажки или роскошные отели, пожарные лестницы или городские парки. Я продолжал этот пустопорожний труд по сортировке, пока формы не стали перетекать друг в дружку и приобретать абстрактные контуры, ничем не схожие с реальным городом, — только тогда мой беспокойный ум наконец-то сжалился надо мной и унялся, только тогда меня накрыл сон без сновидений.
Прогулки удовлетворяли определенную потребность; давали передышку от жестко регулируемой ментальной среды в рабочее время и, стоило мне осознать их целебность, вошли для меня в норму, и я позабыл, как жил, пока к ним не пристрастился. Порядки, установленные на моем рабочем месте, требовали безукоризненности и компетентности, не допускали импровизаций, не терпели ошибок. Мои научные занятия при всей их занимательности (я проводил клиническое исследование аффективных расстройств у престарелых) обязывали меня как никогда досконально вникать во все мелочи. Улицы стали для меня долгожданной противоположностью всего вышеперечисленного. Любое решение: где свернуть налево, как долго простоять в задумчивости перед заброшенным зданием, полюбоваться ли закатом над Нью-Джерси или лучше пробежаться по тонущему в сумраке Ист-Сайду, разглядывая Куинс на противоположном берегу — не влекло за собой никаких последствий и благодаря этому служило напоминанием о свободе. Я преодолевал городские кварталы, как будто мерил их шагами, а станции метро превращались в лейтмотивы моего бесцельного продвижения. Зрелище колоссальных людских полчищ, спешащих в подземные залы, неизменно казалось мне странным: чудилось, будто весь человеческий род, подзуживаемый алогичным влечением к смерти, торопится в передвижные катакомбы. На земной поверхности я был вместе с тысячами других в их одиночестве, но в метро, где я стоял рядом с незнакомцами, тесня их и теснимый ими в борьбе за пространство и воздух, где все мы заново разыгрывали травмы, которые отказываемся признать, одиночество только усиливалось.
Как-то воскресным утром в ноябре, совершив переход по относительно тихим улицам Верхнего Вест-Сайда, я вышел на большую, ярко освещенную солнцем площадь близ Коламбус-Сёркл. Совсем недавно в районе произошли перемены. Пара зданий, выстроенных здесь для корпорации «Тайм Уорнер», придала кварталу более коммерческий и туристический характер. Здания, возведенные очень быстро, только что открылись для посетителей, и их заполнили ателье, где шили сорочки на заказ, бутики, торгующие мужскими костюмами, драгоценностями, кухонными принадлежностями для гурманов, кожаными изделиями ручной работы и импортными предметами декора. На верхних этажах находились некоторые из самых дорогих во всем городе ресторанов, чья реклама сулила трюфеля, черную икру, говядину Кобэ и недешевые «дегустационные меню». А еще выше располагались квартиры, в том числе самый дорогой в городе пентхауз. Из любопытства я пару раз забредал в магазины на цокольном этаже, но цены на товары и превалирующая атмосфера снобизма, какой она мне показалась, удерживали меня от новых визитов вплоть до того воскресного утра.
В этот день проводился Нью-Йоркский марафон. А я и не знал. Опешил, увидев, что круглую площадь перед стеклянными башнями запрудили люди: плотная, нетерпеливо ожидающая чего-то толпа занимала места у финишной черты марафона. Людские полчища вытянулись вдоль улицы, ведущей от площади на восток. Чуть западнее находилась сцена, где в эту самую минуту двое мужчин настраивали гитары — звали друг друга серебряными нотами, пропущенными сквозь усилители, окликали и откликались. Всевозможные баннеры, транспаранты, плакаты, флаги и ленты хлопали на ветру, а конные полицейские — глаза лошадей были закрыты шорами — регулировали движение толпы с помощью ограждений, свистков и жестов. Полицейские были в темно-синих мундирах и солнечных очках. А толпа — в яркой одежде, и при взгляде на всю эту озаренную солнцем зеленую, алую, желтую и белую синтетику начиналась резь в глазах. Спасаясь от гвалта толпы — он, похоже, только нарастал — я решил зайти в торговый центр. На втором этаже в дополнение к магазинам «Армани» и «Хьюго Босс» была книжная лавка. Там, подумал я, удастся перехватить минутку тишины и чашечку кофе перед тем, как отправиться домой. Но у входа была толчея — туда с улицы перебралась часть толпы, а оцепление перекрывало путь к башням.
Я передумал и решил навестить своего бывшего профессора: он жил совсем близко, в неполных десяти минутах ходьбы — на Сентрал-Парк-Саут. Профессор Сайто был самым старым человеком из всех, кого мне довелось знавать, — тогда ему было восемьдесят девять. Он стал опекать меня, когда я учился на третьем курсе в Максвелле. Тогда он уже был почетным профессором, но по-прежнему появлялся в кампусе каждый день. Должно быть, он разглядел во мне что-то, наводившее на мысль, что усилия преподать мне его возвышенный предмет (раннюю английскую литературу) не пропадут втуне. В этом плане я его разочаровал, но человек он был добросердечный, и даже когда я не смог более-менее нормально сдать зачет по его курсу «Английская литература до Шекспира», он несколько раз приглашал меня в свой кабинет поболтать. Незадолго до этого он установил там назойливо громогласную кофемашину, так что мы пили кофе и беседовали: об интерпретациях «Беовульфа», а затем о классиках, о том, что научная работа — нескончаемый труд, о разнообразных утешениях, даруемых академической жизнью, и о студенческих годах самого Сайто до Второй мировой войны. Эта, последняя, тема была во всех отношениях настолько далека от моего жизненного опыта, что вызывала у меня, пожалуй, наибольший интерес. Когда он дописывал диссертацию по филологии, вспыхнула война, так что он вынужденно покинул Англию и вернулся к родным, на северо-западное побережье США. И вместе с ними вскорости был отправлен в лагерь интернированных Минидока в Айдахо.
При этих беседах, как я теперь вспоминаю, говорил в основном он. Я научился у него искусству слушать, а также умению воссоздавать контур истории по фигурам умолчания. Профессор Сайто лишь изредка рассказывал мне что-либо о своей семье, зато поведал о своем пути в науке и отношении к важнейшим проблемам своей эпохи. В 70-х он выполнил аннотированный перевод «Петра-Пахаря», и это, как оказалось, стало его самым заметным научным достижением. Об этом он говорил с прелюбопытной смесью гордости и разочарования. Намекал, что был еще один крупный проект (на какую тему, умалчивал), так и не доведенный до конца. О битвах за власть на кафедре тоже рассказывал. Помню, однажды весь день напролет делился воспоминаниями о бывшей коллеге, чье имя тогда, когда он его произнес, было мне совершенно незнакомо, а теперь я его не могу припомнить. Она прославилась как активистка в период борьбы за гражданские права и одно время была в кампусе такой знаменитостью, что ее лекции по литературоведению неизменно проходили с аншлагом. Со слов профессора Сайто она была умна и проницательна, но принадлежала к числу тех людей, с чьим мнением он никогда не смог бы согласиться. Он питал к ней и восхищение, и неприязнь одновременно. Помню его слова: загадочно, она была дельным исследователем, в конфликтах тех времен поддерживала правое дело, но вот как человека я ее не переваривал. Она была резкая и эгоистичная, упокой Господи ее душу. Тем не менее, здесь вы не должны говорить о ней ни одного дурного слова. Ее до сих пор считают святой.
Когда мы подружились, я взял за правило видеться с профессором Сайто два-три раза за семестр, и эти встречи сделались для меня драгоценнейшими моментами, одними из лучших моментов последних двух максвелловских лет. Я стал видеть в нем этакого названого дедушку, совершенно не похожего по характеру на обоих моих родных дедов (только одного из которых я знал лично). Мне казалось, что с ним у меня больше общего, чем с теми, кто по воле судьбы мне кровная родня. После выпуска, когда я уехал вначале в Колд-Спринг-Харбор, заниматься наукой, а затем в Мэдисон в медицинскую школу, общение заглохло. Мы обменялись двумя-тремя письмами, но разговаривать в письменной форме оказалось нелегко: ведь истинной сутью наших бесед не были новости и информация о переменах в жизни. Но после возвращения в Нью-Йорк ради интернатуры я виделся с ним несколько раз. В первый раз совершенно случайно — правда, в тот самый день, когда я о нем вспоминал — у продуктового магазина близ Сентрал-Парк-Саут: он вышел прогуляться, опираясь на руку сиделки. А в следующий раз — когда я без предупреждения — как он мне и порекомендовал — заглянул к нему в гости и обнаружил, что он по-прежнему, как и в своем кабинете в колледже, проводит политику открытых дверей. Кофемашина из этого кабинета теперь простаивала в углу без дела. Профессор Сайто сказал мне, что у него рак простаты. Болезнь не вполне подточила его силы, но он перестал бывать в кампусе и предпочитал принимать посетителей дома. Его круг общения сузился настолько, что профессора это наверняка удручало; гостей — а он встречал их радушно — всё убавлялось, и, наконец, его стали посещать в основном медсестры и сиделки.
В вестибюле, сумрачном, с низким потолком, я поздоровался с привратником и поднялся на лифте на третий этаж. Когда я вошел в квартиру, профессор Сайто окликнул меня. Он сидел в дальнем углу, у больших окон, и указал мне жестом на кресло напротив своего. Его зрение ослабло, но слышал он так же хорошо, как и при нашем первом знакомстве, когда ему было всего лишь семьдесят семь. Теперь, укутанный одеялами, в огромном мягком кресле, он, казалось, погрузился в пучины повторного младенчества. Но в действительности — ничего подобного: его ум, как и слух, оставался всё таким же острым, и, когда профессор заулыбался, рябь морщин распространилась по лицу, собирая в складки тонкую, как бумага, кожу на лбу. В этой комнате, которую, казалось, постоянно озарял мягкий и прохладный свет с северной стороны, он пребывал в окружении произведений искусства, которые коллекционировал всю жизнь. Полдюжины полинезийских масок, висевших прямо над его головой, образовывали огромный темный нимб. В углу стояла папуасская фигура предка — человеческая фигура в натуральную величину, с деревянными зубами, каждый из которых был изготовлен по отдельности, в травяной юбке, едва скрывавшей эрегированный пенис. Об этой фигуре профессор Сайто как-то сказал: воображаемых чудовищ я обожаю, а вот настоящих боюсь до ужаса.
Из окон, занимавших целую стену комнаты, виднелась улица, скрытая тенью зданий. Подальше — парк, обнесенный старой каменной стеной. Усаживаясь в кресло, я услышал с улицы рев; поспешно вскочив опять, увидел в промежутке между толпами одинокого бегуна. Он был в золотистой майке, в черных перчатках, почему-то длинных, до локтя — как у дам на официальных ужинах; он поднажал, подбодренный криками зрителей. Понесся, обретя второе дыхание, к сцене, восторженной толпе, финишной черте и солнцу.
Входите, садитесь, садитесь. Профессор Сайто закашлялся, указывая на кресло. Рассказывайте, как у вас дела; а я, видите ли, прихворнул; на прошлой неделе было худо, но сейчас намного лучше. В моем возрасте хворают часто. Расскажите, как вы, как вы? Шум снаружи снова усилился, а затем отхлынул. Я увидел, как промчались двое, нагоняя лидера, — двое чернокожих. Наверно, кенийцы. Такая обстановка год за годом, уже без малого пятнадцать лет, сказал профессор Сайто. Если в день марафона мне нужно выйти, я иду через черный ход. Но теперь я выхожу редко — ведь ко мне прикреплено вот это, приделано, как хвост к собаке. Пока я устраивался в кресле, он указал на прозрачный пакет, подвешенный к тонкой металлической опоре. К пакету, до половины заполненному мочой, тянулась откуда-то из недр одеяльного гнезда пластиковая трубка. Вчера кое-кто принес мне хурму, отличную, твердую. Хотите немножко? Вам определенно стоит ее попробовать. Мэри! Из коридора появилась сиделка — средних лет, высокая, крепко сбитая уроженка Сент-Люсии, уже знакомая мне по прошлым визитам. Мэри, не будете ли вы так любезны принести нашему гостю хурмы? Когда она ушла на кухню, он сказал: мне теперь трудновато жевать, Джулиус, и хурма для меня — идеальная пища: сытная и легкодоступная. Но довольно об этом — как там вы? Как идет работа?
Мое присутствие придало ему сил. Я рассказал о своих прогулках чуть-чуть — хотел было побольше, но не смог по-настоящему передать словами то, что пытался поведать ему о территории уединения, вдоль и поперек исхоженной моим сознанием. И потому описал один недавний клинический случай. Мне пришлось консультировать одну семью — консервативные христиане, пятидесятники, их ко мне направил педиатр из нашей больницы. Их единственный ребенок, сын тринадцати лет, должен пройти курс лечения от лейкемии, в будущем чреватый серьезным риском бесплодия. Педиатр порекомендовал им заморозить сперму мальчика и отправить на хранение, чтобы, когда мальчик вырастет и женится, он смог бы прибегнуть к искусственному оплодотворению и обзавестись своими детьми. Родителей не смущала идея хранения спермы, они ничего не имели против искусственного оплодотворения, но по религиозным соображениям категорически противились одной лишь мысли о том, что их сыну разрешат заниматься мастурбацией. Проблема не имела простого хирургического решения. В семье разразился кризис. Родители стали ходить ко мне на психологические консультации и после нескольких сеансов, а также после своих многочисленных молитв решили, что смирятся с риском остаться без внуков. Просто не могли позволить своему мальчику заняться тем, что на их языке именуется грехом онанизма.
Профессор Сайто покачал головой, и я подметил, что эта история доставила ему удовольствие, ее странные и надрывные сюжетные повороты развлекли (и опечалили) его совсем, как меня. Люди делают выбор, сказал он, люди делают выбор, причем за других. Ну, а помимо работы — что читаете? В основном медицинские журналы, сказал я, а еще кучу интересных вещей — приступаю, но почему-то не могу дочитать. Едва я покупаю новую книгу, она начинает меня укорять за то, что я ее не раскрываю. Я тоже читаю мало, сказал он, зрение уже не то; но я собрал достаточно большой запас вот здесь. Он указал на свою голову. Строго говоря, меня уже распирает. Мы засмеялись, и тут Мэри принесла хурму на фарфоровом блюдце. Я съел половинку одной — чуть-чуть слишком сладковата. Я съел вторую половинку и поблагодарил хозяина.
Во время войны, сказал он, я затвердил на память много стихов. Полагаю, нынче в учебных заведениях этого уже ни от кого не ждут. Я стал свидетелем этой перемены на протяжении многолетней работы в Максвелле — пришли поколения студентов, уже почти не имеющие такой подготовки. Заучивание было для них приятным развлечением, приложением к какому-то конкретному учебному курсу; а вот их предшественники, тридцатью или сорока годами раньше, сорок лет раньше, сживались с поэзией прочно: так происходит, если затвердить несколько стихотворений наизусть. У первокурсников был целый корпус произведений, успевавших пустить корни в их сознании еще до того, как студенты приходили на первую лекцию по английской литературе. Умение запоминать тексты сослужило мне хорошую службу в 40-х, и я держался за него, так как понятия не имел, когда вновь увижу свои книги, да и в лагере было особо нечем заняться. События ставили всех нас в тупик: ведь мы были американцы, всегда считали себя американцами, а не японцами. Весь этот период замешательства и ожидания — по-моему, родителям он давался тяжелее, чем детям, — в те годы я загружал свои мозги отрывками из «Прелюдии», сонетами Шекспира и множеством стихов Йейтса. Теперь я уж не помню их строки дословно, ни одного стихотворения — слишком много времени прошло, но мне нужна только атмосфера, среда, создаваемая стихами. Всего одна-две строчки, как маленький крючок, — он показал жестом — всего одной-двух достаточно, чтобы вытащить на свет божий всё: всё, что сказано в стихах, их смысл. Крючком все вытащишь. «Однажды летней солнечной порою Облекся я в одежду пилигрима. — Хоть по делам я вовсе не святой». Узнаете? Наверно, теперь больше никто ничего наизусть не учит. А для нас это было частью учебы: совсем как хороший скрипач должен вытвердить на память партиты Баха или сонаты Бетховена. Моим наставником в Питерхаузе был Чадуик, абердинец. Великий ученый, учился у самого Скита. Неужели я никогда не рассказывал вам о Чадуике? Неисправимый брюзга, но именно он первым растолковал мне ценность памяти, обучил воспринимать это как ментальную музыку, переложение для ямбов и хореев.
Мечты увели его от быта, от одеял и пакета с мочой. Снова был конец 30-х годов, и он снова жил в Кембридже, дышал сыростью с болот, наслаждался спокойствием своих научных занятий в молодости. Порой казалось, что он говорит больше сам с собой, чем со мной, но внезапно он задавал прямой вопрос, а я, оборвав нить своих маловажных размышлений, срочно подыскивал ответ. Мы вернулись к прежним взаимоотношениям ученика и учителя, и он продолжал беседу непреклонно, даже если мои ответы были не совсем верны, даже если я принимал Чосера за Ленгленда, а Ленгленда за Чосера. Час пролетел незаметно, и он спросил, не могли бы мы на сегодня закруглиться. Я пообещал скоро зайти снова.
Когда я вышел на Сентрал-Парк-Саут, ветер стал холоднее, небо — светлее, а ликующие вопли толпы — оглушительными и размеренными. По финишной прямой неспешно струился гигантский поток бегунов. Пятьдесят девятую улицу перегородили, так что я дошел до Пятьдесят седьмой и, сделав крюк, вернулся на Бродвей. У входа на станцию «Коламбус Сёркл» была толчея, и я пошел к Линкольн-центру, решив сесть в метро на следующей станции. На Шестьдесят второй улице я нагнал стройного мужчину с седеющими бакенбардами; он нес пакет с биркой, выглядел заметно изнуренным — еле переставлял кривоватые ноги. Одет в шорты поверх черных трикотажных штанов и синюю флисовую куртку с длинными рукавами. Судя по лицу, родом из Мексики или Центральной Америки. Какое-то время мы шагали молча: не то, чтобы специально шли вместе, просто темп и направление совпали. В конце концов я спросил: вы, наверно, только что пробежали марафон? Он кивнул и улыбнулся, а я его поздравил. Но сам призадумался: значит, после этих двадцати шести миль трехсот восьмидесяти пяти ярдов он просто забрал из камеры хранения пакет и пошел домой пешком. Ни друзей, ни родных рядом — не с кем отметить достижение. И тогда мне стало его жаль. Заговорив вновь, постаравшись переключиться с этих тайных мыслей на другие, я спросил, хорошо ли прошел забег. Да, сказал он, хорошо, для бега условия хорошие, не слишком жарко. Лицо у него было приятное, но усталое, он выглядел лет на сорок пять-пятьдесят, Мы прошли еще немного, два-три квартала, пересыпая паузы светскими замечаниями о погоде и толпе. На «зебре» перед оперным театром я попрощался с ним и прибавил ходу. Вообразил, как, покуда я продвигаюсь вперед, он, прихрамывая, остается позади, всё дальше от меня, неся на жилистых плечах победу, которая для всех, кроме него, остается незримой. В детстве у меня были слабые легкие, и я никогда не занимался бегом, но мне интуитивно понятен прилив энергии, обычно происходящий у марафонца на двадцать пятой миле, когда до финиша уже недалеко. Загадочнее другое — что побуждает их не сдаваться на девятнадцатой, двадцатой, двадцать первой миле. К тому времени концентрация кетоновых тел настолько высока, что ноги плохо сгибаются, а ацидоз грозит подавить волю и отключить жизнедеятельность. Первый в истории человек, пробежавший марафон, скоропостижно умер, что совершенно неудивительно. Этот подвиг требует экстраординарной выносливости, доныне представляющей собой нечто из ряда вон выходящее, сколько бы народу ни участвовало в марафоне сегодня. И тогда, оглянувшись посмотреть на давешнего спутника, думая об упавшем замертво Фидиппиде, я увидел ситуацию яснее. Меня — вот кого следовало жалеть: я одинок ничуть не меньше, но сегодня утром потратил время с меньшей пользой.
Скоро я дошел до большого фирменного магазина «Тауэр рекордс» на перекрестке с Шестьдесят шестой улицей и удивился надписям в витринах о скорой ликвидации магазина и компании, которая его открыла. В этом магазине я бывал часто, израсходовал там на музыку сотни и сотни долларов, а потому счел, что с моей стороны будет учтиво хотя бы по старой памяти зайти еще разок, пока его двери не закрылись навсегда. Была и другая причина — интригующее обещание, что цены на весь ассортимент снижены, хотя мое настроение не располагало к покупкам. Эскалатор вознес меня на второй этаж, к отделу классики, более оживленному, чем обычно: казалось, его взяли штурмом мужчины среднего и старшего возраста в серо-бурых плащах. Они с терпеливостью, достойной жвачных животных, копались в компакт-дисках; одни складывали отобранное в красные магазинные корзины, другие прижимали к груди блестящие пластиковые коробки. Из стереосистемы в зале звучал Пёрселл, бодрая торжественная песнь: я сразу узнал одну из од на день рождения королевы Марии. Обычно мне претила любая музыка, которую крутили во всеуслышание в музыкальных магазинах. Она портила удовольствие от мыслей о другой музыке. Музыкальные магазины, полагал я, должны быть пространством тишины; ясность мышления нужна там, как нигде больше. Однако в данном случае: потому, что я узнал пьесу, а также потому, что она была одной из моих любимых, — у меня не возникло внутреннего протеста.
Следующая вещь, которую поставили в магазине, была совсем другого рода, но ее я тоже узнал мгновенно: поздний Малер, первая часть симфонии Das Lied von der Erde. Я снова стал рыться в дисках, переходя от контейнера к контейнеру, от переизданий симфоний Шостаковича, исполненных давно позабытыми советскими региональными оркестрами, к сольным концертам, на которых розовощекие финалисты конкурса имени Вана Клиберна играли Шопена, а сам думал, что скидки недостаточно велики, утрачивал интерес к процессу приобретения чего бы то не было, и наконец-то начинал акклиматизироваться к музыке, звучавшей сверху, входить в ее мир с необычными цветовыми оттенками. Произошло это бессознательно, но вскоре настолько меня поглотило, что я как бы сплел себе личный кокон уютной темноты. В этом состоянии транса я продолжал переходить от одного ряда компакт-дисков к другому, ворошить пластмассовые футляры, журналы и партитуры, а тем временем слушал и слушал: части симфонии, написанной в духе «венской шинуазери», сменяли одна другую. Услышав во второй части, песне об осеннем одиночестве, голос Кристы Людвиг, я смекнул: это знаменитая запись 1964 года, дирижирует Отто Клемперер. Заодно осознал еще кое-что: мне нужно лишь потянуть время и дождаться эмоциональной сути симфонии, помещенной Малером в последнюю часть. Я сел на жесткую скамью рядом с индивидуальными станциями прослушивания и отдался грезам, следуя за Малером сквозь опьянение, тоску, высокопарность, молодость (в процессе ее отцветания) и красоту (в процессе ее отцветания). И вот началась последняя часть, «Der Abschied» —«Прощание», Малер в месте, где обычно указывал темп, написал слово «schwer» — «трудно».
Красота и птичьи трели, стенания и залихватское веселье предыдущих частей — всё отошло на задний план, выдвинулось иное настроение — преимущественно твердость духа и уверенность. Это было, словно нежданно вспыхнувший свет, полоснувший меня по глазам. Но уйти в музыку с головой было попросту невозможно — по крайней мере здесь, в общественном месте. Я положил маленькую стопку дисков, которую держал в руке, на ближайший стол и ушел. За секунду до того, как двери закрылись, вбежал в поезд метро, идущий на север. Полчища тех, кто возвращался с марафона, успели слегка поредеть. Я нашел место, сел, запрокинул голову. Фигура из пяти нот из «Der Abschied» продолжала звучать там, откуда я сбежал, воспроизводилась с начала до конца так явственно, словно я всё еще находился в магазине и слушал ее. Я чувствовал деревянность кларнетов, канифоль скрипок и альтов, вибрации литавр и разум, собирающий их воедино и нескончаемо гоняющий их по нотной линейке. Моя память трещала по швам. Песня увязалась за мной до самого дома.
На следующий день, с утра до вечера музыка Малера отбрасывала отблески на всё, чем я занимался. Повсюду в больнице даже самое будничное приобрело какую-то новую яркость, будь то сверкание стеклянных дверей на входе в Милстейн-Билдинг, или диагностические столы и каталки на нижнем этаже, или стопки медкарт в психиатрическом отделении, или свет из окон в столовой, или склоненные головы — так чудится с верхотуры — домов на севере Манхэттена; итак, отчетливость оркестровой текстуры как бы передалась миру зримых вещей, и каждая деталь каким-то загадочным образом приобрела значение. Один из пациентов уселся лицом ко мне, нога на ногу, и его висящая в воздухе правая ступня — а она, обутая в черный начищенный ботинок, дергалась — тоже почему-то оказалась частью этого замысловатого музыкального мира.
Когда я вышел из Колумбийской пресвитерианской больницы, солнце уже садилось, и оттого небо казалось жестяным. Я доехал на метро до «125-й улицы», пошел домой пешком, а по дороге — сегодня я утомился куда меньше, чем обычно по понедельникам — сделал крюк, недолго прогулявшись по Гарлему. Глазел на бойкую торговлю с лотков на тротуарах: сенегальцы продавали ткани, молодые парни — пиратские DVD-диски, тут же были лотки «Нации ислама». Книги, изданные за счет авторов, дашики, плакаты, воспевающие черное освободительное движение, связки благовоний, флаконы с духами и ароматическими маслами, барабаны джембе и всякие мелкие чочкес из Африки. На одном лотке лежали увеличенные фото линчеваний афроамериканцев в начале ХХ века. За углом, на Сент-Николас авеню, собирались водители черных «ливери-кэбов», курили и разговаривали в ожидании «левых» клиентов. Молодые парни в худи — винтики неформальной экономики, обменивались вестями и маленькими пакетиками в нейлоновых обертках: этакий балет, непостижимый для всех, кроме них самих. Проходивший мимо старик с пепельным лицом и желтыми глазами навыкате вскинул голову, здороваясь со мной, а я (на миг подумав, что наверняка знаком с ним или был знаком когда-то, или где-то видел его раньше, но поочередно отбросив все эти предположения, а затем испугавшись, что от стремительности этих умственных дисассоциаций голова пойдет кругом) ответил на его безмолвное приветствие. Оглянувшись, увидел, как его черная хламида с капюшоном слилась с сумраком неосвещенного подъезда. В гарлемской ночи не было белых людей.
В продуктовом я купил хлеба, яиц и пива, а по соседству, в ямайской закусочной, — карри из козлятины, жареные желтые бананы и рис с горошком навынос. По другую сторону продуктового находился «Блокбастер», и хотя я никогда в жизни не брал в нем ничего напрокат, меня потрясло, что в витрине тоже висело объявление о ликвидации. Если «Блокбастер» перестал окупаться в районе, где полно студентов и семей с детьми, значит, его бизнес-модель дышит на ладан, а недавние отчаянные попытки удержаться на плаву — помнится, снижение платы за прокат, настырная рекламная кампания и отмена штрафов за просрочку — слишком запоздали. Я подумал о «Тауэр рекордс» — как удержаться от сравнения, если обе компании долгое время лидировали в своих рыночных нишах? Не подумайте, что мне стало жаль эти безликие общенациональные корпорации — ни капельки. Они сделали себе имя и деньги, сживая со свету локальных конкурентов — фирмы поменьше, возникшие несколько раньше. Но мою бурную эмоциональную реакцию вызвало не только исчезновение этих торговых точек, занимавших прочное место в моем ментальном ландшафте, но и то, как стремительно, как бесстрастно рынок топит даже самые живучие предприятия. Частные компании, еще несколько лет назад казавшиеся несокрушимыми, исчезали, казалось, за несколько недель. Их роль, в чем бы она ни состояла, переходила в другие руки, и эти руки на миг почувствуют себя непобедимыми, а затем, в свой черед, опустятся перед лицом непредвиденных перемен. А тех, кто выживет, тоже однажды позабудут.
На подходе к дому я, нагруженный пакетами, увидел знакомого — жильца соседней квартиры. Он входил в подъезд одновременно со мной и придержал дверь. Я знал его плохо — собственно, почти не знал, и мне пришлось напрячь память, прежде чем я вспомнил его имя. Ему было слегка за пятьдесят, вселился он в прошлом году. Имя всплыло: Сет.
Я немного побеседовал с Сетом и его женой Карлой, когда они только въехали, но с тех пор почти не разговаривал. Он был соцработником, но досрочно ушел на пенсию, чтобы осуществить мечту всей жизни — вернуться в университет и получить второе высшее образование, по романской филологии. Я видел его раз в месяц, не чаще — где-нибудь около дома или у почтовых ящиков. Карла — она мне попалась на глаза лишь пару раз — тоже пенсионерка; раньше была директором школы в Бруклине, у них там до сих пор есть жилье. Однажды, когда моя девушка Надеж и я, взяв отгул, проводили день вместе, Сет постучался ко мне спросить, играю ли я на гитаре. Когда я сказал, что не играю, он объяснил, что днем часто бывает дома и шум из моих колонок (наверно, это колонки, сказал он, хотя похоже на живую музыку) ему иногда мешает. Но он добавил с искренней теплотой в голосе, что они с Карлой всегда уезжают на выходные, и с полудня пятницы мы можем без стеснения шуметь, сколько пожелаем. Мне стало неловко, и я извинился. После этого я целенаправленно старался не причинять им беспокойства, а он больше не поднимал этот вопрос.
Сет придерживал передо мной дверь. Он тоже шел из магазина — в руках у него были пластиковые пакеты. Холодает, сказал он. Его нос и мочки ушей порозовели, глаза слезились. Да, да, я даже подумывал взять такси от «125-й» досюда. Он кивнул, и мы немного постояли молча. Лифт подъехал, и мы вошли в кабину. Вышли на седьмом этаже, и, пока шагали, шурша пластиковыми пакетами, по коридору, я спросил, по-прежнему ли они уезжают на выходные. О да, каждую неделю, но теперь, Джулиус, я один. Карла умерла в июне, сказал он. Инфаркт.
Я остолбенел — сознание ненадолго помутилось, словно мне только что сообщили о чем-то совершенно невозможном. Примите мои соболезнования, сказал я. Он склонил голову, и мы пошли по коридору дальше. Я спросил, удалось ли ему взять небольшой академический отпуск. Нет, нет, сказал он, я продолжал учиться бесперебойно. Я на одну секунду прикоснулся к его плечу и снова сказал, что соболезную, а он поблагодарил. Казалось, он испытывает смутную неловкость оттого, что поневоле напоролся на мое запоздалое потрясение: ведь для него случившееся было глубоко личным переживанием, но давно уже не новостью. Наши ключи звякнули, и он вошел в квартиру номер двадцать один, а я — в номер двадцать два. Я закрыл за собой дверь и услышал, что, его дверь тоже закрылась. Я не стал включать свет. В комнате по соседству с моей умерла женщина — умерла по ту сторону стены, к которой я сейчас прислоняюсь — а я ничего не знал. Ничего не знал все те недели, пока муж ее оплакивал, ничего не знал, когда шел в наушниках и приветственно кивал ему, или когда в прачечной нашего дома выгружал белье, а он клал свое в стиральную машину. Мы не были настолько близко знакомы, чтобы я взял за обычай спрашивать, как поживает Карла, или вообще заметил, что ее больше не видать. И это самое ужасное. Я не подметил ни ее отсутствия, ни изменений — а изменения непременно должны были произойти — в его душевном состоянии. И даже теперь нельзя постучаться, и обнять его или поговорить поподробнее. Это была бы лишь имитация близкой дружбы.
Наконец, я включил свет и ушел вглубь квартиры. Вообразил, как Сет корпеет над домашними заданиями по французскому и испанскому — спрягает глаголы, оттачивает переводы, зубрит списки слов, пишет сочинения на заданную тему. Убирая продукты в холодильник, я параллельно припоминал, когда именно он постучался с вопросом, играю ли я на гитаре. И в конце концов успокоился, решив, что это было еще до смерти его жены — не после. От этого вывода мне слегка полегчало, а это чувство почти сразу же вытеснил стыд. Но даже стыд отхлынул; отхлынул чересчур быстро, полагаю я теперь, когда об этом размышляю.
Перевод с английского Светланы Силаковой