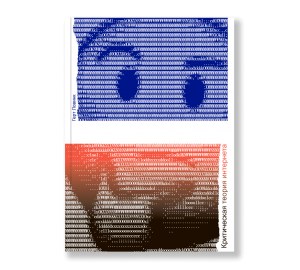Будущее одиночества

В следующем году мы издадим новую книгу Оливии Лэнг «Непредсказуемая погода. Искусство в чрезвычайной ситуации» — сборник эссе и журнальных колонок, посвященных текстам, визуальным произведениям и опытам, которые писательница вслед за Ив Кософски Седжвик называет «репаративными». Вот как формулирует идею книги в предисловии сама Лэнг:
«Многие темы, обсуждаемые в этих эссе, болезненны… Одиночество, алкоголизм, недовольство собственным телом, разрушительные отношения, вызывающие тревогу технологии: всегдашние веселенькие темы. Но это не депрессивная книга, и хотя я на протяжении нескольких лет писала множество резко критических текстов, эта интонация не является здесь преобладающей. “Непредсказуемая погода” населена художниками, которые вдохновляют и волнуют меня; они внимательно всматриваются в общество, в котором живут, а также предлагают новые способы ви́дения… Нам часто говорят, что искусство не способно ничего изменить. Я не согласна. Оно формирует наши этические ландшафты; оно открывает нам внутренние жизни других людей. Оно служит полигоном возможного. Оно создает простые неравенства и предлагает иные образы жизни. Разве вы не хотели бы пропитаться всем этим светом? И что случится, если вы им пропитаетесь?»
В предлагаемом вниманию читателей эссе, Лэнг развивает свою коронную тему одиночества, обращаясь к творчеству современного американского видеохудожника Райана Трекартина.
Март 2015
В конце прошлой зимы над Таймс-сквер появился огромный билборд, рекламирующий «Android», операционную систему Google. Строчными буквами, призванными обозначить дружелюбие корпорации, он призывает: «будьте вместе. но не одинаковыми». Эта разделенная точкой мантра резюмирует самое магическое из предложений сети: ее существование как пространства, где никому и никогда больше не придется страдать от одиночества, где дружба, секс и любовь достижимы одним кликом мыши, а различия — источник очарования, а не стыда.
Интернет, как и сам город, сулит встречи и знакомства. Он как будто предлагает противоядие от одиночества, превосходя даже самую утопическую городскую среду, поскольку дает возможность незнакомцам развивать отношения на основе общих интересов, вне зависимости от того, насколько застенчивы или одиноки они могут быть в реальной жизни. Но общность не обязательно подразумевает близость, что хорошо понимают городские жители. Самого по себе контакта с другими людьми недостаточно, чтобы снять бремя внутренней изоляции.
В 1942 году художник Эдвард Хоппер создал знаковый образ городского одиночества. Картина «Полуночники» показывает четырех персонажей в ночном кафе, отрезанных от улицы выгнутым оконным стеклом: тревожная сцена разобщенности и отчуждения. В своем творчестве Хоппер сосредоточен на изображении людей в залитом электрическим светом городе, где они собраны вместе, но при этом изолированы и выставлены напоказ в маленьких камерах. Его картины возводят архитектуру одиночества, воспроизводя замкнутые пространства офисных зданий и квартир-студий, в которых невольные эксгибиционисты, заключенные в стеклянные боксы, демонстрируют свои частные жизни в кинематографических кадрах.
Прошло уже больше семидесяти лет с тех пор, как были написаны «Полуночники», но тема тревоги по поводу отношений не утратила актуальности, хотя беспокойство в связи с реальным городом сменилось страхами, связанными с нашим новым виртуальным публичным пространством, интернетом. За прошедшие годы мы вошли в мир экранов, который выходит за рамки беспокойного взгляда Хоппера.

В сердцевине одиночества кроется возможность быть увиденным. Когда человек одинок, он хочет, чтобы его заметили, поддержали, хочет быть желанным, и в то же время остро чувствует свою незащищенность. Согласно исследованию, проведенному в минувшем десятилетии Чикагским университетом, чувство одиночества вызывается тем, что психологи называют «сверхбдительностью к социальным угрозам». В таком состоянии, сам того не подозревая, индивид оказывается сверхчувствителен к неприятию и склонен воспринимать свои социальные связи как нечто окрашенное враждебностью или пренебрежением. Вследствие такого сдвига восприятия формируется порочный круг отчуждения, попав в который, одинокий человек становится все более подозрительным, что усиливает чувство изолированности.
В этом случае онлайн-общение, кажется, обладает особой привлекательностью. Спрятавшись за экраном компьютера, одинокий человек сохраняет контроль. Можно найти себе компанию без риска быть раскрытым или отвергнутым. Можно поддерживать связь или скрыться; можно остаться в тени или показаться на глаза, не боясь испытать унижение из-за того, что не оправдал надежд при личной встрече. Экран служит своего рода защитной мембраной, ширмой, позволяющей оставаться невидимым и изменить свою личность. Ты можешь скорректировать свой образ, скрыв непривлекательные черты, и предстать более совершенным: аватарка создается, чтобы собирать лайки. Но тут возникает одна проблема: контакт в сети — не совсем то же самое, что личное общение. Представив себя в более привлекательном виде, можно увеличить число фолловеров или фейсбучных френдов, но это не гарантирует излечение от одиночества, поскольку одиночество лечится не тем, что на тебя смотрят, а тем, что тебя замечают и принимают как целостную личность: некрасивым, несчастным и неловким, а не только ослепительным и готовым к селфи.
Этот аспект дигитального существования находится в центре внимания профессора Массачусетского технологического института Шерри Теркл, которая пишет о взаимодействии человека и технологий на протяжении трех последних десятилетий и которую все больше беспокоит возможность онлайн-среды представлять нас такими, какими, как нам кажется, мы хотим быть. По словам Теркл, одна из проблем, связанных с интернетом, заключается в том, что он побуждает нас придумывать самих себя. «На экране, — пишет она в книге „В одиночестве вместе“ (2011), — ты можешь приписать себе ту личность, какой хочешь быть, и представить других такими, какими желал бы их видеть, подогнав их под свои цели. Это соблазнительная, но опасная привычка разума».
Но существуют и другие опасности. Мой личный пик увлечения соцсетями пришелся на период болезненной изоляции. Это было осенью 2011 года, я жила в Нью-Йорке — с недавно разбитым сердцем и за тысячи километров от семьи и друзей. Во многих смыслах интернет принес мне ощущение безопасности. Мне нравилось поддерживать контакты с его помощью: разговоры, шутки, волны дружелюбия, популярность в Твиттере и Фейсбуке. Судя по лайкам — этим маленьким инструментам повышения самооценки. Большую часть времени это выглядело как обмен, одаривание друг друга информацией и вниманием, что отлично срабатывало, особенно в Твиттере с его способностью стимулировать беседы между незнакомыми людьми. Это воспринималось как сообщество, приятная и радостная среда; по сути, как якорь спасения, ведь в противном случае я оказалась бы в полной изоляции. Но шли годы — 1000 твитов, 2000 твитов, 17400 твитов — и мне все больше казалось, что правила меняются, что становится сложнее добиться настоящей связи, хотя как источник информации сеть оставалась вне конкуренции.
Этот период совпал с глубоким сдвигом в интернет-нравах.
Необходимость выглядеть совершенным давит все сильнее, а некогда защитный экран перестал надежно разделять сферы реального и виртуального. Все чаще те, кто взаимодействует в онлайн-пространствах, начинают осознавать, что неизвестная аудитория в любой момент может раскрыть их настоящую личность, опозорив и сделав козлами отпущения.
Тревожные последствия этой дигитальной охоты на ведьм задокументировал Джон Ронсон в книге «Итак, тебя публично опозорили». Одна из самых вопиющих историй, в ней изложенных, посвящена Линдси Стоун, которая выложила на своей личной, как она считала, страничке в Фейсбуке легкомысленную фотографию — в числе прочих снимков, на которых она и ее друг бросают вызов предписаниям на знаках. На фото она показывает средний палец перед знаком, призывающим к «молчанию и уважению», на Арлингтонском военном кладбище. Спустя месяц картинка стала вирусной. Стоун подверглась групповому изнасилованию, ее угрожали убить, уволили с работы, у нее началась депрессия, из-за которой она почти год не выходила из дома.
Размывание границы между публичным и приватным, ощущение того, что за тобой следят и при случае наказывают, связано не только с наблюдающими за нами людьми. За нами следят и те самые устройства, с помощью которых мы выходим на связь. Как заметил недавно в журнале frieze художник и географ Тревор Паглен: «Мы переживаем момент (вообще-то, вероятно, уже довольно давно), когда большая часть изображений реальности делается машинами для машин». В этой ситуации вынужденной прозрачности — психологического эквивалента ресторанчика из «Полуночников» — почти все, что мы делаем, от покупок в супермаркете до размещения фотографий на Фейсбуке, фиксируется, а собранные данные используются для того, чтобы спрогнозировать, монетизировать, спровоцировать или предотвратить наши будущие действия.
Все более тесное переплетение корпоративного и социального, смутное подозрение, что за нами наблюдают невидимые глаза, вынуждают чаще задумываться над тем, что и где сказать. Возможность резкого осуждения и неприятия как раз и становится причиной сверхбдительности и замкнутости, которые усиливают одиночество. А с ним приходит постепенное осознание того, что наши дигитальные следы надолго переживут нас самих.
В 1999 году критик Брюс Бендерсон опубликовал эпохальную статью «Секс и изоляция», в которой писал: «Мы очень одиноки. Ничто не оставляет следов. Сегодня кажется, что тексты и образы высечены навеки, но в действительности они недолговечны — лишь временная преграда для всепроникающего света. Как бы долго слова и изображения ни удерживались на нашем экране, они не срастутся с ним; как появились, так и исчезнут».
Бендерсон полагал, что одинокими нас делает мимолетность, присущая интернету, но тот факт, что данные обо всех действиях, совершаемых нами в виртуальном мире, сохраняются, представляется куда более тревожным. Ясно, что за два года до 11 сентября и за четырнадцать лет до того, как Эдвард Сноуден, Джулиан Ассанж и Челси Мэннинг рассказали о ведущейся тотальной слежке, было невозможно представить себе будущую зловещую устойчивость сети, где информация чревата последствиями и ничто никогда не пропадает — ни заблокированные логи, ни нескромные фото, ни поисковые запросы о порно или интимных болезнях, ни свидетельства насилия над целыми народами.
Но, быть может, я настроена слишком негативно, слишком параноидально, что нередко случается с одинокими людьми. Быть может, мы способны адаптироваться, обрести близость в этом пространстве беспрецедентной прозрачности и уязвимости. Хотела бы я знать, куда мы идем. Как это ощущение постоянного наблюдения влияет на нашу способность контактировать друг с другом?
*
Будущее не появляется ниоткуда. Каждая новая технология порождает волну тревожной энергии, поскольку каждая меняет правила общения, перекраивает социальный порядок. Возьмем телефон — удивительный прибор для уничтожения расстояния. Когда в апреле 1877 года первая линия связала телефоны №1 и №2 телефонной компании Белла, он казался инструментом почти сверхъестественным в силу его способности отделять голос от тела.
Вскоре телефон был признан спасительным якорем, лекарством от одиночества, особенно для деревенских женщин, застрявших в фермерских домиках вдали от семьи и друзей. Но это устройство обросло страхами, связанными с анонимностью. Открыв канал между внешним миром и домашней сферой, телефон содействовал недостойному поведению. С самого начала и случайные люди, и так называемые «привет-девочки», работавшие телефонистками, столкнулись с непристойными звонками. Многие беспокоились, что по проводам могут передаваться микробы, распространяемые при дыхании, и что кто-то невидимый может подслушать частную беседу. Микробы были фантазией, а вот слушатели — вполне реальны, будь то операторы или соседи, с которыми приходилось делить линию.
Тревожила и вероятность неправильного понимания. В 1930 году Жан Кокто написал свой запоминающийся монолог «Человеческий голос», пьесу на тему черных дыр, которые возникают в общении из-за технических сбоев. В пьесе всего одна героиня; при постоянных помехах на линии она говорит со своим любовником, бросившим ее и собирающимся вскоре жениться на другой. Ее боль усугубляется тем, что ее постоянно заглушают другие голоса, либо связь прерывается. «Но я же говорю очень громко… А так ты слышишь?.. Я тебя слышу. Да, это было неприятно. Сама слышишь, а тебя, как ни старайся, не слышно, точно ты умерла…». Финал телевизионного фильма с Ингрид Бергман в главной роли не оставляет сомнений в том, кто виновник: на него указывает зловеще долгий заключительный кадр с поблескивающей черной трубкой, откуда доносится безнадежный длинный гудок, пока по экрану ползут титры.

Сбивчивый, отрывистый диалог в «Человеческом голосе» свидетельствует о том, что устройства, созданные для общения, могут на деле это общение затруднить. Если телефон — машина для распространения слов, то интернет — машина для конструирования и распространения идентичностей. В эпоху интернета тревога Кокто по поводу того, как новые технологии отражаются на возможности вести приватную беседу, перерастает в ужас от абсолютного разрушения границ между людьми.
Проблемы идентичности и ее распада поднимаются в хаотичном и тревожном фильме «I-Be Area», вышедшем в 2007 году. Главный герой вовлечен в войну идентичностей со своим клоном и онлайн-аватаром этого клона. Этот фильм, с его щедрым использованием «невидимого» монтажа, раскрашенными лицами и дешевыми компьютерными эффектами, раскрывает маниакальные перспективы и опасности цифрового существования. Все действующие лица, начиная с детей в первых кадрах, снимающихся в трогательных видео для усыновления, пытаются найти привлекательный образ, демонстрируемый на публику, которая в любой момент может утратить интерес или перейти к агрессии, что подталкивает их ко все более творческим и причудливым преобразованиям. Часто они кажутся запертыми в подростковых спальнях, и каждый говорит без умолку: приливная волна быстрого, визгливого, с интонациями «девушки из долины» «олбанского» языка, болтовня звезд ютуба, густо замешанная на корпоративных лозунгах и ломаном английском ботов и программистов. Все занимаются саморекламой, никто не слушает.
Этот веселый и сбивающий с толку фильм создан Райаном Трекартином, тридцатичетырехлетним режиссером с детским лицом, которого арт-критик New Yorker Питер Шелдал назвал «самым значительным среди художников, появившихся с восьмидесятых годов». Трекартин привлекает к созданию фильмов своих друзей. Его работам присуща кэмповая эстетика любительского кино, которая зачастую заставляет вспомнить гения киноавангарда 1960-х годов Джека Смита, перевоплощения Синди Шерман, трюки с самоистязанием из шоу «Чудаки» и идиотскую исповедальную прямоту телевизионных реалити-шоу.
Эти фильмы привлекают опыт современной цифровой культуры — тошнотворный страх перед ошеломительным потоком возможностей, не в последнюю очередь касающихся того, кем ты мог бы стать, — и разгоняют их до предела. Просмотр фильмов Трекартина часто вызывает экстатическое удовольствие, хотя, по ироничному замечанию писательницы Мэгги Нельсон, «зрители, которые видят в Трекартине безумного ученого, эмиссара грядущих поколений, явившегося, чтобы ответить на вопрос, все ли у нас будет в порядке, вряд ли почувствуют себя спокойнее».
Глядя на этот тщательно организованный хаос, трудно отделаться от дискомфортного ощущения, что под прицел кинокамеры попала наша собственная жизнь. Персонажи Трекартина (хотя сомневаюсь, что он одобрил бы такой термин, подразумевающий свойственную XX столетию веру в устойчивое и опознаваемое Я, ныне утраченную) понимают, что могут стать собственностью или брендом, могут быть отвергнуты или преобразованы. В ответ на давление их личности деформируются и растворяются. Удовольствие от этих трансформаций — вот чем замечателен фильм Трекартина.
Но остаются еще довольно веские причины для беспокойства, не в последнюю очередь связанные с вопросом о том, кто именно наблюдает за нами.
*
Последние пару лет Трекартин совместно с куратором Лорен Корнелл работал над концепцией очередной Триеннале в нью-йоркском Новом музее, которая открылась в конце февраля 2015 года. На выставке собраны работы пятидесяти одного художника на тему существования в эпоху интернета. Ее название, «Всепроникающая публика», указывает на благие, но и зловещие возможности общения, открывшиеся перед нами. Художник как свидетель, а может — художник, втянутый в эксперимент, которого никому из нас не избежать.
На протяжении одной из морозных февральских недель в Нью-Йорке я четыре раза ходила смотреть «Всепроникающую публику», чтобы проверить свои недавние соображения по поводу одиночества и близости. Самым агрессивно антиутопическим произведением была работа Джоша Клайна «Свобода» — инсталляция, воссоздающая архитектуру Зукотти-парка, принадлежащего частному лицу публичного пространства на Манхэттене, где базировался лагерь активистов акции «Захвати Уолл-стрит». Клайн поместил в реплику парка пять фигур Телепузиков в человеческий рост, одетых в униформу полицейского спецназа — с кобурой на бедре, в высоких армейских ботинках и бронежилетах. В их животы вставлены телеэкраны, на которых транслируются кадры с копами вне служебной обстановки, монотонно зачитывающими записи из аккаунтов активистов. Работа Клайна демонстрирует, что пространство, которое мы населяем, все больше усложняется, и что наши слова легко может присвоить себе кто-то другой.

Каково это, когда за тобой наблюдают? Многие из работ убеждают нас, что это похоже на пребывание в тюрьме — или в карантинных бункерах, созданных гонконгским художником Надимом Аббасом. Эти крошечные клетушки, где с трудом убирается односпальная кровать, обставлены в духе модных интерьерных сайтов: комнатные растения, покрывала в полоску и абстрактные эстампы на стенах; атмосфера модной домашней жизни контрастирует со скрытым насилием пространства. Как и в ресторанчике из «Полуночников» Хоппера, здесь нет ни входа, ни выхода; только стеклянная перегородка, которая располагает к вуайеризму, но не допускает контакт. Прикосновение возможно лишь с помощью двух комплектов черных резиновых перчаток; одна пара позволяет кому-то — скажем, охраннику, медсестре или надзирателю — просунуть руки внутрь, а другая дает возможность пациенту высунуть руки наружу.
Но «Всепроникающая публика» включает также работы, которые говорят о способности интернета ликвидировать или модифицировать изоляцию. «Джулиана», скульптура Фрэнка Бенсона, изображающая двадцатишестилетнюю художницу и диджея Джулиану Хакстейбл, — триумфальная икона самосозидания. Хакстейбл — трансгендер, и скульптура, представляющая собой отпечатанную в натуральную величину 3D модель, показывает ее обнаженное тело с женской грудью и одновременно пенисом, этими, как считается, определяющими атрибутами гендерной идентичности. Она полулежит на постаменте, косы спускаются по спине, вытянутая правая рука застыла в элегантном и властном жесте: царственная персона, чья мерцающая кожа выкрашена спреем в мистический сине-зеленый металлик.

Можно рассматривать «Джулиану» как трехмерное доказательство того, что транс-сообщество меняет понятия реального и подлинного. Неслучайно движение за права трансов активизировалось в ту эпоху, когда технологии содействуют как созиданию собственной идентичности, так и построению сообщества. Рассуждая об опасностях и угрозах, Теркл упускает из виду возможность (в физическом мире часто ограниченную или запрещенную) конструировать и манифестировать собственную идентичность — возможность, особенно важную для тех, чья сексуальность, раса или гендерная самоидентификация считаются маргинальными или трансгрессивными.
*
Будущее не объявляет о своем наступлении. В романе Дженнифер Иган «Время смеется последним» (2010), за который она получила Пулитцеровскую премию, есть сцена, которая происходит в ближайшем будущем и в которой описана деловая встреча молодой девушки и мужчины более старшего возраста. После короткого разговора девушка начинает нервничать от необходимости вести устную беседу и спрашивает мужчину, не может ли она «нпст» ему, хотя они сидят рядом. В то время как информация безмолвно перетекает из одного телефона в другой, героиня выглядит «почти сонной от облегчения», и называет состоявшийся обмен «чистым». Отчетливо помню, что когда я читала книгу, эта сцена показалась мне ужасной, шокирующей, абсолютно надуманной. Спустя несколько месяцев я уже находила ее довольно правдоподобной, немного преувеличенной, но в целом убедительной.
В Нью-Йорке я встретилась с Трекартином, чтобы обсудить выставку «Всепроникающая публика» и предлагаемое ею ви́дение того будущего, в котором мы оказались. Он держал в руке стаканчик кофе и был одет в красную толстовку со словом «охота», оставшуюся после съемок. Говорил намного медленнее, чем патологически болтливые персонажи, которых он играет в своих фильмах, часто останавливался, чтобы подобрать нужное слово. Ему тоже кажется, что мы, почти не осознавая этого, вошли в новую эру — давно провозглашенную и внезапно наступившую. «Мы не обязательно выглядим по-другому, но мы совершенно другие», — сказал он.
Как считает Трекартин, этот период — наступившее будущее— характеризуется стиранием границ между индивидуумом и сетью. «Твоя жизнь доступна другим, и ты не можешь это контролировать». Но Трекартин оптимистично смотрит на то, к чему нас может привести использование технологий. «Ясно, — говорит он, — что все это не поддается контролю, поэтому нам как пользователям остается только придерживаться принципов сострадания и содействовать их распространению, надеясь, что все будет развиваться во благо, а не во зло человеку… Возможно, я слишком наивен, но все происходящее кажется мне естественным. В сущности, мы уже над этим работаем. Делаем то, что уже заложено в нас».
Ключевое слово здесь — сострадание, но меня поразило, что он использовал также слово «естественный». Критика технологического общества часто кажется одержимой страхом, что происходящее неестественно, что мы становимся постчеловечеством и вступаем, по словам Теркл, в «период роботизации». Но «Всепроникающая публика» — проект, исполненный человечности, глубоко жизнеутверждающее сочетание любопытства, надежды и страха, насыщенное созидательными стратегиями взаимодействия и сопротивления.
На протяжении той недели, что я ходила на выставку, меня особенно привлекала одна работа — шестиминутный фильм без названия австрийского художника Оливера Ларика, многие работы которого посвящены напряженным отношениям между копией и оригиналом. Ларик перерисовал и анимировал сцены физической трансформации из множества мультфильмов, сопроводив их закольцованной музыкой, странной и тревожной в своей меланхоличности. Ничто не оставалось неизменным. Формы постоянно мигрировали, пантера превращалась в хорошенькую девушку, Пиноккио — в осла, старушка расплывалась в грязь. Но впечатляли не сами трансформации, а те выражения, которые появлялись на лицах персонажей в момент их изменения: мучительное, даже душераздирающее сочетание покорности и смятения.
Этот фильм затрагивает самую суть тревоги относительно взаимодействия между внутренней и внешней жизнью — тревоги, источником которой выступает не столько интернет, сколько то, как мы его используем. Достаточно ли я хорош? Не нуждаюсь ли в совершенствовании или коррекции? Почему я не могу измениться? Почему меняюсь так быстро? Это ощущение беспомощности перед лицом внешних враждебных сил неотделимо от извечного человеческого удела— быть заключенным в ловушку времени и потому подверженным неизбежным потрясениям и потерям. В конце концов, разве повседневный ужас столкновения со старостью, болезнью и смертью не превосходит любой научно-фантастический сценарий?
Так или иначе, уязвимость, которую передает фильм Ларика, внушает мне надежду. Трекартин младше меня всего на три года, но когда я разговаривала с ним, мне казалось, что передо мной человек другого поколения. Мое собственное понимание одиночества опиралось на веру в существование цельных, отдельных личностей, которую он находит безнадежно устаревшей. В его картине мира все люди взаимопроницаемы и каждый проходит через постоянные циклы трансформаций; больше нет отдельных личностей, а есть перемешанные. Возможно, он прав. Мы не такие цельные, как думали раньше. Мы существуем не только в телах, но и в сетях, заполняем пустое пространство, живем внутри машин и в головах других людей, в воспоминаниях и потоках информации, а не только во плоти. За нами наблюдают, и мы не можем это контролировать. Мы жаждем общения, но оно нас пугает. Но пока мы все еще способны испытывать чувства и выражать свою уязвимость, у близости есть шанс.
Перевод: Наталья Решетова