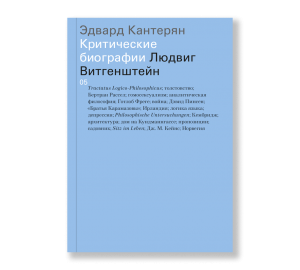Витгенштейн: В окопах Первой мировой: 1914 –1918

Людвиг Витгенштейн писал Логико-философский трактат на протяжении всей Первой мировой войны. Как замечает Эдвард Кантерян, автор биографии Витгенштейна: «Его метод — и тогда, и позднее — состоял в том, чтобы записывать приходившие в голову мысли в записную книжку в форме отдельных, но тем не менее взаимосвязанных заметок». К выходу перевода Zettel. Заметок мы публикуем отрывок из биографии Витгенштейна. В этой книге Кантерян не только рассказывает о жизни философа, но и разъясняет суть его некоторых идей от Логико-философского трактата до Философских исследований.
28 июля 1914 года Австрия объявила войну Сербии. Витгенштейн был непригоден к военной службе из–за грыжи, но 7 августа все равно записался добровольцем. Спустя два дня он начал работу над самой ранней из сохранившихся рукописей Трактата, — теперь она фигурирует под номером MS 101 (опубликована в: Тетради 1914–1916). В течение всей войны он продолжал заниматься философией. Его метод — и тогда, и позднее — состоял в том, чтобы записывать приходившие в голову мысли в записную книжку в форме отдельных, но тем не менее взаимосвязанных заметок. Иногда это были одно-два предложения, содержавшие высококонцентрированную мысль, траектория которой указывалась, но без приведения подробностей. Витгенштейн напишет не менее пяти рукописей, прежде чем летом 1918 года сочтет книгу законченной. Таким образом, он сочинил весь Трактат во время войны, находясь на фронте, иногда в окопах, во время передышек между страшными боями. Военный опыт оставил свой отпечаток и на авторе, и на его книге. Он не повлиял на работу Витгенштейна над основаниями логики и языка, но последние страницы Трактата были посвящены этике и мистике — темам, за которые Людвиг взялся во время войны.
Витгенштейн пошел служить из патриотических чувств, веря, что он должен защищать свою страну, но, в отличие от большинства соотечественников, не разделяя энтузиазма в отношении войны, которая привела к бессмысленной гибели миллионов людей. Он писал в дневнике:
«Мне кажется, по сути очевидно, что нам не одолеть Англию. Англичане — лучший народ на земле — не могут проиграть. Мы, однако, можем и должны проиграть, если не в этом году, то в следующем. Мысль, что наш народ будет разбит, вгоняет меня в жуткую депрессию, потому что я абсолютнейший немец» (MS 101, 25 октября 1914 г. Все ссылки на рукописи отсылают к рукописному наследию Витгенштейна. Nachlass. Bergen and Oxford, 2000).
Помимо патриотизма была еще одна причина, по которой Витгенштейн пошел воевать: это чувство, типичное для многих европейцев, особенно интеллектуалов, — чувство, что Европа пришла в упадок и что нужно заняться чем-то реальным, воссоединиться с «жизнью». Как писала его сестра Эрмина в своих мемуарах, Витгенштейн «горел огромным желанием взвалить на себя тяжелую ношу и выполнить какую-нибудь задачу помимо чисто интеллектуальной работы». Подобно другим своим современникам, он относился к войне как к личному испытанию, считал, что поймет, чего сам стóит, только перед лицом смерти. Витгенштейн очень быстро попробовал войну на вкус. Первоначально его определили в артиллерийский полк, но через десять дней после призыва перевели на канонерскую лодку «Гоплана», которая совершала рейды на вражескую территорию вниз по Висле. Вот его рассказ о первом задании, которое ему, одетому в одно лишь нижнее белье, пришлось выполнять на следующий день после прибытия на борт канонерки:
«Внезапно проснулся в час ночи. Меня поднял лейтенант, который приказал сразу идти к прожектору: “не одеваться”. Я выбежал на мостик почти голый. Ледяной ветер, дождь. Я был уверен, что погибну на месте. <…>
Я был страшно взволнован и стонал вслух. Я почувствовал весь ужас войны. Теперь (вечером) я преодолел страх. Если мой нынешний настрой не изменится, я буду всеми силами стараться остаться в живых» (MS 101, 18 августа 1914 г.).
На прожекторе должен был находиться рядовой, и выполняемая им задача была достаточно опасной. Однако настоящая проблема заключалась не в риске, а в том, что Витгенштейн терпеть не мог своих сослуживцев — и на этой канонерке, и позднее на Восточном фронте. С его точки зрения, они, за редкими исключениями, представляли собой «сборище пьяниц, подлецов и тупиц», «злобных и бессердечных», «ужасающе ограниченных», совершенно бесчеловечных, как писал он в дневнике весной 1916 года. В большинстве своем эти люди происходили из рабочего класса, и у Витгенштейна с ними было мало общего. Жизнь на тесном судне, постоянно на грани между жизнью и смертью, еще сильнее высветила разницу между Витгенштейном и ними. Он чувствовал, что его ненавидят, и в ответ ненавидел их. Его манеры и причуды, брезгливость и рафинированность в таких обстоятельствах оказались дополнительным раздражителем, особенно с учетом того, что они никак не соответствовали его низкому званию. Как когда-то в линцской школе, Витгенштейн снова чувствовал себя отверженным и преданным. Он неоднократно пытался проявить христианское смирение, хотел заставить себя понять и принять своих товарищей. Но даже когда удалось побороть ненависть, неприязнь осталась. Тем не менее — и это было типичное для Витгенштейна самоистязание — он не искал избавления от своего положения. Хотя ему как выпускнику линцского училища были положены определенные льготы, он долгое время не хотел ими пользоваться.
Витгенштейн оказался в самой гуще злосчастной Восточной кампании 1914 года, в результате которой в начале ноября австрийское наступление остановилось и войска едва не обратились в бегство. В своем дневнике Витгенштейн приводит точное описание упадка боевого духа австрийцев. В нем также содержатся зашифрованные записи — ценнейший источник информации об эволюции его философских и личных взглядов. Благодаря дневнику мы можем составить представление о душевном состоянии Витгенштейна, о периодах тяжелой депрессии, перемежавшихся почти мистическими вспышками чувств. Такого с ним еще не было: до войны Витгенштейн не был религиозен, он утратил свою детскую веру еще в Линце. Все изменила война. Сложно сказать, стал ли он там по-настоящему верующим. Но после августа 1914 года было бы неправильно считать его нерелигиозным человеком. Примерно в начале своей военной службы Витгенштейн зашел в книжный магазин в Тарнове и обнаружил, что помимо открыток там продается лишь одна книга: Краткое изложение Евангелия Толстого. Он купил ее, прочитал, перечитал и потом все время держал при себе (за что сослуживцы стали называть его «библеистом»). По мнению Макгиннеса, в толстовском варианте христианства Витгенштейн увидел путь к счастью, который показался ему привлекательным на фоне его безотрадного положения в армии, а может, и при воспоминаниях о более ранних мучениях, поскольку давал рецепт, как перестать зависеть от унижений и страданий, причиняемых внешними факторами. Чтобы спастись от смерти, каждый должен отказаться от своих эгоистических инстинктов и соединиться с духом, который объединяет нас всех в Боге. Человек должен служить другим и обессмертить себя, борясь против своей эгоистической натуры, которая является настоящим источником всех страданий. Толстой определенно стал утешением для Витгенштейна:
«Новости всё хуже. Сегодня вечером будет объявлена постоянная готовность. Работаю более или менее каждый день, с достаточной уверенностью. Я снова и снова проговариваю слова Толстого в уме. “Человек бессилен во плоти и свободен духом”. Да пребудет дух со мной! <…> Как я себя поведу, когда надо будет стрелять? Я боюсь не того, что будут стрелять по мне, а того, что не выполню свой долг как следует. Боже, дай мне сил! Аминь. Аминь. Аминь» (MS 101, 13 сентября 1914 г.).
Через день он записал: «Теперь у меня есть возможность быть достойным человеком, потому что я нахожусь перед лицом смерти». Здесь, без сомнения, звучит голос религиозный, но христианский он лишь настолько, насколько можно считать христианством толстовскую интерпретацию. Молитвы Витгенштейна были краткие и обращены к «духу», а не к Христу. Может быть, это была версия религии, рационализированная интеллектуалом, рафинированный вариант «долга перед самим собой», к исполнению которого призывал Вейнингер? Не столько настоящая вера в учение Христа, Его распятие и тайну воскресения, сколько принятие толстовской духовности в качестве оптимального рецепта для преодоления серьезных экзистенциальных трудностей? Такая «упрощенная» форма религии имела свою традицию в западной мысли; к ее предтечам можно отнести Давида Фридриха Штрауса, Шопенгауэра и Ральфа Уолдо Эмерсона (двух последних Витгенштейн также читал во время войны). Это сложные вопросы. Так или иначе, Витгенштейн стал христианином в достаточной степени, чтобы возмутиться ницшевским «Антихристом», которого прочел ближе к концу 1914 года:
«Меня сильно задела [ницшевская] враждебность по отношению к христианству, поскольку в его сочинениях доля правды все–таки есть. Христианство, несомненно, единственный бесспорный путь к счастью, но что если кому-то на это счастье начхать? Не лучше ли сгинуть несчастным в безнадежной борьбе с внешним миром? Но такая жизнь бессмысленна. <…> Что мне делать, чтобы моя жизнь не оказалась потерянной для меня? Я должен это постоянно сознавать» (MS 102, 8 декабря 1914 г.).
Вопрос о жизни и смерти в то время занимал Витгенштейна с личной, а не с философской точки зрения; в дневнике зашифрованные записи стоят рядом с обширными, но не имеющими к ним отношения и незакодированными заметками об основаниях логики, о языке и онтологии. Это необходимо подчеркнуть, чтобы возразить тем модным интерпретациям, согласно которым волновавшие его вопросы этики и логики были двумя сторонами одной монеты. Под вражеским огнем или в пучине душевных страданий Витгенштейн искал спасение не в решении парадокса Рассела, он молился не музе Логики и не Великому Квантору, а Богу из толстовского Евангелия. Утверждать, что между его логическими изысканиями и религиозными проблемами есть какая-то связь, значит романтизировать первые и опошлять вторые.
Следующий, 1915-й, год Витгенштейн провел в относительной безопасности в артиллерийской мастерской в Кракове, где его инженерные навыки оказались весьма востребованы. Летом при взрыве в мастерской он получил небольшое ранение и некоторое время пролежал в госпитале. После этого он попал в другую артиллерийскую мастерскую, которая располагалась в поезде, стоявшем недалеко от Львова. Наконец в марте 1916-го Витгенштейна по его собственной просьбе перевели в гаубичный полк на русском фронте в Галиции. Здесь он добровольно вызвался дежурить по ночам на артиллерийском наблюдательном пункте — в том месте и в то время, где опасность была наибольшей. Макгиннес описывает этот период как «один из тяжелейших в жизни Витгенштейна», и это не преувеличение (McGuinness B. Young Ludwig. Р. 238.). Он мучился от пищевых отравлений и других болезней, чувствовал себя затравленным сослуживцами, а в конце апреля — в первый раз на своем наблюдательном пункте — оказался в зоне боевых действий, под прямым огнем противника. Тем не менее он почувствовал, что наложит на себя руки, если его вдруг соберутся перевести оттуда в другое место. «Возможно, близость к смерти наполнит мою жизнь светом» (MS 103, 4 мая 1916 г.). Есть что-то трогательное и вдохновляющее в том, как Витгенштейн увещевает сам себя в этот период страшной опасности. Вопреки мнению его сестры Эрмины, которое она иногда высказывала, святым он не был. Но в его дневниковых записях есть какая-то обезоруживающая искренность, которую многие знавшие его наблюдали и в его жизни. Посреди сражений он находит утешение в молитвах, в разговорах с самим собой и с Богом. «Душа моя пожухла. Боже, дай мне света! Боже, дай мне света! Боже, пролей свет на мою душу» (MS 103, 29 марта 1916 г.). «Бог — это все, что нужно человеку» (MS 103, 30 апреля 1916 г.). Как отличается этот человек от высокомерного студента, который, по словам Рассела, гораздо хуже относился к христианам, чем сам Рассел!
«Делай что можешь. Выше головы не прыгнешь. Будь бодр. Довольствуйся собой. Потому что другие не будут тебя поддерживать, а если и будут, то недолго (и тогда ты станешь для них обузой). Помогай сам себе и другим своей силой. И в то же время будь бодр. Но сколько силы человек должен расходовать на себя и сколько на других? Сложно прожить благую жизнь. Но благая жизнь — это что-то хорошее. И да свершится воля твоя, а не моя» (MS 103, 30 марта 1916 г.).
Только после нескольких месяцев, проведенных в опаснейших обстоятельствах, эти личные записки стали соединяться с философской системой, которую разрабатывал Витгенштейн, приобретя вид незашифрованных общих заметок о Боге, этике и смысле жизни; некоторые из них попали на последние страницы Трактата. Они отражают не только его недавний опыт, но и впечатления от чтения Шопенгауэра, Ницше, Эмерсона, Толстого и Достоевского (он так часто перечитывал Братьев Карамазовых, что знал целые пассажи из романа наизусть). Вот пример его впечатляющих заметок (Здесь и далее «Тетради 1914–1916» цитируются в переводе В.П. Руднева. — Примеч. пер.):
«Что я знаю о Боге и о цели жизни? Я знаю, что этот мир существует. Что я помещен в нем, как мой глаз в своем поле зрения. Что нечто, сказанное о нем, является проблематичным. Что мы называем это значением. Что это значение лежит не в нем, но за его пределами. Что жизнь есть мир. Что моя воля пронизывает мир. Что моя воля является доброй или злой. Следовательно, что добро и зло как-то связаны со значением мира. Смысл жизни, то есть значение мира, мы можем назвать Богом» (В.П. Руднева. — Примеч. пер. MS 103, 11 июня 1916 г.).
«Смерть не есть событие жизни, она не является фактом мира. Если под вечностью понимать не неограниченное временное направление, но вневременность, тогда можно сказать, что человек живет вечно, если он живет в настоящем. Чтобы жить счастливо, я должен быть в согласии с миром. Это и есть то, что значит “быть счастливым”. Тогда я, так сказать, нахожусь в согласии с той волей, от которой я завишу. То есть я как бы “творю волю Бога”. Страх перед лицом смерти — самый явный знак ложной, то есть дурной жизни» (MS 103, 6 июля 1916 г.).
«Когда общий этический закон установлен в форме “Ты должен…”, то первая мысль: “А если я этого не сделаю?” Но ясно, что этика ничего не может добиться путем наказания и награды. Потому этот вопрос о последствиях действия должен быть неважен. По меньшей мере, эти последствия не могут быть событиями. Но, помимо прочего, должно быть и нечто правильное в этом вопросе. Должен быть какой-то род этического вознаграждения и этического наказания, но они должны быть включены в само действие. И ясно также, что награда должна быть чем-то приятным, а наказание — чем-то неприятным. Я продолжаю возвращаться к этому! Просто счастливая жизнь хороша, несчастливая дурна. И если я теперь спрашиваю себя: “Зачем бы мне жить счастливо”, это уже кажется мне тавтологическим вопросом; счастливая жизнь кажется самооправданной, кажется, что только она и есть единственно правильная жизнь. Но это действительно в каком-то смысле глубоко таинственно: ясно, что этика не может быть выражена!» (MS 103, 30 июля 1916 г.).
В этих записках мы находим несколько взаимосвязанных тем. Одна из них — тема человеческого счастья: оно достигается только добрыми делами и только в этих добрых делах. Счастье невозможно достичь, если понимать его как внешнюю цель. Сюда можно отнести подход стоиков: не подвергать себя влиянию мира, особенно влиянию событий, угрожающих жизни. Еще одна тема — моральный солипсизм: суждение, что добро и зло не существуют в мире, а даруются через меня, через мой взгляд на весь мир. Наконец, присутствует утверждение, что этика — «трансцендентна», что самые важные ценности человеческой жизни — добро, счастье, Бог, все, что он объединил термином «Высшее», — не являются частью этого мира, ничем таким, что можно найти или открыть путем научного наблюдения физического мира. Эти ценности даруются через отношение ко всему миру и поэтому не могут быть частью мира. Но раз все, что можно выразить, то есть реальные объекты в мире и их свойства, должно быть выразимо с помощью научного языка, то из этого следует, что содержание этики выразить невозможно. Его можно только показать. Здесь мы видим различение того, что можно сказать и что — только показать, и это, как мы увидим, важнейшая особенность логического и метафизического учения Витгенштейна. Но впору задать вопрос, почему Витгенштейн сам не сказал нам, хотя бы отчасти, в чем состоит этика? Разве он только что не заявил, что ценности не являются частью этого мира, что доброе дело получает награду в себе самом и т. д., да и вообще что этика — то самое нечто, о котором нельзя говорить? Есть что-то парадоксальное в этом различении говорения/показывания применительно к его взглядам на этику, логику и метафизику.
Витгенштейн сознавал, что рамки его изысканий расширились. Ближе к концу лета 1916 года он писал: «Я работаю теперь не только над основаниями логики, но и над сущностью мира» (MS 103, 28 августа 1916 г.). Дневник он ведет в это время гораздо реже, чем раньше, но удивительно, что он вообще занимается философией в таких обстоятельствах, потому что лето тогда выдалось особенное. Дивизия, в которой он служил, оказалась под ударом русской армии во время Брусиловского прорыва и была вынуждена отступить с тяжелыми потерями (по разным оценкам, они составили до 80% личного состава). Затем были бои в Буковине, сражение при Коломые. Витгенштейн воевал образцово — это известно из отчетов его начальства. В одном из таких отчетов говорилось, что, «не обращая внимания на плотный артиллерийский огонь по каземату и рвущиеся мины, [Витгенштейн] наблюдал, откуда стреляют минометы, и определил их расположение. <…> Таким примерным поведением он оказал успокаивающее воздействие на своих сослуживцев» (McGuinness. Young Ludwig. Р. 242.). Его наградили двумя медалями и произвели в капралы.
За такое поведение на фронте в октябре 1916 года Витгенштейна направили в офицерскую школу в моравском Ольмюце. Здесь он познакомился с Паулем Энгельманом, молодым евреем-архитектором, учеником Лооса и другом Крауса, который разделял бóльшую часть художественных взглядов Витгенштейна и иногда публиковался в Die Fackel. Они быстро подружились. Это была замечательная дружба, она длилась больше десяти лет и привела к тому, что Витгенштейн и Энгельман вместе работали над строительством знаменитого особняка Маргарете Витгенштейн в конце 1920-х годов.
В Ольмюце Витгенштейн вошел в литературный кружок Энгельмана, который в основном состоял из образованных молодых евреев: интеллектуалов, художников и т. д. Витгенштейн сразу оказался в самом центре этого кружка, по сути став в нем звездой. Ведь он происходил из знаменитой венской семьи, обладал утонченным чувством культуры, изучал философию и логику у Рассела в Кембридже, разрабатывал собственную философскую систему и, наконец, что не менее важно, только что вернулся с Восточного фронта, где находился лицом к лицу со смертью. Участники кружка ставили Сон в летнюю ночь и мольеровского Мнимого больного, читали классических немецких поэтов — Гёте и Шиллера (однажды по этому случаю Витгенштейн воспел любовь Шиллера к свободе), исполняли салонную музыку, в частности Шуберта и Брамса, вели разговоры об этике, эстетике и авторах, близких Витгенштейну: Шопенгауэре, Толстом, Достоевском и Вейнингере, все вместе читали Новый Завет. Витгенштейн даже заставил их прочитать некоторые вещи Фреге и объяснил Энгельману фрегевскую философскую систему. В сравнении с нравственной и экзистенциальной трясиной фронта эти встречи были чистым наслаждением. Однако в Ольмюце Витгенштейн нашел не только отдушину для своей израненной души. Знакомство с группой избранных интеллектуалов также способствовало усилению его интереса к вопросам эстетики, размышления о которых всплыли потом в Трактате. Именно здесь ему наконец удалось установить связь между логикой, этикой и эстетикой и подтвердить идею Вейнингера, что эти три сферы — на самом деле одна и та же идея, уходящая корнями в древность (Ibid. P. 252.). Он записал в дневнике: «Произведение искусства — это объект, рассматриваемый sub specie aeternitatis, а благая жизнь — мир, рассматриваемый sub specie aeternitatis. Это и есть связь между искусством и этикой» (MS 103, 7 октября 1916 г. Sub specie aeternitatis — с точки зрения вечности (лат.).
Знакомство с членами ольмюцкого кружка можно расценить как примечательное еще в одной ретроспективной связи: это было единственное соприкосновение Витгенштейна с еврейской средой, хотя еврейство этих молодых людей и не было столь уж содержательным. Его связывала с ними скорее общая «потребность в самодельной религии» (78 McGuinness B. Approaches to Wittgenstein: Collected Papers. London, 2002. Р. 34.). По мнению Макгиннеса, Витгенштейн искал замену своему традиционному христианскому воспитанию, а интеллектуалы из Ольмюца — альтернативу еврейству, потерявшему для них свой традиционный смысл (79 Ibid. P. 34–35.).
В январе 1917-го Витгенштейн вернулся на Восточный фронт уже офицером. Перед этим он пожертвовал австрийскому правительству один миллион крон на разработку двенадцати-дюймовой гаубицы. Вскоре он снова участвовал в тяжелых боях во время июньского наступления русской армии, после чего был награжден еще одной медалью за храбрость и представлен к очередному званию. В феврале 1918 года его произвели в лейтенанты, а в марте перевели на Итальянский фронт. В ходе июньского наступления австрийских войск он проявил исключительное мужество и спас жизнь нескольким сослуживцам, за что был представлен к золотой медали «За храбрость», но в итоге получил награду более низшей степени. В характеристике Витгенштейна читаем: «Его исключительно отважное поведение, спокойствие, хладнокровие и героизм завоевали всеобщее восхищение в войсках. Своим поведением он подал замечательный пример преданного и храброго выполнения воинского долга» (McGuinness. Young Ludwig. P. 263.).
Год 1918-й оказался для Витгенштейна важным в нескольких отношениях. Во-первых, закончилась война, а для него даже на неделю раньше установления окончательного перемирия, так как недалеко от Тренто его взяли в плен итальянцы. Во-вторых, в этом году он потерял своего близкого друга Дэвида Пинсента. Дэвид не был призван в действующую армию, но учился на летчика-испытателя. В мае 1918 года во время пробного полета Пинсент разбился. Это была страшная потеря для Витгенштейна, и, возможно, именно ею можно объяснить желание покончить с собой, возникшее у него во время отпуска в Австрии. По некоторым сведениям, жизнь ему спас его дядя Пауль. Живописец и меценат, Пауль Витгенштейн служил управляющим и очень благоволил к племяннику Людвигу, с которым случайно столкнулся на зальцбургском вокзале, когда последний хотел совершить суицид (Ibid. P. 264.). Пинсент и Витгенштейн переписывались во время войны (через Швейцарию), и письма Дэвида служили для Людвига большим утешением. Получив в 1914 году первое письмо от Пинсента, Витгенштейн от радости даже расцеловал конверт. Он очень хотел снова увидеться со своим другом, называл его «мой дорогой Дейви» и писал в дневнике: «Чудесное письмо от Дэвида… Ответил Дэвиду. Очень чувственно» (MS 102, 16 марта 1915 г.). По этим фразам видно, что Людвиг действительно был безответно влюблен в Дэвида и сам это вполне сознавал, записывая в дневнике: «Интересно, думает ли он обо мне хотя бы в половину той силы, с которой думаю о нем я».
Последний, но не менее важный фактор: в 1918-м Витгенштейн закончил Логико-философский трактат. Посвятил он его Дэвиду Пинсенту.
Перевод: Максим Шер