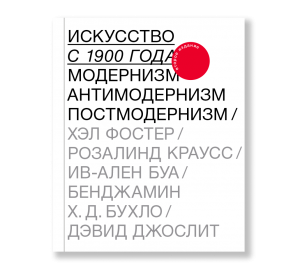Розалинд Краусс: Кино — живопись — видео

Судьбы кинематографа и визуального искусства, прежде всего живописи, переплетены сложной сетью отношений. Многие авторы раннего кино, в частности Сергей Эйзенштейн, изучали живописные методы организации пространства, построения композиции, использования жеста и переносили их из традиционных, неподвижных, картин в движущиеся — фильмы. В свою очередь художники-авангардисты искали статичные аналоги кинематографического движения и придавали своим абстрактным опытам новое измерение, выстраивая их в динамические последовательности или запечатлевая на кинопленке (см. Абстрактное кино 1920-х). Тем временем бурно развивавшаяся киноиндустрия всё больше обособлялась от других искусств, раскрывая собственные эстетические возможности и привлекая живописцев, скульпторов, музыкантов для исполнения вспомогательных функций на своей «фабрике грез» или находя в их жизни и творчестве привлекательные для публики сюжеты. В ином направлении работали независимые кинематографисты-экспериментаторы: бок о бок с художниками они исследовали особенности своего медиума, очищали его от театральных и повествовательных элементов, обнажали специфические условия встречи движущегося изображения и зрителя. Эти поиски привели к очередному пересечению кино и современного искусства в Нью-Йорке 1960-х годов, когда в центре внимания независимых режиссеров, с одной стороны, и скульпторов-минималистов, с другой, оказался телесный опыт пространства и восприятия. Тем самым, по мнению Розалинд Краусс, получила продолжение догадка Клемента Гринберга об «оптичности» — «третьем измерении» медиума живописи, которое выводит картину за пределы плоскости и связывает ее «феноменологическим вектором» со зрителем. В книге «Путешествие по Северному морю»: искусство постмедиальной эпохи, вышедшей в нашем издательстве несколько лет назад, Краусс выводит из этой догадки понятие собирательного, или сложносоставного, медиума, способное послужить описанию искусства, расходящегося с принципами модернистской редукции. Образцовые примеры такого медиума обнаруживаются в кино — как в работах американских независимых режиссеров 1960-х годов, так и в фильме Марселя Бротарса, главного героя книги Краусс, который оглядывается на «собирательный медиум» уже ностальгически, из постмедиальной эпохи.
Фильмы к отрывку:
Длина волны
Канада — США, 1967
Режиссер Майкл Сноу
Касание
США, 1969
Режиссер Пол Шаритс
Телевидение поставляет людей
США, 1973
Режиссер Ричард Серра
Путешествие по Северному морю
Бельгия, 1974
Режиссер Марсель Бротарс
В киноархиве «Anthology» — проекционном зале в нью-йоркском Сохо — в конце 1960-х — начале 1970-х годов ежевечерне собирались художники, кинематографисты и композиторы, привлеченные показом модернистских фильмов, которые Йонас Мекас собрал в длинный цикл, включавший произведения советского и французского авангардного кино, британской немой документалистики, раннего независимого кино США, а также Чарли Чаплина и Бастера Китона. Среди завсегдатаев этого кинозала, оборудованного креслами с подголовниками, которые помогали зрителю направить всё внимание на экран, не отвлекаясь на посторонние детали, были такие художники, как Ричард Серра, Роберт Смитсон, Карл Андре, объединенные глубокой враждебностью к созданной Клементом Гринбергом строгой теории модернизма с ее культом плоскостности. Вместе с тем они оставались убежденными модернистами — недаром первым местом их встреч стал именно киноархив «Anthology». Помимо прочего там демонстрировались и пропагандировались новые работы кинематографистов структуралистского направления — Майкла Сноу, Холлиса Фрэмптона, Пола Шаритса, — составившие дискурсивную основу, исходя из которой эти молодые художники нащупывали путь к своему — по существу модернистскому, ибо сфокусированному на природе кинематографического медиума, — представлению о кино.
Богатые плоды, принесенные выросшей из этих встреч рефлексией о специфичности кино, подготовил собирательный характер самого кинематографического медиума, который чуть позже побудил теоретиков определить кино как художественную технику исходя из идеи «аппарата»: в соответствии с этой идеей, медиум, или техническая основа, фильма — это не целлулоидная пленка с изображениями, не камера, с помощью которой эта пленка получена, не проектор, который оживляет ее, приводя в движение, и не экран, а всё это вместе, включая вдобавок и положение зрителя, который находится между источником света за его спиной и изображением, возникающим у него перед глазами. Структуралистское кино поставило себе цель привнести в эту сложносоставную основу единство, претворив ее в слитный и устойчивый опыт, представляющий тесную взаимозависимость всех перечисленных вещей как модель интенционального отношения зрителя к своему миру. Части понимаемого так аппарата можно было бы сравнить с вещами, которые не могут касаться друг друга, не подвергаясь прикосновению сами: подобная взаимозависимость выводит на первый план образуемую зрителем и полем зрения траекторию, по которой чувство зрения касается того, что в свою очередь касается его само. Фильм Майкла Сноу Длина волны — 45-минутный одиночный (не смонтированный), почти непрерывный зум — наглядно засвидетельствовал интенсивность, с какой художники искали целостное выражение подобной траектории в чем-то непосредственно данном и очевидном. Это что-то, явно призванное артикулировать дообъектную — в терминологии Мерло-Понти — и, следовательно, абстрактную природу связи между человеком и миром, может быть названо «феноменологическим вектором».
Для Ричарда Серры, одного из частых посетителей киноархива «Anthology», Длина волны, должно быть, оказалась важна вдвойне. С одной стороны, фильм Сноу развивается как горизонтальный наезд, создавая своим неуклонным движением вперед пространственную метафору отношения кино ко времени, ныне широко используемую в виде драматической формы саспенса. Поэтому стремление Серры придать скульптуре статус феноменологического вектора, который как раз и сводится к опыту горизонтальности, наверняка нашло в этом фильме эстетическое подспорье для себя. С другой стороны, что еще важнее, структуралистское кино как таковое имело все шансы показаться Серре созвучным поиску эстетического медиума, который, подобно кинематографу, не подразумевал бы редукции и вместе с тем, опять-таки подобно кинематографу, был бы решительно модернистским.
Переосмысление Серрой идеи эстетического медиума было, по-видимому, связано с общей для его поколения переменой в отношении к искусству Джексона Поллока — с возникшим представлением о том, что, стремясь (как утверждал Клемент Гринберг) преодолеть границы станковой картины, Поллок, однако, шел вовсе не в сторону ее расширения и уплощения. Скорее, он стремился вывести свой труд из подчинения живописному объекту вообще: расстилая холсты на полу, он переносил опыт искусства из области изготовления объектов, имеющих чем дальше, тем все более овеществленную форму, в область проведения векторов, связывающих объекты и субъекты между собой. Серра, истолковав такой вектор как горизонтальное поле события, столкнулся с необходимостью найти во внутренней логике самих событий выразительные возможности или конвенции, которые могли бы артикулировать это поле в качестве медиума. Ведь просто для того, чтобы художественная практика сохранялась, медиум нужен ей как опорная структура, задающая ряд конвенций, в том числе такие, которые в соотношении с самим медиумом как их субъектом будут для него в полной мере «специфичными» и поэтому способными породить опыт своей собственной необходимости.
Для развития этого тезиса здесь нам не обязательно знать, как именно Серра к нему пришел. Достаточно сказать, что он вывел требуемые конвенции из логики события создания произведения, определив это событие как серию — не в смысле штамповки идентичных отливок на манер промышленного производства, а в смысле дифференциальной структуры периодического или волнообразного потока, в котором отдельные ряды серийных повторений стремятся к некоей общей точке. Существенно, что медиум, который Серра испытывал и артикулировал, понимался им как нечто, собираемое из различных источников им самим, а не как совокупность материальных свойств чисто физической, сродни объекту, основы, и что при этом сам Серра продолжал считать себя модернистом. Пример независимого структуралистского кино — тоже сложносоставного и вместе с тем модернистского медиума — должен был убеждать его в верности избранного пути.
На этом этапе мы должны сделать краткое отступление в историю официального — приверженного редукции — модернизма, чтобы скорректировать приговор, вынесенный ему логикой специфических объектов Джадда. Ведь Гринберг — так же как и Серра, через осмысление живописи Поллока, — в конечном счете пришел к отказу от материалистического, чисто редукционного представления о медиуме. Как только он понял, что модернистская логика ведет к точке, где, по его словам, «учета только этих двух [основополагающих конвенций или норм живописи, а именно плоскости и ее границ. — Р. К.] достаточно, чтобы создать объект, который будет воспринят в качестве картины», этот объект разрешился для него в поток, сначала названный им «оптичностью», а затем — «цветовым полем». Иными словами, как только сущность живописи свелась для Гринберга к плоскости, он провел ось поля картины перпендикулярно ее наличной поверхности и тем самым перенес всю важность живописи на вектор, соединяющий зрителя с объектом. Его основное внимание, можно сказать, перешло с первой нормы (плоскость) на вторую (границы плоскости), которая в итоге была истолкована им не в качестве края, ограничивающего физический объект, а скорее в качестве проекционного резонанса самого оптического поля. В эссе Модернистская живопись Гринберг определил этот резонанс как «оптическое третье измерение», создаваемое «первой же меткой, наносимой на холст и разрушающей его буквальную и абсолютную плоскостность», а его источник усмотрел в сиянии чистого цвета — не просто развоплощенном и всецело оптическом, но и являвшемся для него «тем, что размыкает и расширяет картинную плоскость». Таким образом, «оптичность» была для Гринберга совершенно абстрактной, схематизированной версией связи, установленной некогда между зрителем и объектом классической перспективой, но такой ее версией, которая выходила за пределы реальных параметров измеримого физического пространства и становилась выражением чисто проекционных сил дообъектного зрения — «ви́дения как такового».
В подобной ситуации важнейшей задачей в отношении живописи оказалось уже не установление ее объективных свойств вроде плоскостности материальной поверхности, а определение ее специфического способа обращения к зрителю и выведение из этого способа новых конвенций — или того, что Майкл Фрид назвал «новым искусством». Одной из таких конвенций стало ощущение наклона вперед, вызываемое зрительными полями, которые всегда казались расходящимися от плоскости стены в глубину: этот своеобразный перспективный навал поверхностей побудил Лео Стайнберга связать с ними особое чувство скорости, названное им визуальной эффективностью спешащего человека. Другая конвенция вышла из присущей как произведениям, так и самому процессу их создания серийности, к которой обращались все как один живописцы цветового поля.
Можно, таким образом, утверждать, что в 1960-х годах «оптичность» стала чем-то бóльшим, чем просто свойство искусства: она стала его медиумом — причем медиумом, опять-таки, собирательным, идущим вразрез с общепринятым представлением о редукционной логике модернизма, которое по сей день связывается, как и сама эта логика, с именем Гринберга. Однако ни Гринберг, ни Фрид не видели в живописи цветового поля новый медиум: они говорили о ней лишь как о новой возможности, открывшейся перед абстрактной живописью. Не получил подобающей теоретической разработки и процесс-арт — термин, возникший применительно к ранним работам Серры. И, наконец, решительно незамеченным остался тот факт, что в обоих случаях специфичность медиума сохранялась, будучи в то же время внутренне дифференцированной аналогично тому, как это имеет место в модели фильма. Между тем нерв этой модели заключался в попытке снять внутренне присущие фильмическому аппарату различия в рамках некоей слитной, неделимой опытной единицы, которая — как, например, 45-минутный зум Сноу — призвана была служить онтологической метафорой, или фигурой, сущности целого. Для 1972 года структуралистский фильм-самоописание был, повторюсь, решительно модернистским.
И тут явился на свет «портапак», развеявший модернистскую мечту своим телевизионным эффектом. Поначалу художники пользовались видеосъемкой как технологическим усовершенствованием на службе сложившегося к тому моменту феноменологически ориентированного обращения к зрителю. Но она оказалась превратным выражением феноменологического подхода, так как сразу приобрела откровенно нарциссическую форму: художники без конца говорили сами с собой. Насколько я знаю, только Серра сумел осознать в то время, что видео — это на самом деле телевидение, то есть вещательный медиум, который раскалывает пространственную непрерывность на удаленные друг от друга места передачи и приема сигнала. Свидетельство тому — его видеоработы Телевидение поставляет людей (1973) и Дилемма заключенного (1974).
Пространственная разнесенность в сочетании с одновременностью при прямом вещании побудила некоторых теоретиков связать сущность телевидения с его использованием в системах видеонаблюдения. Но следует учитывать и то, что телевидение и видео многоглавы подобно гидре, способны существовать в бесконечно разных формах, пространственных и временны́х условиях, которые, как кажется, не могут быть собраны в единое целое ни из какой инстанции. Сэм Вебер назвал это свойство телевидения «конститутивной гетерогенностью», отметив, что «возможно, труднее всего понять, почему то, что мы называем телевидением, отличается помимо и прежде всего прочего от самого себя».
Модернистская теория оказалась беспомощной перед подобной гетерогенностью, не позволившей концептуализировать видеосъемку в качестве медиума, и мгновенный успех видео как практики выгнал со сцены модернистское по своей сути структуралистское кино. Ведь хотя у видео и была вполне отчетливая техническая основа — его, скажем так, собственный аппарат, — оно распространялось в своеобразном дискурсивном хаосе, в переплетении разнородных активностей и не могло быть осмыслено как нечто связное, представлено в перспективе некоей сущности или объединяющего ядра. Подобно «принципу орла», видео возвестило конец специфичности медиума. С началом эпохи телевидения — вернее, телевещания — мы вступили в постмедиальное состояние.
Текст и перевод: Алексей Шестаков