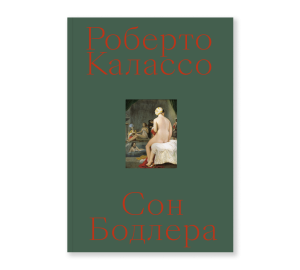Курцио Малапарте: Больной июнь

Рассказ Курцио Малапарте Больной июнь в переводе Владимира Бибихина был опубликован в составе сборника Писатель и литература. С разрешения составителей размещаем этот рассказ о лете и болезни в нашем журнале.
Когда врач сказал ему что он болен, по-настоящему болен, и что неплохо было бы ему подлечиться, если он не хочет разных неприятных неожиданностей, Паоло засмеялся, сам не зная почему; он слышал шум крови в своих венах и чувствовал какое-то жжение в груди, от которого хотелось и смеяться и кашлять одновременно. Врач не повернулся; он стоял у окна с рентгеновским снимком в руке и внимательно рассматривал его на свет, хмурил брови и сжимал губы.
— Вот, смотрите, — сказал он прослеживая ногтем мизинца белые ветки бронхо-лимфо-кровеносной системы, которые склероз тканей сделал жесткими и отчетливыми. Они похожи были на ветви дерева, а белесые сгустки кальцификации, опухолевые ганглии, рельефные грани срастаний казались листьями и плодами. Настоящее дерево, со своей кроной, светлой листвой; он чувствовал, как это дерево шумит у него в груди при каждом вдохе. У верхушки легких, менее ясно видные за светлой тенью ключиц, две подкожные вены, вспухшие и деформированные, казались двумя гнездами, спрятанными в ветвях этого белого дерева.
Паоло засмеялся и посмотрел на врача. В коридоре стоял непрестанный монотонный гул, похожий на долгую песню цикады. Ясно, это была первая июньская цикада; крестьяне на полях начинали уже жатву; шесть месяцев подряд шел дождь, теплый и маслянистый, его принес южный ветер; он заклеивал листья дуба, оконные стекла, ручки дверей, вогнутый кристалл моря, лазурно-зеленые бока гор. Хлеба поднялись плотные, прямо на удивление, но колосья были легкие и пустые, они гордо раскачивались под влажным ветром, который дул с моря. Паоло подошел к окну, отодвинул пыльный занавес, полоска живой лазури метнулась в комнату, скользнула как кусочек льда в ее серый и вялый воздух. Из коридора слышалась жалоба больного; в мягком голосе было отчаяние, — робкая и упрямая жалоба.
— Так вот, фибросклероз, — продолжал врач, — ничего серьезного, разумеется, но это штука, которая может стать очень опасной. — Лавиния осталась ждать его в коридоре, сейчас уже уехали бы из поликлиники, быстро вернулись домой, машину оставили бы где-нибудь и пешком прошли через поле.
— Доктор, — спросил Паоло с ленивым безразличием в голосе, — доктор, вы в самом деле думаете что я болен?
— Помилуйте! — воскликнул врач и развел руки таким жестом будто говорил: «Сами что ли не чувствуете, что там у вас творится?» — Если бы я был на вашем месте, — добавил он после секунды молчания, — то подумал бы о том, чтобы подлечиться. Например, оставить на какое-то время работу. Неужели уж так нужно работать? — он улыбнулся, как бы извиняясь за подобный совет… А хотел сказать, подумал Паоло, что не видит смысла терять время на работу при такой болезни. — Ну хоть не перегружайте себя работой, — врач принял игривый тон, — главное, не теряйте бодрости. — Простите пожалуйста, это мы всем так говорим, уже вошло в привычку. Вам, конечно, совсем не нужно, чтобы я вас заставлял бодриться.
Опираясь на руку сопровождавшей ее девушки, в комнату вошла старуха. Она переступала медленно и осторожно, постанывала, глядела вокруг испуганно и враждебно; рука ее то и дело поднималась к животу таким движением, будто старуха хотела проверить, не пропала ли цепочка, свисавшая у нее с шеи. У нее было восковое лицо со впалыми подозрительными глазами, которые временами загорались выражением бессильного и робкого коварства. Это была крестьянка, и черты ее лица выражали ту недоверчивость, ту жадную настороженность, которая в народе служит самым ярким нравственным симптомом физического страдания. Паоло подумал, что и он сам болен, что и на его лице, наверное, уже можно заметить ту же недоверчивость, настороженность.
— Что у нее? — спросил он тихо, глазами указывая на старуху.
— Рак желудка, — шепнул врач, — уже ничего не сделаешь. — И это «ничего не сделаешь» прозвучало в ушах Паоло как моральный диагноз, вынесенный ему самому, его нынешнему состоянию, всей его жизни. Старуха глядела на врача, на инструменты, на хромированную сталь оборудования, на рентгенограммы, развешенные по стенам, эти таинственные анатомические пейзажи, которые на фоне побеленных стен казались магическими панорамами костей и вен; потом посмотрела на Паоло — тяжелый, недобрый взгляд. Она смотрела на него со странным любопытством, с подозрительной внимательностью, будто хотела о чем-то спросить его, в чем-то его упрекнуть и ей лишь недоставало не то сил, не то смелости.
В раскрытую Паоло дверь врач заметил Лавинию, которая стояла в коридоре рядом с медсестрой, и бросился приветствовать ее, просить извинения за то, что заставил ждать. Лавиния была бледна, в легкой улыбке ее сомкнутые губы чуть разошлись.
— Ничего страшного, — сказал врач, — конечно, нужно лечиться, любая неосторожность может очень плохо кончиться. — Он улыбался и казался довольным, удовлетворенным. — Ну, ведь он не из тех, что могут наделать глупостей, — продолжал он, поворачиваясь к Паоло.
— Кто вам сказал что я не наделаю глупостей? — громко и хрипло сказал Паоло. Лоб его был влажен от пота, глаза горели мутным огнем. Врач замолк и взглянул на Паоло с удивлением и сожалением.
— Спасибо, доктор, — сказала Лавиния, опираясь на руку Паоло. Врач молча поклонился; во взгляде его было беспокойство; он сделал знак медсестре, вошел в кабинет и закрыл дверь за спиной.
По коридору в операционную санитарка осторожно везла тележку, на которой вытянувшись лежал больной. Он был очень бледен; пытаясь приподняться на локтях, он озирался вокруг непонимающим и вместе с тем ненавидящим взглядом. По подбородку его стекала слюна. У него был тот тяжелый и отрешенный взор, который бывает у больных, берегущих каждое движение и не желающих даже высморкаться, отереть губы, чтобы не тратить на бесполезные движения те малые силы, что они так берегут. Когда проходили мимо, больной зловеще посмотрел Лавинии в лицо и усмехнулся. Лавиния инстинктивно отвернулась; ее передернуло. Паоло шел опустив голову, в ушах у него звенело, он на секунду остановился взглянуть на удаляющуюся тележку, которая бесшумно катилась на резиновых колесиках. Медсестра медленно, медленно открыла дверь; в коридор проник лучик золотого света, разрезав мраморный пол.
— Что ты? — спросила у него Лавиния, когда машина вышла из города.
— Ничего, — ответил Паоло. Он должен был теперь отказаться от многого, от самых любимых вещей в жизни… Дорога поворачивала и шла вниз прямо к морю мимо пшеничных полей и сосновых рощ. Море переливалось блестками в просветах между деревьями, мягкий сладковатый ветер поднимал легкое облако желтой пыли. Небо было чистое, зеленовато-лазурное, над горизонтом висели розоватые, рыхлые и раздутые облака, грозовая туча кирпичного цвета с кромкой рваной, как у портящегося зеркала, выдвигалась из-за острых пиков гор. Утро чистое, мягкое — и всё же омраченное свежей заботой, болезненным воспоминанием.
После непрерывных зимних дождей и весенних ливней реки вышли из берегов, и сам июнь получался какой-то беспокойный и предательский. Больной июнь. Серпы жнецов врезались в хлеба, как нож хирурга в живое и чуткое переплетение тканей, как ножницы в пышные женские волосы. Было что-то жестокое, злое в кратком посвисте серпов, в хрусте подрезаемых колосьев, в самом натужном пении жнецов. И вместе с тем во всём была какая-то летучая радость, предчувствие счастья, тревожно-радостная праздничность, что-то молодое, юношеское. Жнецы подрезали золотые колосья, с каждым взмахом серпа продвигаясь на один шаг, а за ними, согнувшись, шли рядами девушки с повязанными в косынки ярких, броских цветов волосами, подбирая колосья и связывая их в снопы; и всё это казалось жесткой игрой, эпилогом сказки, которая кончается смертью всех героев. Но голоса жнецов были полны надежды; вновь обретенной надежды. Девушки, нагибаясь, обнажали ноги до колен, виднелись загорелые крепкие икры, в движении бедер была спокойная и уверенная грация.
Паоло остановил машину; сжав руку Лавинии своей неуверенной и дрожащей рукой, пошел по полю. Казалось, и Лавиния заметила ту смесь жестокого и радостного, молодого, которой был наполнен воздух, слабый румянец разгорелся на ее усталом лице, она шла летящей походкой — может быть, бежала от тайного страха, острого сожаления, спешила вперед к таинственному и счастливому сезону. Теперь они спускались по тропинке, огибавшей сосновую рощу, и под мягкими волнами ветра хлеба казались тихой медленной рекой. Щебет птиц скакал по монотонному звону кузнечиков, как по натянутой ленте. Шла, переваливаясь на узкой дорожке, молотилка, показались везде телеги, доверху груженные золотыми колосьями, отовсюду поднимался радостный шум голосов, музыка серпов и стук вил, урчание мотора добавляло к этой гармонии звуков, приятных для уха и сердца, властную ноту, голос команды. «Болен, болен, болен», — повторял Паоло про себя в такт с мотором, — «…болен, болен, болен». Но теперь это слово звучало уже для него как сладкая музыка, оно было словом из песни и не несло никакого призвука страдания и смерти. Лавиния посмотрела на него. И Паоло неожиданно почувствовал, что лето начинает выздоравливать, что оно уже начинает согревать листву того белого дерева, что сладко шумит в его груди.
Перевод: Владимир Бибихин