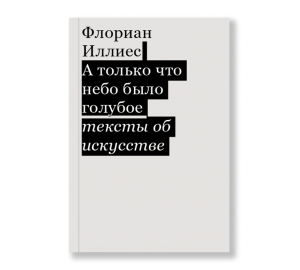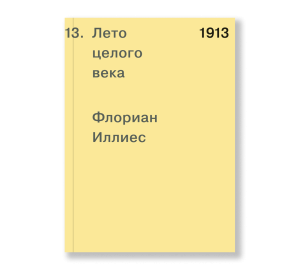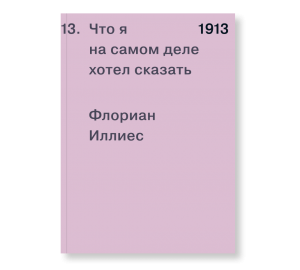«Мане есть живопись, а Бёклин нечто совсем иное»
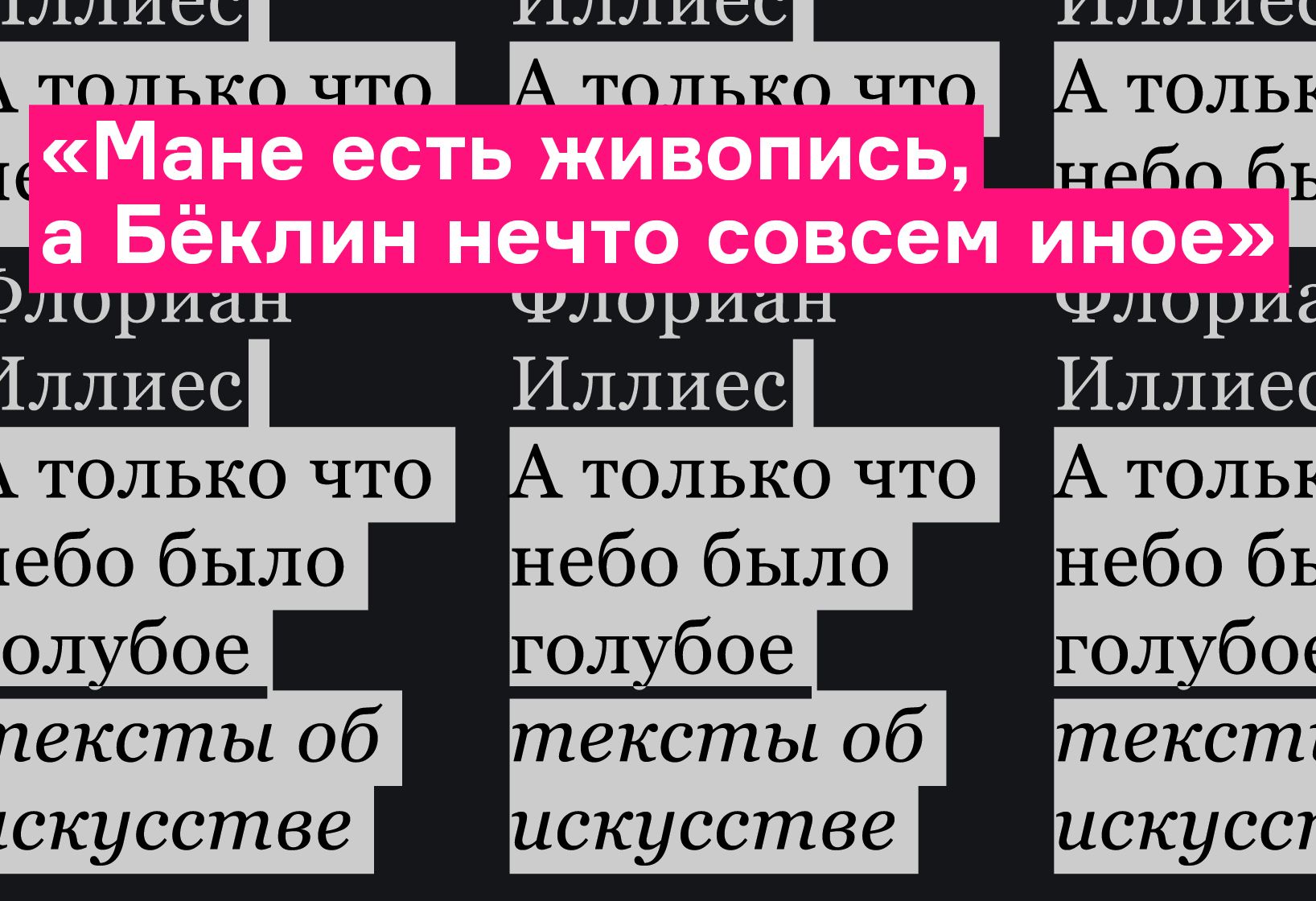
Илья Доронченков, искусствовед, заместитель директора ГМИИ имени Пушкина, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге — о книге Флориана Иллиеса А только что небо было голубое. Тексты об искусстве.
Мне кажется неслучайным, что книга Флориана Иллиеса открывается эссе о Юлиусе Мейере-Грефе. Имя это сейчас вспоминают нечасто, подозреваю, что и в его собственной стране, а между тем этот критик был одним из относительно немногих людей, совершивших сто двадцать лет назад революцию вкуса в консервативной и довольно провинциальной художественной Германии. Он объяснил немцам как понимать новую французскую живопись — импрессионистов и постимпрессионистов, более того — он создал язык описания и сформулировал критерии, которые позволили новой немецкой живописи осознать себя по-новому. В 1903 году он написал: «Надо твердо установить, что Мане есть живопись, а Бёклин нечто совсем иное». Эту фразу я прочел на страницах нашего «Мира искусства». Важно, что она тогда прозвучала по-русски, хотя в тот момент еще ни один из наших соотечественников не рискнул бы произнести эти еретические слова самостоятельно.
Собственно, не только вступительное эссе, но и все тексты книги — это в немалой степени приношение Мейер-Грефе, не столько его языку, для наших дней вполне уже архаичному, сколько его вИдению. Мейер-Грефе во многом — про вкус, и именно взгляд на историю искусства через историю вкуса привлекает меня здесь: история приобретения пейзажей Фридриха и Коро для франкфуртского музея — это именно история меняющихся оценок, это история личного выбора хранителя, который идет впереди вкуса нации. Столь разные по пониманию живописи и природы, эти пейзажи сейчас представляют собой гордость Штеделевского института, но так было не всегда, и рассказанная Иллиесом история трех не самых заметных работ немца и француза — это и драматическая история понимания, дозревания зрителя до высот опередившего свое время художества.
Невидимые миру драмы — вот что выявляет Иллиес и в канонических фигурах истории искусства. Есть ли что-то более непререкаемое, чем карлик-гигант Адольф Менцель? Он почти заслоняет собой весь немецкий XIX век (если мы забудем на минуту о Фридрихе). Но его путь — это путь от свежих и смелых этюдов конца 1840-х годов к пугающей всеядности его позднего творчества, в котором начинает царствовать механическое зрение художника, все фиксирующее, но ничего не осмысляющее, как в огромном «Рынке в Вероне». Или что может быть трогательнее, чем полуаматорские полотна доктора Каруса, целиком умещающиеся в жилетном кармане Каспара Давида Фридриха? Иллиес вскрывает трагедию и за триумфом Менцеля, и за фиаско Каруса — и эта трагедия, в обоих случаях личная, предстает одновременно трагедией реализма и романтизма, не способных выйти за свои пределы.
Вот этот почтительный, но пронзающий взгляд на святыни национального искусства, это переживание глубинной драмы там, где мы привыкли читать житие великого мастера — то свойство, которому русский, пишущий об искусстве своей страны, должен поучиться у немецкого коллеги.
Текст: Илья Доронченков