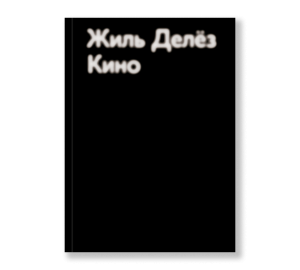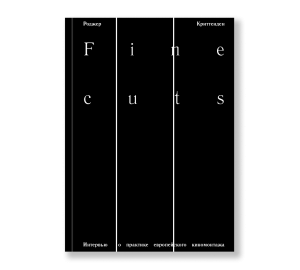Евгений Блинов: Мыслящий целлулоид, или Киномашины времени Делёза

Философ Евгений Блинов рассуждает о знаменитой дилогии Делёза Кино и о том, что осталось нам сегодня от делезианского кинематографического канона.
Философия встречает кино: the showdown
Может ли кино мыслить, а философия творить? Если да, то в чем состоит их специфическая техника или, как сказали бы формалисты, какими приемами они пользуются? Что даст нам их возможная «встреча»? В знаменитой дилогии о кино Делёз не просто дает синтез своих взглядов на то, что в эпоху, вдохновленную «злой феей романтизма», называли «философией искусства», а пытается понять, как создаются и работают концепты, отличные от философских. Это не история кино, предупреждает он на первой же странице опрометчивых читателей, а таксономия, попытка создать классификацию «изображений» [images] или знаков. Таксономия с неопределенным артиклем: одна из возможных или экспериментальная классификация открытого типа, отличная от соссюрианского проекта создания универсальной модели семиотических систем, что закономерным образом приводит его к прагматической семиотике Пирса. Философия может работать с чем угодно, но гораздо интереснее выяснить, как кино может работать с мыслью.
Философия для кино
По Делёзу, создатели кино не нуждаются ни в традиционной философии, ни даже в специфической кинотеории, если под этим не подразумеваются основы ремесла. Точно так же по Гегелю мы нуждаемся в логике для того, чтобы мыслить, не больше, чем в анатомии, чтобы дышать. Создатели кино для Делёза — это режиссеры, которых называют великими, они же часто выступают в качестве теоретиков. Теоретические работы для него ценны именно как размышления режиссеров о специфическом опыте работы с «изображениями» [images], которые принято переводить на русский как «образы». Но в этом случае сам термин нужно понимать исключительно в техническом смысле: «образы» или «изображения» ни в коем случае не являются символами или отражениями. Здесь Делёз остается верен своему антиплатонизму. За ними ничего нет: это элементарные единицы кинематографической экспрессии, своего рода «синéмы», по аналогии с фонемами. Через них прямым или опосредованным способом протекает время, в них клокочут аффекты и организуется мысль. Кино выработало специфические методы работы с изображениями: кадр, план, монтаж. Именно на этих принципах Делёз строит разделы своей таксономии: например, четыре национальные школы монтажа в предвоенную эпоху как четыре способа опосредованной передачи времени. Работа с кинематографическим инструментарием, который часто и ошибочно сравнивают с языком, может дать ответ на философские вопросы о времени и движении.
В поэтическом мире Маяковского имело смысл только то, что «отстоялось словом», в киномире Делёза только то, что движется в картинках. В его начале было изображение, слова приходят потом. Кино не может быть искусством ради самого себя: это самое имманентное, а потому важнейшее из всех искусств. Кинематограф важен как воспитатель : он не просто властвует над нашими аффектами, заставляя смеяться, плакать или сопереживать, а возвращает нам веру в мир. Он исправляет ошибку философов, когда-то ее поколебавших. Ницще просил прощения за Декарта у туринской лошади, Делёз, зовущий философствовать кинокамерой, в качестве извинения за Канта и Гуссерля хочет вернуть людям модерна «магическую» веру в мир.
Кино для философии
С легкой руки Делёза, святым покровителем кинематографа становится Бергсон. Ход достаточно парадоксальный, если вспомнить, что в «Творческой эволюции» он выдвигал тезис о статичном характере кинокадров, не способных передать движение. Но Бергсон поторопился и не понял принципов монтажа. Делёз уверен, что бергсонианство должно вступить в альянс с кинематографом. Классический довоенный кинематограф убедительно работает с движением, а послевоенный — непосредственно со временем, погружая нас в бергсоновскую длительность. Ему удается то, что никогда не удавалось передать посредством языка. Так Бергсон становится для Делёза концептуальным персонажем-трикстером в том же смысле, что Заратустра для Ницше: из гонителя превращаясь в апостола новой веры.
Отсюда два других великих отречения: от Языка и от картезианского субъекта. Кино не является семиотической системой, построенной по образцу языка в нормальном состоянии, как считал влиятельный в семидесятые годы киновед-структуралист Кристиан Метц. Стоит ли уточнять, что по этой причине кинематограф подходит для лакановского психоанализа не больше, чем детские игры в индейцев. Отрицает Делёз и альтернативный и еще более влиятельный феноменологический реализм школы Андре Базена (хотя нередко обращается к его работам). Субъективное или «естественное» восприятие не передает специфику кино-перцепции, которая не может быть сведена к единому субъективному центру. Кино — это мириады точек зрения на мир, доказательство реальности мыслящей материи, прорыв к нечеловеческому.
Если Платон, Декарт, Лакан или Мерло-Понти не годятся в кинематографисты, что за имена можно представить на спинке режиссерского кресла? Какую философию можно назвать киногеничной? Философия кино Делёза — своего рода двойная концептуализация. В каком-то смысле, Юм, Бергсон или Ницше были концептуальными персонажами делезовского проекта эмпиризма в высшем смысле. Философствующие режиссеры в сценарии Делёза становятся Гегелем (Эйзенштейн) или Юмом (Хичкок) за камерой. Кино — это продолжение дела мысли другими средствами. Поэтому неизбежны «великие отождествления», гибридизации и проекции философских представлений на киномир. Великий знаток каннибальских метафизик Вивейруш де Кастру с иронией отмечал, что исследователи «дикой мысли» превращают индейцев то в делезианцев, то в кантианцев, то в витгенштейнианцев, а порой не брезгуют откровенным хабермасианством. Режиссеры для Делёза — что-то вроде индейцев, ведь они мыслят отличным образом от нас, философов. И это позволяет нам получить новый образ мысли во всех смыслах этого слова.
Кино будущего и делезианский канон
Есть три основные проблемы или вызова для делезианской философии кино. Во-первых, все сказанное относится к аналоговым изображениям и «живой» пленке, цифровое изображение диктует свои правила и открывает дорогу новым техникам. Как работают движение и время в цифре? В чем специфика цифрового монтажа? Во-вторых, Делёз продолжает традицию анализа авторского кино, заложенную журналами Кайе де Синема и Позитив, но начиная с восьмидесятых годов киноиндустрия становится все более продюсерской. Как мыслят те, кто превращает изображения не в мысли и аффекты, а в звонкую монету? Что происходит, когда за камеру встают Адам Смит, Рикардо и Хайек? Наконец, как применять делезианские киноконцепты к анализу телесериалов, в которых преобладает не работа с изображением, а самый традиционный литературный нарратив? Не стоит ли их в таком случае оценивать скорее как оцифрованный театр? А ведь чаще всего, синьоры, это «глупый и злой театр». Который не нуждается в том, чтобы в него кто-то верил. И те, кто работает с «тригер-эвентами», «арками персонажей» и «актуальными диалогами» едва ли смогут что-то подчерпнуть из Кино Делёза. Подобно тому как «обожателям женщин» нечего было искать в Запорожской Сечи и ее предместьях.
Что осталось нам сегодня от делезианского кинематографического канона? Вдохновила ли его дилогия на создание новых форм? Был ли среди близких учеников Делёза свой Ришар Пина от кинематографа, ставший одним из пионеров электронной музыки, а среди читателей — кинематографический Фрэнсис Бэкон, сраженный точностью анализа Логики ощущений? Скорее нет, чем да. Хотя было бы здорово представить себе встречу Делёза и Тарковского, умершего в Париже через год после выхода второго тома, или головокружительную режиссерскую карьеру его родной дочери Эмили (в реальности весьма скромную). Но ведь реальные встречи чаще всего разочаровывают, а семейное наследство — совсем не делезианский метод. Не стоит искать прямых и очевидных наследников делезианской философии кино. Они нигде и повсюду, как и полагается бродячим мыслителям. Автор этих строк вспоминает о делезианских киноконцептах при просмотре сюрреалистических шизо-полотен отца японского киберпанка Синьи Цукомото («Тетцуо-железный человек») или очередной версии великого американского мифа от Мартина Скорсезе, мрачных готических фантазий Гильермо дель Торо, нео-барочных фресок Лео Каракса («Святые моторы») и даже холодных постчеловеческих поларов одного из самых недооцененных режиссеров Франции Николя Букриева. Хватит, хватит еще киномыслителей на наш век. Мы и сами не заметим, как он станет делезианским.
Текст: Евгений Блинов